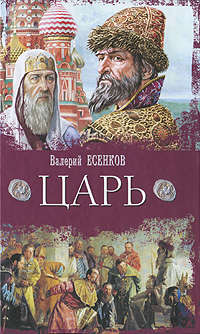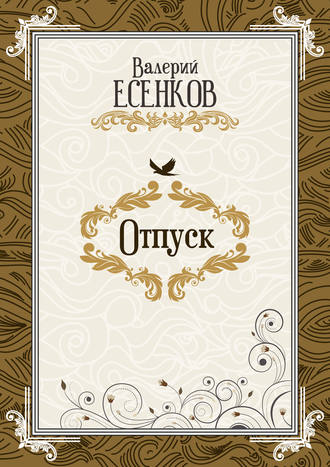
Полная версия
Отпуск
Федор втиснулся в кабинет, загудел:
– Там… из типографии… бранятся.
Он в бешенстве обернулся и взвизгнул:
– Пусть ждут!
Федор попятился от него, и кто-то отшатнулся у Федора за спиной, а он стальными пальцами стиснул перо, как кинжал, да вдруг очнулся и тихо положил безвредную деревяшку на почернелый чернильный прибор.
Большая половина стола была завалена срочными корректурами. Если отвлечься и задержать, ежемесячные журналы не появятся в установленный срок, нетерпеливые подписчики возмутятся, раздраженные издатели потерпят кое-какие убытки, разгневанное начальство с удовольствием сделает выговор, на то оно и начальство у нас.
А вдохновение, что ж, по боку вдохновение, даже если больше оно никогда не вернется к нему.
Гнев оставил его, Захар провалился сквозь землю. Он был готов исполнить свой долг. Только при мысли об этом в нем обмерло сё и застыло да потемнело лицо.
Аккуратно вложил он в раскрытую папку наполовину исписанный, неровно оборванный клок, своим свежим видом выделявшийся в куче других, в разной степени пожелтевших клочков и листков, затянул двумя бантиками тесемки, вернул папку на прежнее место, рядом с другими, которые тоже дожидались годами, когда наконец он возьмется за них, и бережно, боязливо запер шкафчик на ключ.
Однако не мог он в ту же минуту перейти к корректурам, как ни привык исполнять терпеливо, безоговорочно долг. Его теснила тоска по огромному замыслу. Он попробовал утешить себя одной из своих философских сентенций:
«Так устроена жизнь, она не щадит никого. Если нет в ней крупной беды, она язвит почти неприметно иголками. От этого никуда не уйдешь. Слава Богу, если только иголки. Надо покоряться судьбе…»
Согласно покивав головой, кое-как успокоенный своим благомысленным рассуждением, как бы плачущий ребенок был успокоен конфеткой, он закурил, затянулся несколько раз, с деловитой сноровкой развернул первый объемистый сверток, присвистнул, ощутив в руке его тяжесть, и неторопливо начал читать.
Но не понимал ничего. Он всё ещё брел, точно призрак, между разумным, осмысленным миром своей пробужденной фантазии и тусклой действительностью, давно утомившей его. У хорошей сигары долго не слышалось вкуса. Какие-то медленно угасавшие тени беспокойно толклись и топтались в неохотно замиравшем мозгу.
Призраки, тени… Никаких призраков он не любил, да и какой же он призрак с этаким брюхом?
Эта штука ему помогла. Сигара, как и положено, сделалась горьковатой. Он погрузился в несвои корректуры, точно провалился в болото.
Глава вторая
Служить на диване
Шесть изданий было у него на руках: «Пантеон», крикливая «Мода», «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений», «Журнал министерства внутренних дел», «Вестник императорского русского географического общества», а также любопытный «Журнал коннозаводства и охоты». С декабря ему прибавили «Отечественные записки». Стало их семь, а с истинным удовольствием читал он только один.
Все шесть, то путая значение слов, то небрежно затирая хорошее русское слово, то как попало ставя немецкие и английские термины, не понятные рядовому читателю, из месяца в месяц жевали давно избитые, прогорклые, скудные мысли. Порой он с трудом добирался до смысла, затем с привычной дотошностью выверял сухие периоды, каждое слово и каждую запятую на сотнях и сотнях убористо набранных корректур. В течение года на него сваливалось десять тысяч рукописных и тысяча печатных листов, по тридцать одних и по три других каждый день, однако почти вся работа неизменно приходилась на середину и окончание месяца, сначала рукопись, потом готовый набор, и он тот же текст прочитывал по три, по четыре, а бывало и пять раз, таким образом не менее тысячи рукописных и сотни печатных листов осаждали его в течение десяти-двенадцати дней.
Он дорабатывался до одурения и неделю, полторы, даже две болезненно, в унынии и хандре, возвращался в себя, а корректуры и рукописи целыми грудами вновь нарастали на рабочем столе, властно требуя от него нервов и нового напряжения, безжалостно вытесняя всё то, что он заботливо прятал в шкафу. Почти вся энергия мозга истощалась на этот периодический вздор, творчеству оставались объедки, несколько жалких, обглоданных крох.
Десять лет тянул он «Обломова» и не дотянул до конца даже первую часть.
Десять лет… целых десять…
Иногда он перебирал эти годы по пальцам: один год, два года, три года, четыре года, пять лет, шесть лет, семь лет, восемь лет, девять лет, десять лет…
Он сердито выверил бесцветные статьи вконец захиревшего «Пантеона», когда рявкнул ненавистный звонок и человек от Краевского подал ему аккуратнейшим образом запечатанное письмо. Редактор «Отечественных записок» убористо, мелко писал на желтоватой шершавой бумаге:
«Милостивый государь Иван Александрович, покорнейше благодарю Вас за то, что последнюю статью прочли Вы с должным вниманием и сделали мало вымарок, но духовная цензура её запретила. Я нахожусь вынужденным заменить её другою. Вы очень изволили бы меня обязать, если бы просмотрели её наискорейшим образом и не замедлили присылкой, чтобы типография успела с набором. С истинным почтением имею быть Вашим покорнейшим слугой».
Дремавший в передней рассыльный унес под мышкой цензурный экземпляр «пантеона», и он тут же не оборачиваясь спросил у Федора кофе, отодвинул другую работу, которая могла подождать ещё час или два, и взялся со всем должным вниманием неспешно читать запасную статью для «Отечественных записок».
Успокоившись наконец, приходя понемногу в себя после вдохновения нескольких строк, позабыв про Илью и Захара, читая, как велит долг, всё обдуманней, всё холодней, он подходил уже к середине статьи, когда Федор с громом поставил дымившую чашку и бережно развернул перед ним разграфленный измятый листок с колонками кривых, похожих на длинные кляксы прихотливо изогнутых цифр:
– Вот, Иван Александрович, счет-с.
Он бормотнул торопливо в ответ:
– Хорошо, хорошо.
Он с трудом разбирал какой-то вызывающий, точно дразнящий, неразборчивый почерк, маленькими глотками отпивал густой черный кофе, перебирал страницы, уже перемешанные на широком рабочем столе и без всякого умысла куда-то смахнул ненужный листок, над которым вдоволь бы посмеялся, будь у него для развлечений, даже невинных, свободное время.
Прошло минут десять, и Федор, безропотно, не издавая ни звука стоявший у него за спиной, подсунул этот продукт своего прилежания под самую руку и укоризненно объяснил густым рокочущим басом, дьякону впору, честное слово:
– Без счета нельзя-с, оборони Господь.
Он вскрикнул от неожиданности с перекосившимся от испуга и возмущенья лицом:
– Сколько раз…
Он свирепо скомкал листок:
– … я тебе говорил…
Он в ярости разодрал злополучный листок на клочки и, раскрывая ладонь, подбросил их вверх и выдохнул, глядя, как они серыми хлопьями падали вниз:
– … чтобы ты не совался ко мне с этим вздором!
Федор долго глядел на него свысока угрюмыми голубыми глазами, потом неодобрительно покачал растрепанной большой головой, вздохнул тяжело, подобрал, кряхтя и что-то ворча, обрывки своего добросовестного хозяйственного отчета, зажал крепко в кулак и с оскорбленным видом вышел за дверь, с размаху саданув железным плечом о косяк, непримиримо, чуть ли не грозно что-то бормоча себе под нос.
Он с досадой бросил перо. Он убеждался не раз и не два, что с этой минуты не здравый и потому справедливый рассудок, а своенравное раздражение проведет пером цензора по беззащитным словам, в раздражении долго ли до греха.
Он потянулся, поднялся, принялся порывисто, быстро шагать, чтобы движением развлечь и успокоить себя, раздражаясь ещё больше из-за того, что понапрасну теряет бесценное время и причиной тому, черт её побери, дотошная – честность его большого болвана, ведь всякий другой сто раз бы украл и он бы был этому рад, лишь бы не совались к нему, вот после этого и угоди человеку.
День что-то хмурился в невысокие узковатые окна. Деревянная лопата мерно шаркала на дворе. Раздавались визгливые женские голоса. Озябшая ворона пролетела куда-то.
Сё сердило, всё раздражало, всё мешало ему, даже ворона вызвала до того непонятную злость, что он готов был поверить себе, что та нарочно пролетела у него под окном, чтобы ему досадить.
Разумеется, нервы, а не ворона, виноваты во всем, это разум так говорит, а вот справься-ка поди с ощущеньями, когда они свое да свое.
А тут ещё Федор, набычась, что-то уж слишком укоризненно сверля его одним глазом, протиснулся вновь в просторную дверь и протянул громадную, как лопата, ладонь, на которой светлой росинкой блеснул ещё не затертый двугривенный, и угрюмо провозгласил:
– Вот, Иван Александрович, лишек. Прошедший раз писано у меня ошибкой за булки. Так уж извольте принять.
Разум и успел улыбнуться на эту прелестную честность единственного в своем роде слуги, однако нервы-то, нервы, от неожиданности так и завыли, он вскинул сжатые кулаки, запрыгал, затопал и завизжал:
– Да убирайся ты, уби-ра-а-ай-ся ко всем чертям!
Федор попятился, крестясь и утробно урча:
– Грехи, прости Господи, ну и грехи…
Урчание привело его в чувство. В душе глухо, отчаянно охнуло:
«Боже мой! Господи! Прости меня, прости дурака!»
Разум холодно указал на непристойность, недопустимость поступка, и таким стыдом загорелась душа, что он должен был, он был прямо обязан без промедления к оскорбленному Федору пойти извиниться, но его останавливал глухой страх перед новой нелепостью, которую в таком раздерганном, взбудораженном состоянии он мог бы ещё совершить, бывали примеры, и память тотчас услужливо напомнила их, отрезвляя его новым стыдом.
Бегая взад и вперед, стискивая за спиной дрожащие руки, он клял себя и бранил, что деликатность не позволяла ему строго-настрого запретить этому упрямому прямодушному деревенскому увальню появляться в его кабинете без вызова. Он, как последний дурак, уважал, изволите видеть, свободу всякой личности без разбору, даже личность слуги, то есть особенно личность слуги, поскольку слуга унижен и без того своим зависимым положением.
Посыльный Краевского, теребя мохнатую шапку в руках, нерешительно взывал от дверей:
– Ваше превосходительство…
Он виновато сказал, обернувшись к нему:
– Да, да… Погоди…
Какую обязанность он возложил на себя сам перед обществом, которое следит за успехами отечественной литературы пристальней, чем за всеми другими успехами!
И заставил себя воротиться к столу и неторопливо читать, перечитывая для верности по нескольку раз, и добросовестно взвешивать каждое слово, перед тем как спустить на него всесильный свой карандаш.
Он снова был исполнительным, безупречным чиновником, не больше того. Глаза его покраснели, веки припухли. Времена всё застилал белесый туман. С годами эта напасть повторялась всё чаще, пугая его, что от непрерывного напряженного чтения малоразборчивых рукописей и полуслепых корректур он когда-нибудь ослепнет совсем.
Отпустив посыльного, поклонившегося ему чуть не в пояс, он старательно промыл больные глаза, осторожно касаясь, теплым чаем, поправил в камне и сел, вытянув ноги к огню. Невысокое пламя вспыхнуло и приласкало легким теплом. Хотелось уснуть ненадолго и хоть во сне забыть обо всем. Тоже, придумал обязанность перед обществом, которое следит за успехами отечественной литературы! Да ни за чем оно не следит, только делает вид и дремлет себе на боку, как дремало и сто лет назад, и ещё до Петра, как дремлет на диване Илья.
Но странно, он вдруг позавидовал презренному своему лежебоке, которого никак не мог досочинить до конца, и засмеялся негромко, не представляя себя на покойном широком диване, в измятом татарском халате, с глупейшими вздохами о новой квартире, с этой бессвязной мечтой неизвестно о чем.
Чему же завидовать?
И позавидовал вновь.
Он так и округлил от удивления рот и озадаченно поскреб подбородок. Не убранная утром щетина тонко царапнула кончики пальцев. Он подумал, одним быстрым взмахом, скользнув мимоходом, что это, пожалуй, сойдет, потому что уже всё равно он едва ли сможет выбраться нынче из дома, хотя неопрятность, неряшливость, в особенности эта забывчивость были ему отвратительны, но на мгновение отдыха освобожденная мысль, как ни странно, вновь заспешила другим чередом.
Он не так прост, его печально-бестолковый Илья, совсем не так прост, как не прост проглянулся Захар… Ну, разумеется, лежит и киснет и губит понапрасну себя, это понятно с первого взгляда, как было понятно ему, когда он задумал его, однако в действительной жизни бывает не так… В этой скучной, однообразной, прозаической жизни… То есть бывает как будто и так, а вроде бы вовсе иначе…
Вот он же совсем не дремал…
И с бессильной яростью припомнил прошедшие годы. С несчастным Ильей они в одно время приехали в город, университетский диплом, три живых языка, глубокие сведения из родной и всех европейских литератур, а место досталось в департаменте внешней торговли, где превыше всех эстетик, литератур и даже живых языков почиталось умение красиво, четко, без помарок и быстро переписывать отношения, в каком году было принято то-то и то-то, а в каком году то-то и то-то было отменено.
С десяти до трех, до четырех, до пяти и шести, если грозно прикрикнет перепуганное или разгневанное начальство, они оба усердно перелопачивали бездны бумаг, без устали рылись в старых и новых делах, которых с годами накапливалось больше и больше, то и дело извлекали заплесневелые архивы, добросовестно соображали не касавшиеся до них обстоятельства, миллионами пересчитывали чужой капитал, согласно приказу придумывали то уклончивые, то лживые справки, в поте лица своего отмахивали длиннейшие выписки, до отказа наполняя обширнейшие тетради с грозными грифами «нужное», «весьма нужное», «очень нужное», которые исчезали бесследно у молчаливо-сосредоточенных правителей дел, после чего им с Ильей выдавались новые обширнейшие тетради, с теми же грозными грифами, с той же спешкой и пустотой.
Они оба чуждались этой бессмыслицы. Ум, беспокойно-пытливый у того и другого, доискивался с алчной тоской непременно великих, даже величайших идей, возвышенная душа непременно жаждала знаменитого поприща, где бы оба могли во всю ширь, во весь мах развернуть свои недюжинные силы, напрягая в грандиозном деянии эти недюжинные силы до самых последних пределов, а долгими зимними вечерами грезили о неведомых странах, о подвигах морских путешественников, о славе открытий…
Что говорить, славны, благородны, возвышенны были мечты… Однако вперед ушел только один. Другой по своей доброй воле бросил переливание из пустого в порожнее, подал в отставку и остался лежать на просторном диване… И вот они оба, разумеется оба… несчастны…
Потревоженные поленья разгорелись привольно и весело. Стало больно глядеть на огонь. На глаза навернулись скупые, невольные слезы. Иван Александрович прикрыл их твердой рукой, защитив от палящего жара, но две соленые капли скользнули по нагретым щекам, освежая своим холодком, и он отодвинулся от огня, чтобы не раздражать больные глаза понапрасну, и вдруг расслышал тоскующий голос:
– Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято… да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а оттого, что двенадцать лет во мне был заперт огонь, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас. Итак, двенадцать лет, милый мой, прошло, не хотелось уж мне просыпаться больше…
Вот оно что!
Он отнял руку от затуманенных глаз и прямо взглянул на яркий огонь, не страшась его острого жара.
Это правда, святая и горькая правда. Свет заперт в нем, свет бьется, трепещет, чадит, но свету души уже нет настоящего выхода, и вечно, должно быть, станет тот свет жечь понапрасну толстые стены житейской тюрьмы, пока наконец не разрушит его самого унылой апатией, несносной тоской, пока он не погибнет вместе с тюрьмой, то есть пока вместе с ним не погибнет, в одно время с его опустелой, без смысла протащившейся жизнью, так и не долетев до людей, которым был должен светить…
Он стиснул зубы, но тут же иронически усмехнулся, приподняв углы рта, и другой голос насмешливо справился у него:
– Зачем же не вырвался ты, куда-нибудь не бежал, не важно куда, лишь бы спасти себя и свой свет и светить? Зачем молча гибнешь, стыдливо затаившись от всех?
Это был давний, трезвый, неотразимый вопрос. Десять, двадцать, тысячу раз выспрашивал он пристрастно себя, где же то разумное место, куда бы мог он бежать, чтобы свету души отыскался простой, естественный выход светить. И десять, и двадцать, и тысячу раз он не находил убедительного, прямого ответа. И с болью отчаянья выдохнул первый, тоскующий голос:
– Куда бежать мне, куда?
И он, подняв голову, очень тихо повторил сам себе:
– Да, в самом деле, куда?..
В утробе камина оставалась невысокая горка слабо рдевших, мерцавших углей. Две короткие черные головешки, медленно догорая, вспыхивали последними беглыми огоньками. Вверх поднимались два синих дымка. Ещё минута, ещё две или три, и от головешек не останется даже следа.
Если бы так же не оставалось следа от мыслей, время от времени терзавших его…
Он наклонился, взял кочергу и сердито пошевелил отставшие головешки, чтобы они догорели скорей, точно прогонял наваждение, однако наваждение не оставляло его. Он думал с горькой обидой, что слишком разные, непохожие, несравнимые тропки вели его и Илью, но, в сущности, привели к одному и тому же.
Рассуждая бесстрастно, как и положено рассуждать, он очень давно для того и придумал Илью, чтобы прежде других себя самого остеречь, чтобы зло осмеять свои ненавистно-дурные наклонности к созерцательной лени, рано примеченные в себе. Для него эта книга должна была стать воспитанием, и он всласть потешился над своими пороками, полагая, что от этого сделался лучше. Вот, он не лежал, он трудился от зари до зари, чего же ещё?
Кажется, ничего, а они погибали вместе с Ильей, один от застарелого тупого байбачества, другой от бессмысленных неустанных трудов. И ни в том, ни в другом для животворного света не находилось необходимого, обыкновенного выхода…
Он тоже мертвел с каждым днем…
Рассыпались последние головешки, золотистые угли стали чернеть.
Он вдруг вскочил, возмущенный: не головой же биться об стенку! Чего доброго, коль распустишь себя, до чего не дойдешь!
А плоды нытья вечно те же: сколько времени потеряно даром, сколько оставалось ещё просмотреть, прочитать!
Иван Александрович закурил коротенькую сигарку дешевого крепкого табака, прибавил в оплывшем канделябре свечу и придвинул к себе ненавистные корректуры, твердо намеренный к сроку исполнить свой долг.
Часа три не покладая рук просидел он над ними. Крепкие сигары перестали действовать на давно утомленные нервы. Тогда, ощущая неприятную горечь во рту, он позвонил, чтобы приказать Федору самовар, придвинул новую связку бумаг и принялся вычитывать статью для «Вестника географического общества». Одно место показалось ему подозрительным: что делать, и география у нас под цензурой. Он старательно перечитал это место, забывши о самоваре и Федоре, для верности заглянул в цензурный устав, решился оставить безобидный, но справедливый намек на постепенное запустение иных областей обширного государства Российского не то от рокового стечения непредвиденных климатических обстоятельств, не то по извечной тупости невежественного начальства, и привычные глаза сами собой двинулись дальше.
Так звонил он несколько раз, то вспоминая про самовар, то забывая о нем. Он напрягал последние силы. Через день, через два он станет почти совершенно свободен на две недели. Тогда отдохнет хоть немного, а нынче надо исполнить урок.
Это подбадриванье себя самого вдруг прервалось неожиданным звуком. Дверь за его спиной приоткрылась. В боязливую щель отчасти просунулась темная голова. Чужой невыразительный голос глухо, осторожно спросил:
– Чего изволите-с?
Решив любой ценой довести свои труды до конца, ни во что постороннее не вникая пока, он приказал торопливо, отмахиваясь, дернув назад головой:
– Чаю подай!
Ему согласно и негромко ответили:
– Счас.
И голова послушно задвинулась в коридор.
В приоткрытую дверь он успел уловить, что в квартире что-то странно шуршало, точно ворочался большой осмотрительный потревоженный зверь, однако другая статья, которую он успел снять механически сверху, слава богу, убывающей груды, показалась с первых же строк интересной сама по себе, и он принялся читать с особым вниманием, устало радуясь нежданному развлечению.
В квартире, однако, продолжало что-то шуршать, и на новый нетерпеливый звонок неслышно всунулась новая голова, тоже согласно буркнула сакраментальное «счас» и тоже отвалилась назад, как упала.
Обернувшись невольно, он поднял глаза и успел мимоходом поймать, что голова на этот раз была пегой, а не темной, как прежняя. Это верное наблюдение скользнуло мимо сознания. Он продолжал упорно читать слезившимися глазами. Тем не менее в нем все-таки закопошилась тревога. Он стал перескакивать через слова, через фразы, почти не вникая в их содержание, если содержание в них, разумеется, было.
Он наконец испугался.
Он представил, что доверчивый Федор куда-то исчез, что чужие и по одной этой причине опасные люди бесстыдно вторглись в оставленную без присмотра квартиру, ловко шарят по комнатам и подкрадываются уже, должно быть, к нему. Таким образом, он перестал находиться под надежной сенью благоустроенного порядка, который ограждает добропорядочных граждан от разбойников и воров.
Он почувствовал себя беззащитным. Отчаянный страх сдавил его душу. Воображение разыгралось. Будь он моложе, он, того гляди, пустился бы вопить «караул». Однако он был немолод, во всех случаях жизни умел рассуждать хладнокровно и тотчас отогнал свои глупые страхи. В конце концов, сказал он себе, ему нечего было терять в его утомительной, неспокойной и бессмысленной жизни.
Оттолкнув назад кресло, он неловко вскочил, заковылял на затекших ногах, машинально ещё напрягаясь понять последний, какой-то уж абсолютно загадочный, длиннейший абзац многоречивой статьи о густопсовых породах собак и решительно загадочное отсутствие Федора, недовольно дернул дверь его сумрачной комнаты, освещенной одним огарком толстой свечи, которая дымила красным колебавшимся прыгавшим пламенем, открыл рот и остолбенел.
В тесноте запущенной, сильно пропахнувшей ногами каморке для слуг двигались беспорядочно, переваливались, качались, размахивали без всякого смысла руками взъерошенные, темные, обломанные, незнакомые люди. В остановившихся мутных зрачках уже не светилось никакого сознания. Багряно-зеленые измятые лица расплывались в дурацких улыбках, как перестоявшее тесто. Бессвязные слюнявые губы тупо тянулись, не в силах слова сказать.
На смятой постели, свесивши длинные толстые ноги, валялся бесформенный Федор. Его зрачки закатились. Глубокие провалы исчезнувших глаз мертвенно желтели остановившимися белками.
Иван Александрович громко, властно крикнул на них, и они один за другим покатились за дверь, точно жидкая грязь. На его громкий призыв приплелся хмурый заспанный дворник и, потянув Федора за ногу, кликнул на помощь сапожника из подвала напротив. Вдвоем они умело раздели безгласное тело, порыскали в лицо холодной водой из ведра, потерли виски разведенным, мерзко пахнувшим уксусом, однако не добились никакого успеха и равнодушно оставили Федора спать, сообщив, что парень непременно проспится к утру.
И точно: по всей квартире поднялся и забулькал удушливый храп.
Иван Александрович опомнился посреди кабинета, держа себя за нос правой рукой. Собственно, удивительного, необычного, невероятного не произошло ничего. Он привык наблюдать, как в нынешней жизни всё точно блекло и вяло и былое веселье за стаканом золотого вина превращалось в потребность забыться, но ему вдруг показалось, что это всего-навсего сон, несуразный кошмар издерганных нервов, какие доводилось видеть не раз.
С оторопелым видом он воротился назад.
Федор был вдребезги пьян наяву.
Для верности он потрогал бесчувственное тело рукой. Голова Федора бессильно мотнулась, из-под полуприкрытых редких рыжеватых ресниц угрюмо желтела полоска неподвижных белков. Он растерянно думал, возвращаясь к себе:
«Ах ты, зеленое вино, российское горе…»
Посреди темного коридора, когда он отыскивал ощупью дверь, ему припомнилось удалое речение князя Владимира «веселие на Руси есть пити».
Он усмехнулся с тоской:
«Навечная, неизбывная заповедь…»
Наконец нашел дверь и продолжал меланхолически думать, бродя от стены, заставленной книжными шкафами, к стене, на которой были развешаны фотографии, сутуля широкую спину, опустив голову, тупо разглядывая мелькавшие носы замшевых домашних ботинок: