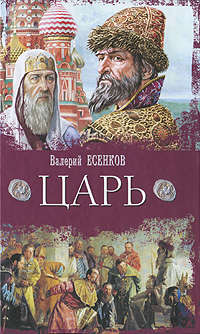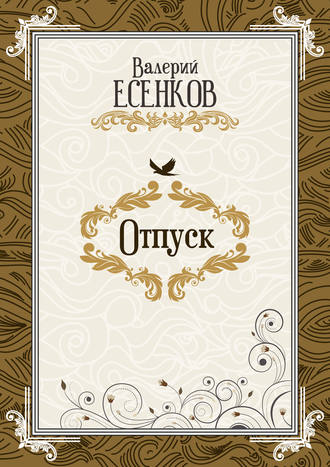
Полная версия
Отпуск
Ну, никаким первенцем он себя не считал, подобное заблуждение не коснулось его, однако он остался доволен, что пришла на ум именно эта философская мысль.
Лучше уж философствовать, чем тоскливо выть на луну, нет вернее лекарства для захворавшей души.
Общее впечатление, какое произвел на него наружный вид Лондона и тех стран, где ощущалось владычество англичан, а оно ощущалось везде, было странно: он не заметил там жизни. Повсюду была торговля видна, а не жизнь, да и сама торговля резко не бросалась в глаза. Только по итогам, по цифрам делался вывод, что Лондон первая в мире столица, а Капштат на таком месте, а Сингапур и Гонконг на таком, когда по этим цифрам сочтешь, сколько громадных капиталов обращается в день или в год. Он только ахал от изумления, но ничего не видел лазами, такая господствовала кругом тишина, так все физиологические отправления общественной жизни совершались стройно и чинно. Кроме неизбежного шума колес, другого он почти не слыхал. Город как живое существо, казалось, сдерживал дыханье, сдерживал биение пульса. Не было ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости мало слышно даже между детьми. Всё было рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики тоже взимается пошлина, как с окон и шин. Экипажи мчались во всю прыть, но кучера не кричали, да и прохожие никогда не зевали. Пешеходы не толкались, в народе не замечалось ни ссор, ни драк, ни пьяных на улице, хотя, по его наблюдениям, почти каждый англичанин напивался во время обеда. Все спешили, бежали, ни одной беззаботной, ленивой фигуры.
Словом, торговля – это рассудок, расчет, а не жизнь, обращение капитала, обмен не чувствами, а товарами, приход и расход.
Как в службе: обязанности рассчитаны, приказы обращаются, обмен бумаг входящих и бумаг исходящих, нынче одни корректуры, назавтра другие, а жизни-то – жизни и нет.
Вот подчинил он себя течению этих мудрейших законов, и что?
Жизнь ушла.
И была, и казалось, что никогда не уйдет.
И он с грустью, с привычной насмешкой зрелого мужа припомнил веселую юность, когда был усердным студентом, с немым восхищеньем внимал каждому слову Надеждина и, разумеется, был смешно и пылко влюблен.
Он был добрым, доверчивым, восторженным мальчиком и многие вечера, краснея, вздыхая, проводил у неподражаемой Марьи Дмитревны Львовой-Синецкой.
Он сделал пониже подушку и завернулся поплотней в одеяло, надеясь согреться и задремать, не противясь капризам своей легконогой фантазии, забежавшей так далеко, и фантазия, вырвавшись беспечно на волю, развернулась во всю свою ширь.
Он увидел себя как живого: взбитые светлые кудри на гордо вздернутой, возбужденной, кружившейся голове, стройная, легкая, гибкая талия, модный фрак без единой морщинки, перчатки белейшие, прекрасно облегавшие небольшие изящные руки, восторженно-непреклонная вера в спасительную святость упоительного искусства и прочих наук в пылавших жаром синих глазах, неутолимая жажда бессмертной любви в закружившемся, глупом, чрезмерно отзывчивом сердце, огромный букет белых и алых до того свежих роз, что влага таилась в полураскрывшихся лепестках.
Он так удивился, что в самом деле был когда-то таким, и в тускневшей, засыпавшей уже голове проползло:
«Кто бы подумал… вот…»
Через двадцать пять лет превратился в угрюмого нелюдима.
Добровольно ли? По благородному ли самоотвержению? Из подчинения ли вечным законам мудрой природы? По милости ли сурового гражданского долга?
Однако ж и тот беспечный молодой человек, хорош ли он был?
Пожалуй, замечалась искренность в чувствах и мыслях, но обнаруживал одни достоинства в каждом, кого знал, с кем говорил, а скрытых пороков угадывать не умел.
Феноменальный был, должно быть, болван. Слава Богу, потом… поумнел… А глупенькими восторгами будто бы жизни, а на поверку вышло, так сплошной чепухи, бескорыстно и щедро поделился с таким же дураком Александром… и был доволен, до сухого блеска в глазах, что вытряхнул эту дикую, эту пошлую галиматью из себя… чтобы жить, а не витать… в облаках…
Да вот не потерял ли при этом чего… то есть не потерял ли жизни самой?..
Скажем, что за причина, что до слез одиноко ему?..
Все-таки не стал, как другие, не затиснулся в общую колею… но не по доброй воле принял на себя… эту муку…
Он встрепенулся и привстал на горячей постели. Сон, подступавший первой теплой волной, так и слетел. Он таращил глаза.
Нет, он не делал, он не должен был думать об это и попробовал сходу ухватиться за что-нибудь, хоть за сигары, которые что-то дешево обошлись Старику, и тут же представил себе, как завтра непременно заглянет в магазин Елисеева.
Елисеев знал его хорошо, уважал в особенности за то, что свой брат, не барин, происходил из купцов, и непременно, заслыша от кого-нибудь из приказчиков, воспитанных в правилах тонкого галантерейного обхождения, его имя, сам выходил с поклоном навстречу в смазных сапогах и толстой суконной поддевке, пряча улыбку в кольца запущенной бороды, внимательно глядя в лицо, справляясь почтительно о здоровье, угадывая и предупреждая желанья.
Но, очевидно, он слишком и надолго устал. Вертлявые зябкие мысли плохо повиновались ему, то и дело возвращаясь к больному, к чуткому месту.
Был ли он в глазах Елисеева человеком? Или был только мифом, то есть сыном купца?
Он даже плюнул в сердцах и плотней завернулся в пуховое одеяло, осторожно прикрыл напухшие веки и решился непременно, всенепременно уснуть.
В мягком почти невесомом тепле ласково согревалось бессильное тело, наполняясь приятно баюкавшей вялостью, однако и уютная вялость почти не помогала ему. В беспокойном сознании всё разрасталась, разрасталась тягучая боль, мысль продолжала трудиться с напряженной угрюмостью, растравляя душу стыдом и за то, что сделал, и за то, чего не сделал с собой, натруженная воля к ночи совсем слабела, и колючие подозрения, как шулера, скользили в обход.
Вдруг показалось, что он плохо или вовсе не знает себя. По его задушевным понятиям, в зрелом возрасте подобное упущение было непростительным и смешным, и он недовольно спросил, что бы могло остаться неизвестным ему о себе.
В уме, запутанном и бессильном, не нашлось никакого ответа, однако в тревожной душе становилось сильней и сильней чувство закоснелой вины, точно он совершил преступление или был уличен в непростимом грехе.
Надо было бы вновь отмахнуться от смутного чувства, тотчас забыть все обидные выкладки, но он, потеряв осторожность, подумал с тоской, что никакой вины за ним нет да не может и быть, не должно.
И перекатился на правый бок, сворачиваясь удобней, подтягивая колени к груди. При этом больное веко зацепилось за угол подушки. В голове зазвенело. Он затаился, не двигаясь больше.
Скованный неподвижностью, с несмолкаемой ноющей болью, раздраженный невозможностью спать, он окончательно выпустил нервы из рук, и чувство вины нарастало. Он и не верил этому чувству, и вновь придирчиво проглядывал прошлое, но ничего предосудительного не находил, и это в особенности настораживало его.
Что же это такое, человек всегда виноват, перед Богом, если не перед собой и людьми, но он обнаруживал только, что всегда незаслуженно, много, одиноко страдал, а подлецы, казалось ему, не страдают.
Как прикажете понимать?
И тогда, раздраженный не поддающимся анализу чувством вины, этим затянувшимся, как он буркнул, самообманом, надоевшем, несносном ему, привыкшему мыслить отчетливо и обманывать то шутливо, то иронично других, если навязчиво, неделикатно норовили влезть в его душу, он вдруг спросил себя прямо в лоб, отчего он не пишет уже столько лет, почему бесплоден, внутренне пуст, почему картины и образы бесследно исчезают во тьме, не успев проясниться, а он не может и не всегда торопится их удержать.
В самом ли деле он так состарился в сорок пять лет? В самом ли деле растратил душевные силы в горькой борьбе за квартиру и хлеб, в неукоснительном исполнении служебного долга? В самом ли деле заглох и закис, встречая непонимание и равнодушие близких? В самом ли деле смирился? В самом ли деле принял за нормальную жизнь изнурительный труд сличения всякого печатного слова с тупым и капризным цензурным уставом? В самом ли деле безвозвратно покорился судьбе?
Какой мог быть сон.
Приподнявшись, морщась от боли в боку и в глазу, он подоткнул под спину подушку и с досадой почесал некстати зачесавшийся нос.
Он презрительно усмехнулся. Кто бы мог опровергнуть, что времени после одолений и подвигов службы оставались какие-то жалкие крохи, однако по совести нельзя не признать, что он мог бы нацеживать час или два, чтобы прикидывать к «Обломову» хотя бы несколько слов. Кто бы стал возражать, что года напоминают то печенью, то одышкой, однако у него ещё не было права признавать себя стариком, и умелая мысль продолжала работать непрерывно и трезво. Он, разумеется, вынужден был согласиться, что слишком много души и огня растратил в канцелярии и в житейской борьбе, однако он именно в канцелярии и в житейской борьбе закалил свою силу, познал повседневную, мелочную, почти неприметную жизнь и проник в её, часто зловещие, тайны, без чего никогда бы не написал ни строки. И кто бы решился после этого спорить, что он духовно созрел, что никакое одиночество его не сломило, что он не смирился, не покорился судьбе.
Он всё это утвердительно знал, он гордился в душе, что стоек и тверд, но его лучшая книга продолжала лежать без движения, в обрывках, в клочках, в отдалении от ненужных бумаг, которые целиком занимали если не чувство, то ум.
У него было вдоволь такого рода ответов, которые то утешали, то вызывали досаду и боль. Фантазия и холодная мысль рождали такие ответы один за другим. Прошедшее, которое он так пристально изучал, чтобы предвидеть, что его ждет впереди, выплывало живым, неожиданным, в странно-капризных изломах, изгибах, смещаясь, меняясь местами, подчиняясь какой-то неведомой вол, точно поклявшейся пристыдить и ободрить его.
Так из рдеющей тьмы вдруг появился учитель. Губы толстые на грубоватом простонародном лице. Низкий лоб под зачесанной на бок челкой волос. Большие глаза под крохотными стеклышками сильных очков. Застегнутый до самого подбородка сюртук, острые уголки белоснежной сорочки и плотно замотанный шелковый шейный платок.
Надеждин привычно поднимался на кафедру, окинув одним пронзительным взором нетерпеливо ожидавшие переполненные скамьи, понурившись тотчас, осев, прикрыв глаза воспаленными веками, с несчастным лицом, начинал импровизировать философию творчества и просвещения, мерно качаясь, точно пристально глядя в себя, насыщая слова свои болью и гневом, проповедуя вместо урочного часа два или три, позабывши о будничном мире, не слыша звонка, не прерываемый никогда ни одним из притихших студентов.
Он расслышал издалека долетавший глуховатый взволнованный голос:
– Без сосредоточенного напряжения всех наших сил могуществом твердой воли ни один шаг вперед не возможен. Опыты разных стран и разных веков подтверждают, что успех просвещения исходит из дружных общих усилий. Но у нас, напротив, во всех действиях замечается отсутствие сосредоточенности и напряжения. У нас, что бывает, то бывает порывами, отдельными выходками. Все мы действуем врозь. Происходит ли это от лености, свойственной жителям холодного севера, где природа наслаждается жизнью только урывками, проводя большую часть времени в смертном сне, под сугробами, или есть следствие временного застоя, решать не берусь. Мы отличаемся отходчивостью в замыслах, нерешительностью в средствах, незаконченностью в действиях. За что ни примемся, всё бросаем на половине, к чему ни привяжемся, разлюбим через минуту…
Слушая тихий шелестящий срывавшийся голос, Иван Александрович думал, что человек, согласно законам природы, уходит, а лучшие мысли его остаются с другими.
И только ли мысли одни? Может быть, что-то ещё?
Надеждин ушел неприметно. О кончине страстного публициста, поколебавшего когда-то умы, промолчали газеты, о ней не узнали ни ученики, ни друзья, ни даже враги. Стояла середина суровой зимы. В промороженных улицах бесновалась метель, волны снега пробегали сильными струями в ущельях между домами, стоявшими в плотном строю. Три человека, пряча лица в поднятый воротник, шли поспешно за гробом того, кто был кумиром одного поколения.
О той печальной процессии ему рассказали позднее, и по прихоти памяти он слышал голос того, кто был мертв, однако в тех давних, точно бы отошедших словах по-прежнему таилось пророчество. Его и тогда, когда сидел в первом ряду, и ещё больше теперь, в бессонную ночь, тревожил неумолимый укоризненный смысл этих странно-решительных слов. Сам он так однозначно и наотрез рассуждать не умел. Ещё в те времена, на лекциях третьего курса, он внимательно и растерянно слушал, робея спросить, не в состоянии подойти к учителю ближе, страшась и желая более обстоятельных разъяснений.
И вот опять что-то враждебное, личное мерещилось в тех обличительных гневных речах, и он, точно спеша наверстать, что тогда пропустил, заговорил как с живым, и взволнованные слова прошелестели беззвучно:
– Вы, Николай Иванович, может быть, правы, то есть решительно правы, что только национальность дает писателю его колорит, его оригинальность и силу, чужое, то есть и самое лучшее в нем, способно всего лишь украсить, дополнить, а натура, именно натура-то и должна быть своя, родовая, из дальних, но властных, обильных криниц наших предков, и каждому суждено зачерпнуть из этого родника…
Он подумал, что всё это истинно так, что в неразрывной цепи поколений не бывает иначе, но тут же с испугом, печально спросил:
– А может, и у меня по-славянски нестойкая воля? Может быть, правду мне говорят, может быть, и во мне сидит хоть немного Ильи Ильича? Может быть, я слишком близко пришелся к национальному корню, оттого и не слажу с собой, отходчив от этого в замыслах, нерешителен в средствах, незакончен в поступках?.. Ведь я, без сомнения, русский…
Он так и впился глазами в окружающий сумрак. Он привстал, привалился боком к стене. Взгляд его что-то искал, о чем-то кричал. О помощи ли, о прощении ли был этот крик?
На ковре зеленела полоска лунного света. На столе громоздились бумаги. Одежда валялась на креслах.
Он задумался, силясь раз навсегда понять и решить. Нет, он не судил себя суровым судом своей совести: такой суд казался ему запоздалым или до времени, когда уже судят себя последним судом.
Скорее всего, размышлением он пытался смягчить, остудить в душе своей чувство вины.
Даже оказаться Обломовым он был бы искренне рад: тогда во всех его неудачах была бы виновата натура, и он мог бы спокойно уснуть, покорившись судьбе.
И он придирчиво проверял, ища отголосков, следов, хотя бы слабых намеков, и наконец с тоской облегченья сквозь зубы пробормотал:
– Халат и туфли, точно, обломовские.
Он уткнулся подбородком в распахнутый ворот. Охваченное отчаянием лицо подобралось, застыло. Глаза угрюмо глядели перед собой.
Он увидел родительский дом, куда только что воротился с дипломом и где охватило его домашнее баловство, все лица сияли от удовольствия видеть повзрослевшее чадо, предупреждать молодое желание, любимые готовить блюда, выпекать пироги с любимой начинкой, придвигать любимое кресло, взбивать до потолка пуховики, оберегать от шума, от мух, от скрипа рассохшихся половиц.
А он был проникнут проповедями Надеждина, готовый просвещать ненаглядную Русь, энергия юности хлестала в нем через край, в родимых местах ему было неприютно и тесно, Симбирск представлялся обленившимся захолустьем, нетронутой глушью, и он из родительского тепла, от перин, пирогов и пампушек, от бездельного, безмятежного бытия, под слезы стареющей маменьки, вырвался в Город, где жалованья не доставало на хлеб, на пару сапог и шинель.
Он поморщился, пожевал сухими губами, пробормотал:
– Пожалуй, что нет… Илье бы у маменьки было раздолье… Впрочем, Илья тоже отправился в Город… а маменька у него померла… об этом уж я постарался…
Голые ноги без промаха опустились в широкие туфли, которые носил он лишь перед сном и вставши от сна. Он привычно прошел в полутьме, взял сигару из полного ящика, который стол на положенном месте, ожидая его, взял не глядя серебряный коробок, тоже на своем месте ждавший его, с облегчением закурил, удобно запахнулся в старый испытанный кашемировый теплый халат и примостился в уютное кресло, поджав под себя одеялом согретые ноги, ощутив на минуту непривычный покой.
Что ж, натура натурой, однако на то нам Богом разум и дан, чтобы познать и, возделав, облагородить её, стало быть, человек просвещенный лишается того удобного права, которое позволяет сложить вину с воли и совести и переложить на кого-то или на что-то иное, к примеру, на общество или натуру, всё, мол, они, я не при чем.
Нет, натуру свою он возделывал непрестанно, и мысль продолжала работать сосредоточенно, пытаясь открыть ещё не возделанные поля. Воображение услужливо воскрешало дни и труды. Припоминались житейские испытания, которые он сам избирал, своей волей, отчетливо сознавая, что ожидало его. Перед внимательными прищуренными глазами копошились, часто меняясь, картины. Время приглушило, однако не тронуло их.
Он увидел себя в гостиной у Майковых. К обеду собрались самые близкие из друзей, и, когда подали кофе, он вдруг сообщил, между прочим, небрежно, как всегда сообщал, что через месяц-другой кругом света идет.
Шум поднялся неописуемый. Чем только не грозили ему? Как только не умоляли остаться? И что же? Да решительно ничего: он пошел кругом света, читал, сколько мог, великую книгу неведомых стран и морей и воротился живым.
Впрочем, одна Анна Павловна оказалась права: читать эту книгу досталось немалой ценой, особенно нескольких из последних страниц.
Он слегка улыбнулся, увидев себя на Аяне.
Узкая полоска песчаного берега. Отвесная стена угрюмых утесов за ней. На вершине десяток простых бревенчатых изб, американская торговая миссия и церквушка с прозрачным русским крестом на обветренной крохотной луковке.
Позади осталось долгое плаванье на старом фрегате, впереди лежало десять тысяч пятьсот верст сухого пути. Двести предстояло сделать верхом сквозь глухую тайгу по охотничьим тропам, шестьсот проплыть туземной лодкой по Мае, которая едва ли могла оказаться прочнее фрегата, сто восемьдесят снова верхом, и это лишь до Якутска, а какие там дальше пути, на Аяне знать не знал и думать не думал никто.
Таким образом, между ним и квартирой на Литейном проспекте лежали, взамен пройденных океанов соленой воды, океаны пресных болот, стремнин и снегов, мороз, тайга, невозделанная природа и невозделанные дети её, звери и – комары, которые, говорили, хуже зверей.
Сидя в нетопленом доме, он представлял себе эти десять тысяч пятьсот верст сухого пути, мечтая о том, чтобы этот путь каким-нибудь чудом усох, и поверить не мог, что он, коренной горожанин, человек исключительно кабинетный, одолеет эти тысячи верст болот и пустынь, да ещё и верхом, Боже мой!
Нет, он не был приготовлен для геркулесовых подвигов. Он вздыхал и брюзжал, полушутливо, полусерьезно умолял устроить качалку, в каких тех местах благополучно таскали калек и древних старух, а когда его упрекали за слабость, какая не пристала мужчине, он без тени стыда возражал, что он ещё немощней старух и калек, уверяя, что не видит для себя никакого посрамления в том, чтобы болтаться беспомощным кулем между двух лошадей, были бы только лошади посмирней.
Однако утром в день отправления, едва он вышел за дверь, ему подвели горячего молодого коня под черкесским седлом и подали узкое стремя, и он, по обыкновению тут же покорившись судьбе, взгромоздил на это седло все свои пять с половиной пудов, а вечером растрясенные пять с половиной пудов едва стащили с конского верха, и он проспал до утра в дымной юрте, на лавке, покрытой волчьими шкурами, не раздеваясь, кое-как найдя силы стащить сапоги.
А потом, не прошло и трех дней, жалел только о том, что темная ночь не позволяла двигаться дальше. Еловые ветви хлестали его по лицу, привыкшему к душистому мылу. Колени обдирались о стволы старых сосен, теснивших тропу с обеих сторон. Ноги распухали от непривычки сидеть часами в седле или мокли, когда он вместе с конем проваливался в холодную воду. Конь то и дело увязал по самое брюхо в грязи. И ничего, натура оказалась возделанной лучше, чем он полагал, копаясь в себе на Литейном проспекте, и он с видом древнего стоика верил и мерил окаянные версты, посмеиваясь над своим пугливым брюзжанием и снова по-стариковски брюзжа.
Иван Александрович с наслаждением затянулся, озорно подмигнув:
– Пожалуй, совсем не Обломов, а?
Какой же Обломов, когда отмахал эти геркулесовы версты, одолел и мороз, и болота, и ненасытные полчища таежного гнуса, который в самом деле оказался пострашнее хищных зверей.
Не дай, разумеется, Бог, но он прошел бы их снова и снова, как можно подозревать себя в обломовщине, в непростительной лени?
Однако…
«Обломов» всё ещё не был написан.
И подвиг его путешествия показался чуть не смешным. Вновь беспокойно глядели глаза, лицо обмякло, сделалось грустным, губы горько, с недоумением сжались.
Он нервным неловким движением до боли стиснутых пальцев раздавил окурок сигары в пустой прокуренной пепельнице и засветил поспешно свечу, словно свеча могла бы чем-то помочь.
Настроение капризно менялось. Удлиненный язык красноватого пламени ночной полумрак отодвинул недалеко, внезапно обнажив тесноту кабинета, неуклюжую мебель, раздавленную постель.
Ему стало так неуютно. В собственном кабинете он ощутил себя посторонним, ненужным. Он точно должен был куда-то уйти. Он и поднялся, суетливо болтая руками, сделал три кривых шага к молчаливо глядевшим дверям, воротился, схватил подсвечник с одиноко мерцавшей свечей и, прикрывая огонь свернутой в ковшик ладонью, для чего-то заспешил в коридор и там, точно спеша избавиться от него, опустил подсвечник на самый край тонконогого столика и принялся с потерянным видом бродить, в ночной рубашке до пят, в распахнутом длинном халате чуть выше пят, в полотняном ночном колпаке, терзаемый мыслью о том, что «Обломов» всё ещё не был написан. В черном зеркале отражалась, сверкая, свеча, и когда он проходил мимо неё, взмахивая руками, двигая воздух полой, огонь часто и грозно мигал, на неясной серой стене свирепо прыгала чья-то черная тень, сгущая тревогу и мрак.
Что-то было… что-то мешало… что-то должно было быть, что оставалось недоделанным в нем. Он это что-то с непримиримым упорством искал и как будто нащупывал, находил это неуловимое что-то, но тут же обнаруживал бесспорные оправдания, утверждавшие, что именно это что-то было не то, и принимался снова с остервенелым упорством искать. Ну, хорошо, думал он, может быть… не совсем уж… Обломов… однако нечто неповоротливое… медлительное… копотливое… все-таки есть…
Вот, скажем, люди, без которых так недавно ещё не умел прожить дня, его тяготили, и он посещал всё реже и реже самых близких друзей, о знакомых что говорить. Разве эта черта не роднила с Ильей? Да, в самом деле… но, может быть, он… узнал людей… чересчур хорошо… обнаружил нечто, сокрытое от других… себялюбие, например, праздномыслие, безответственность, сухость души… Правдоподобно весьма… но он вот замкнулся в себе… хотя те же друзья… и прежде… всё равно не понимали его, как он знал… Или ещё: его не занимали газетные новости, любопытства едва доставало… на одни объявления и курсы на биржах… однако о чем же это свойство могло говорить?.. Биржа – единственный барометр истинного положения дел, прочее так, лукавство, обман, болтай да болтай, бумага стерпит слова, а паденье рубля – это… обнаженная правда… стало быть, плохи дела… И объявления тоже… голос неприкрашенной жизни… если грабят, лишают достоинства, чести… так уж чего… порой сюжет на целую повесть, иной писатель по объявлениям мог бы писать…
Иван Александрович прислонился к стене, ненужно сдернул колпак с головы, смял и бросил на стол. Пламя упало, прижавшись к желтому воску, едва не погаснув совсем, однако удержалось на нитке, приподнялось и продолжало светить.
Он потер мелевшее темя, то место, где ныла и ныла томящая боль. Вот… избаловался, что говорить… дал волю капризам… изберег, излелеял тонкие нервы… не спал по ночам, если некстати вползали горькие мысли… или врывалась беспокойно жужжавшая муха… или голодный мышонок упорно скребся в пыльном углу… Он бежал от окна, если улавливал легчайшую струечку прохладного сквознячка, бранил дорогу в театр, если попадались ухабы, отказывался ехать на вечер, боясь пропустить привычный час отхода ко сну, и не без обиды стенал, если от супа припахивало дымком. Он частенько подремывал после обеда. Он любил помечтать ни о чем свободными вечерами, когда сладко курилась сигара и внезапные образы просто так, необременительно, понапрасну клубились в беспечном мозгу. Он давным-давно не надевал парадного фрака…