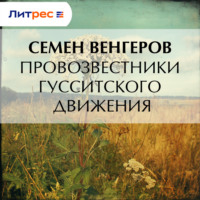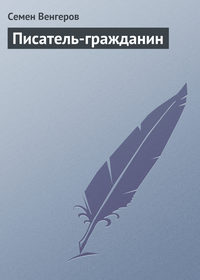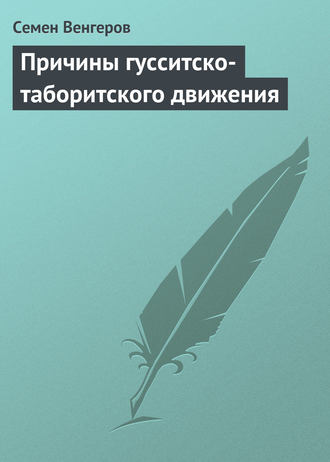 полная версия
полная версияПричины гусситско-таборитского движения
Точно также и теперь мы сравнением экономического положения чешского народа и соседнего немецкого постараемся показать, что гусситско-таборитское движение и крестьянские войны ни в каком случае не могут быть подведены под одну категорию. В Германии больше десяти веков неслыханного угнетения привели во взрыву, в Чехии же сто лет несравненно меньшего стеснения привели в еще более сильному протесту. Вот почему протест этот нельзя назвать экономическим. Быстрота его и сила показывают, как сильно было в чешском народе развито чувство равенства и справедливости, как сильно было стремление жить при порядках, которые ничем не оскорбляли бы чувства человеческого достоинства. Тут, следовательно, на первом плане не то, что чешскому народу, как немецкому, затянули горло, так что протест был явлением неизбежным и почти рефлективным. Об этом в Чехии, по единодушному отзыву исследователей всех оттенков, не было и речи. Вот почему мы и в праве сказать, что окраску гусситско-таборитскому движению дает не слабое экономическое неудовольствие, но совсем другие движения народной души. Несомненно, что важнейшую часть таборитского учения составляют его экономические требования, его протест против всякого экономического порабощения. Но, выдвигая эти принципы, табориты исходили не из существующих фактов, а из чисто-нравственного требования, чтобы все люди были братья между собою.
Подтвердим свое уверение еще некоторыми фактами.
Насколько слабо было экономическое стеснение, насколько внове было в Чехии крепостное право около времени гусситских войн, видно из той робости, с которою оно практиковалось. Основным признаком понятия о крепостном праве является несомненно запрещение покидать обрабатываемую землю. У нас в России крепостное право считается с того дня, когда Борис Годунов издал такой указ. В Чехии не только не было издано такого указа, но, напротив того, существовал специальный закон Варла IV-го, изданный несколько десятков лет до начала гусситских войн, которым всякому крестьянину дозволялось оставлять землю, им обрабатываемую[30]. Стеснение же заключалось в том, что были установлены известные формальности, которые несколько затрудняли свободный переход. Так, наприм., в 1380 г. в Моравии был издан закон, запрещавший давать приют тем крестьянам, у которых не было полного рассчетного листа с землевладельцем[31]. Таким образом мы видим, что усилившаяся власть господ не осмеливается открыто выступить против народа и старается обделывать свои дела с помощью мелких, незаметных, придирок. Поэтому нет ничего удивительного, что современники, сравнивая чешский народ с другими, считают его вполне свободным. Так, например, один чешский писатель XIV столетия утверждает, что несвободные люди известны в Чехии только из истории[32] (намек на уничтоженное Владиславом I рабство). Знаменитый чешский философ XIV ст., Фома Штитный, с ударением говорит: «Swobodit' jsu lidéjestlit' pané dêdina, clovêkt' jest Bozi[33]. (Все люди свободны, если поместья и принадлежат господам, то человек все-таки принадлежит одному Богу.)
Наконец сохранилось еще одно в высшей степени важное свидетельство о положении чешских „крепостных“, которое, пожалуй, делает излишним весь ряд приведенных выше фактов.
В 1383 году некий заграничный схоластик Ранконис де-Ерицино, получивший свое юридическое образование вне Чехии, выступил в Праге с трактатом, в котором, в целях увеличения церковных богатств, доказывал, что чешские крестьяне – крепостные и имеют только пользование землею (rustici sunt riboldi et servi, solum midum usum habentes). Но он был блистательно побит пражским генеральным викарием Вунешом, отличным знатоком канонического и туземного права, который на строгой почве фактов доказал всю несостоятельность утверждения иностранного юриста, воспитанного на общеевропейских понятиях и потому смотревшего на чешских крестьян тоже с общеевропейской точки зрения. В начале ответа Вунеш (или Кунзо, как он зовет себя по-латыни) старается убедить Ранкониса общенравственными соображениями. Он доказывает схоластику, что его утверждение „жестоко и дико“, что оно противоречит естественному» и что, наконец, оно идет «наперекор евангельскому благочестию». Затем Кунеш переходит на практическую почву туземного права и между прочим ссылается на «общественное сознание» (experientia publica) в доказательство того, что «в Богемском королевстве крестьяне свободны, а не рабы». Много еще раз подчеркивает виварий, что «крестьяне нашей» свободны, и наконец в заключение энергически говорит: «Итак, крестьяне платят только оброк, но они не крепостные и не временно только имеют пользование землею: они полные обладатели своего имущества и своих» («Sunt ergo incolae rustici emphyteutici et censitae – et non sunt servi vel usuarii, sed rerum suarum et jurium veri domini»[34].
Нас в данном случае не столько интересует самая победа Бунеша, сколько одна возможность спора. Во Франции мы Германии на Ранкониса посмотрели бы как на человека, доказывающего, что дважды два четыре, а на Кунеша – как на сумасшедшего. Хорош бы он, в самом деле, был, если бы с людьми общественного строя, основанного на крайнем неравенстве, вдруг заговорил о каком-то равенстве.
Чтобы дорисовать условия народного быта в эпоху непосредственного возникновения гусситсво-таборитского движения, прибавим, что известная хроника Далимила указывает нам на то, что еще в XIV столетии население каждой деревни состояло только из людей связанных кровным родством[35].
В XVII столетии, после 30-ти летней войны, в Чехии действительно установилось немецкое крепостное право[36] со всеми своими тягостями. Но народ не протестовал и безропотно сносил дотоле неизвестное угнетение. А сносил он его потому, что был сломлен дух его, – тот самый дух, который некогда затопил кровью поля Чехии за несравненно менее значительные уклонения от народных идеалов добра и справедливости.
Приведем в заключение цитаты из Шерра и Маурера, которые покажут нам, что мнение об отсутствии в Чехии крепостного права, в европейском смысле, основано на добросовестном сравнении, что даже недоумение профес. Гёфлера, меряющего немецкою меркой и потому считающего гусситско-таборитское движение беспричинным, вполне понятно.
Сравнение это важно не только в виду только-что указанной цели, но и для того, чтобы показать стойкость нравственных идеалов чешского народа, его способность отличать золото от мишуры, его уменье пользоваться хорошими сторонами цивилизации, отбрасывая при этом те, которые противоречат народным понятиям о правде и справедливости.
Дело в том, что Чехия до Карла IV, то есть до половины XIV столетия, была в известной вассальной зависимости от Германии. Как по этой причине, так еще и по многим другим, она находилась с нею в самых оживленных сношениях государственных, умственных, торговых. Такое близкое соприкосновение двух народностей не могло не повести к сближению чешских и немецких нравов. И действительно, во многих отношениях Чехия и Германия представляли как бы одну страну. Двор, духовенство, высшее городское сословие – все это в обеих странах имеет одну и ту же нравственную или, вернее, безнравственную физиономию. Но народной жизни это растление не коснулось: охотно заимствуя от немцев просвещение, выдвигая из своей среды множество умственных работников, народная жизнь совершенно не желает подчиниться другим сторонам немецкой «культуры». К развращенному двору и к забывшему свое назначение духовенству чешский народ относится с отвращением, а в своей среде продолжает соблюдать старую чистоту нравов. Еще стойче он стоит за свои общественные идеалы, и нужно было очень крепко за них держаться, чтобы так удачно в продолжение стольких столетий сопротивляться ослепляющему блеску «цивилизации», обыкновенно так победоносно подчиняющей себе цивилизуемые народы. И только благодаря такой замечательной стойкости, цивилизации гнета и неравенства не удается развернуть в Чехии этих своих качеств.
За то они развертываются пышным цветом в Германии.
Начнем сравнение с древних времен.
В Чехию рабство переходит из Германии в IX столетии. В Германии же оно известно уже в первых веках христианской эры[37].
«Были в Германии свободные люди, но рабов было еще гораздо больше. Весь народ распадался прежде всего на два большие сословия: на свободных или привилегированных – и на несвободных или бесправных. Последние были значительно многочисленнее первых. Сословие свободных и сословие рабов подразделились впоследствии каждое на два разряда, именно: первое – на благородных свободных (Adalinge, Edelinge, в старых законах nobiles) и простых свободных (Gemeinfreie, ingenui или liberi), а второе – на крепостных, обязанных служить или платить оброк (Liten, liti) и на собственных рабов (Schalke, servi). Рабы положительно становятся древними законами на одну доску с животными. Немецкий раб был вещью, товаром, орудием мены: господин мог бить его, увечить, убивать, потому что по древне-германским судебным уставам только свободные люди находились под покровительством законов. Крепостные, или литы, отличались от шальков тем, что им были предоставлены от господ участки земли для обработки и для пользования за известные услуги и уплату оброка и что они могли продаваться только вместе с той землей, на которой они были поселены. Крепостному, конечно, было лучше, чем настоящему рабу, собственно в том отношении, что ему представлялась возможность зарабатывать, наживаться и таким образом выкупаться впоследствии из рабства, причем, однако надо заметить, что потомки вольноотпущенного лита только в третьем поколении начинали пользоваться всеми правами свободных людей. Пока он был крепостным, он, подобно рабу, не имел права жаловаться и появляться лично в суде, а должен был выбирать себе представителя из свободных людей. Как жестоко поступали с рабами, видно уже из той статьи закона, что рабу, уличающему господина в преступлении, не следует давать веры. Чем больше бесправность несвободных, тем больше привилегии свободных: одни свободные имели право носить оружие; они одни имели место и голос в народном собрании (в Чехии судебные порядки были одни и те же для всего населения); они одни могли быть обвинителями, свидетелями и судьями; они одни могли исполнять обязанности жрецов. Таним образом богослужение, законодательство, администрация и судебная власть находились исключительно в их руках. О демократической струе, проходящей через древнегерманскую жизнь, можно поэтому говорить только в том случае, если ограничивать понятия народ меньшинством привилегированных, господ, свободных. Собственно же для народа древне-немецкая свобода состояла в тяжелых работах и лишениях, в больших оброках, в барщине и в палочных ударах. Его участь – участь крепостных и рабов – была очень печальна. Он должен был работать для праздных господ и за каждый проступок подвергаться жестоким наказаниям. бесправный в этой жизни, народ не имел также надежды и на загробное блаженство: только свободным людям был открыт доступ в Валгаллу Одина»[38].
Если сравнить эту характеристику с картиной древне-славянской или, в частности, древне-чешской жизни, не знавшей ни рабов, ни крепостных, ни жрецов, и если сопоставить ее с словами Козьмы: «все люди равны от природы», – словами, сказанными шесть веков позже охарактеризованного Шерром времени, т. е. тогда, когда краски этой характеристики стали еще несравненно гуще, – то едва ли нужно быть «славянофилом», чтобы видеть в демократичности черту специально-славянскую, которая, конечно, не могла не отразиться самым коренным образом на дальнейшем развитии социально-политического строя Чехии.
Перейдем к более поздним временам.
Положение несвободных людей всего менее улучшалось. Несвободные люди по-прежнему составляют цельную хозяйственную статью с «любезным скотом» (mit dem lieben vieh), как выражается Маурер[39]. Средне-вековые документы всегда выражаются так: «когда чьи-нибудь вещи (res), будь то крепостные, или скот, или золото, или серебро» и т. д.[40]. Если, по мере приближения к новейшей истории, отдельные личности начинают вдумываться в исповедываемое ими учение Того, кто населял свое царство неимущими, если появляется Маргарита Фландрская, освобождающая всех крепостных своего графства[41], то в общем положение серого деревенского люда все-таки остается ужасающим.
«Имущество, честь и жизнь крепостного крестьянина находились в руках господина и зависели от его произвола. Крестьянин не только подвергался всяким истязаниям, с ним просто обращались как с вещью, его продавали как скотину. Привычка смотреть на крепостных как на движимую собственность господина породила и другую привычку – тешить, во время распрей, страсть к разрушению над личностями, хижинами и полями крепостных»[42].
«Кроме физических мучений феодальное высокомерие изобретало еще и нравственные, с целью задушить в крестьянине последнюю искру чувства собственного достоинства. Брак крепостных обоих полов зависел от разрешения владельца имения или же его управляющего»[43].
Рядом с этим господин имел право заставить крепостного жениться на указанной ему невесте[44]. В некоторых частях Германии господин также имел право провести с новобрачной крепостной первую ночь.
Как индийский пария, немецкий крепостной осквернял того, кто с ним вступал в близкие сношения. Если свободный человек женился на крепостной, он сам становился крепостным в силу поговорки: «если ты садишься на мою курицу, то ты становишься моим петухом»[45].
«Надо только удивляться тому, – скажем мы в заключение словами Шерра, – каким это образом крестьянин ухитрялся жить, просто в физическом смысле, при всех барщинных работах и поборах, которые ему предстояло исполнять и выплачивать, при всех налогах, начиная с десятины и оброка и кончая лучшею штукой из крупного и мелкого скота, оброчною курицей и оброчным яйцом. Правда и то, что в годину неурожая голод истреблял бедных людей так, как ноябрский мороз губит мух»[46].
III
Ряд фактов показал нам в предыдущей главе, что если чешский народ в эпоху возникновения гусситства и испытывал известное экономическое стеснение, то интенсивность этого стеснения все-таки слишком ничтожна, чтоб объяснить грандиозные размеры движения. Перейдем поэтому к другой причине народных протестов – к политическому гнету. Посмотрим, можно ли этим фактором объяснить бурю народных страстей, перевернувшую вверх дном все здание чешского государственного строя.
Выше были указаны объемы и характер верховной власти в старой Чехии. Чешский князь был по стольку глаза власти, поскольку в такой власти нуждалась страна. Потомки Премысла всегда помнили свое происхождение, всегда помнили, что они сильны только народным выбором, и потому ни о каких «излишествах» власти не могло быть и речи, тем более, что всякий мало-мальски важный вопрос обсуждался всем народом[47].
Но с течением времени, по мере проникновения в Чехию немецкой «культуры», власть королей начинает усиливаться. Короли раздают принадлежащие им земли своим приближенным и немецким колонистам на началах, выработанных феодальною Европой, и на первых порах создают себе этим опору помимо народной массы. Поэтому мы замечаем исчезновение некоторых обычаев, наглядно показывавших тесный союз королевской и народной власти. Так, например, Оттокар I при короновании сына своего Вячеслава (1278 г.) считает возможным обойтись без древне-чешской церемонии[48], состоявшей в том, что избранный князь в простой одежде подходил в каменному, высеченному в скале, престолу и только севши на него облекался в пышный княжеский костюм. С этих пор о старой, полной глубокого смысла, церемонии совершенно забыли.
Чтоб увеличить свое обаяние, королевская власть окружает себя великолепием, о котором чешская старина не имела понятия. Средства для этого великолепия черпаются не столько в увеличении налогов, которые народ выплачивал крайне неохотно, сколько в доходах с богатейших рудников, открытых в Кутной горе. В начале XIV столетия рудники Кутногорские давали ежегодного дохода 100 000 марок серебра (около 20 000 000 гульденов) – сумма для того времени грандиозная. На такие средства не трудно было дивить всю Европу роскошью придворной жизни. И мы действительно видим, что чешские короли не пропускают ни одного случая, чтобы щегольнуть своим богатством. Оттокар II заслужил название самого блестящего государя своего времени. Сын его Вячеслав II устроил по случаю своего коронования такой пир на весь мир, что немецкие летописцы поставили его по великолепию выше пиршеств ассирийских царей[49]. И действительно, роскошь была сказочная. Со всех сторон Европы было приглашено несметное количество гостей. Их съехалось столько, что из королевских запасов отпускалось корму на 191 000 лошадей. Один Альбрехт австрийский приехал со свитою из 7 000 всадников. Всю эту массу народа, а также и пражан, угощали по-царски. На площадях устроили фонтаны, в которых была не вода, а прекрасное вино. Одной только живности было съедено на 800 марок серебра (около 16 000 гульденов). Для почетных гостей были выстроены великолепные палаты, вся внутренность которых была покрыта драгоценными материями и коврами. Коронационный плащ стоил больше 4 000 марок (80 000 гульд.); меч, который несли впереди короля, стоил 3 000 марок; посуда, на которой угощали знатных гостей, стоила 6 000 марок. Но самое удивительное были кольца, ожерелья, пояс и шляпа короля, украшенные такими драгоценностями, что никто не решался определить им цену[50]. В более позднюю эпоху, да и не в Чехии, одной такой картины было бы достаточно, чтобы составить себе ясное понятие о народных тягостях и силе верховной власти. Наприм. в Версали Людовика XIV каждый фонтан бил народными слезами, каждая аллея взращивалась народным потом. Но средневековое государственное хозяйство было устроено иначе. Короли имели регалии, доход с которых избавлял их от необходимости часто обращаться к народу с просьбою денег. В Чехии это общее правило имело особенное применение, благодаря большим природным богатствам страны. Что же касается обаяния роскоши, которое обыкновенно усиливает авторитет власти, облекает ее ореолом чего-то высшего, то блеск чешского двора производил совершенно обратное действие. Появляется целый ряд проповедников, как Конрад Бальдгаузер, Милич Кремзирский, Фома Штатный, которые громят мишурный блеск и взывают к простоте предков. Королевская власть дискредитируется их проповедью, потому что проповедь эта попала на наболевшее место – на приверженность в бесхитростной старине, на любовь в равенству.
Кроме блеска и робких попыток ввести феодализм, усиление королевской власти ничем не проявлялось. Чрезвычайно характерно, что попытки эти относятся к тому времени, когда в остальной Европе феодализм стал отживать свое время и уступал место абсолютизму. Карл IV чешский и Людовик XI французский были почти современники; а между тем один из них вел борьбу с феодализмом на жизнь и смерть, а другой – и то был чешский король – видел в нем опору своей власти. Гусситству пришлось таким образом иметь дело не с полным строем феодализма, а только с самым зародышем его.
К выгоде народа, союз королевской власти и феодальной продолжался не долго. они начинают враждовать между собой и этим взаимно ослабляют друг друга. История Чехии в эпоху возникновения гусситства представляет не мало примеров открытой борьбы короля с некоторыми из могущественных феодалов. Победа была то на одной стороне, то на другой, а в конце концов теряли оба. Слабое развитие крепостного права в Чехии показывает, что чешский феодализм совершенно не достиг своей главной цели – низведения народа на степень скота, а что касается королевской власти, то какая же это была власть, которая даже не имела возможности свободно распоряжаться чешским войском, то есть была лишена той материальной поддержки, без которой власть совершенно бессильна в достижении личных целей? Лишенная главной опоры, власть чешских королей была ограничена в наиболее важных случаях.
«Каждый раз, когда поднимались важные вопросы, касавшиеся всего государства, например: о престолонаследии, уступке областей королевским принцам, приданом королевским принцессам, важных мирных трактатах с соседними государями, введении новых органических законов, обложении чрезвычайным налогом и т. п., – созывались не только все сословия Чехии, но и депутаты от всех коронных земель (Силезии, Моравия и Лузации) и испрашивалось их согласие на предлагаемые меры»[51].
Таким образом видеть в гусситско-таборитском движении протест против королевского деспотизма – вещь совершенно немыслимая. Не следует забывать, что чешские сеймы не были собранием одних только привилегированных сословий, как в Германии, – в чешских сеймах принимал участие весь народ, кроме крепостных[52]. Исключение крепостных, конечно, отнимает возможность видеть в чешском государственном устройстве идеальное народовластие в том смысле, как его понимает Contrat Social. Но если удовлетвориться существующими в наше время демократическими конституциями, если даже смотреть с точки зрения Suffrage Universel, то чешский государственный строй конца XIV и начала XV ст. вполне подойдет под эту категорию. Ведь мы уже знаем, что число крепостных было настолько ничтожно в Чехии эпохи гусситских войн, что даже лучшие чешские юристы не знают о нем иначе, как об институте чешского права. Следоват. мы без всякой натяжки можем сказать, что «народ» в тесном смысле этого слова принимал участие в государственной жизни: к «народу» в тесном смысле принадлежит огромная масса свободных крестьян и даже так-называемое низшее дворянство, мало чем отличавшееся от простых крестьян.
Притом же здесь речь идет об ограничении королевского произвола, для чего достаточно несравненно менее полного народовластия. В Англии и Франции королевская власть была сломлена третьим сословием, которое, конечно, только по недоразумению может быть принято за весь народ.
Некоторые отдельные случаи «ограничения» королевской власти интересны как иллюстрации отношений страны к своему повелителю.
Ян Люксенбургский (ум. 1346), основатель новой династии на четком престоле, имел необыкновенно сильные рыцарские наклонности. Выше всего на свете для него было приобрести славу истинного рыцаря, поэтому он вечно рыскал по Европе, участвовал во всех турнирах, предпринимал разные нелепые походы и в конце концов добился-таки своего: он стал знаменитейшим рыцарем своего времени. Старинная французская поэма выражается о нем так:
Pren garde au bon roi de Beheigne (Bohème),Qu'en France et en Allemaigne,En Savoie et en Lombardie,En Dannemarche et en Hongrie,Et la pris (prix) et honneur conguerre.Для такой жизни нужно было много денег. Рыцарские правила требовали щедрости. Та же поэма говорит:
Il donnait fiés (fiefs), joyaux et terres,Or, argent.На все это кутногорских богатств не хватало, тем более, что и войско, как мы уже знаем, приходилось, в силу органического закона Чехии, содержать на свой счет. И вот рыцарь-король начинает занимать в разных странах деньги. Как человеку немецкого происхождения, ему казалось вполне естественным, что уплата его долгов есть дело «национальное». расчеты его однако же оказались ошибочными, – сейм на-отрез отказался. Только после того, как король торжественно дали документальное удостоверение, что уплатой его долгов страна освобождается от следуемой по закону дачи приданого королевским дочерям, сейм согласился на установление единовременного налога в пользу королевских кредиторов[53].
Но не в одних денежных делах чешские короли не могли распоряжаться по своему усмотрению. Всякий сколько-нибудь важный закон только тогда становился им, если он не противоречил обще-чешскому миросозерцанию. В 1355 году один из наиболее властолюбивых королей Чехии, Карл IV, предложил на усмотрение сейма составленный им и введенный в Германии новый судебник, так-называемую Majestas Carolina. Карл IV был одновременно императором германским и королем чешским, и вот ему хотелось установить во всем своем государстве одни и те же юридические нормы. Нужно заметить, что для своего времени Majestas Carolina была явлением прогрессивным, потому что она значительно ослабляла силу средневековых ордалий. Но в то же время она вводила в судопроизводство чрезвычайный формализм и буквоедство. Чехи были довольны своим бесхитростным старым судопроизводством, при котором тяжущиеся являлись и защищались как кто умел, что совершенно устраняла Majestas Carolina, вводившая римско-канонические порядки. Вот почему сейм отверг проект короля и Карл IV, чтобы как-нибудь затушевать свой позор, объявил, что проект Majestas сгорел и он потому оставляет в Чехии старые порядки. Из этого факта иные могут заключить, что чехи отвергли новый судебник из консерватизма, из непонимания «истинной цивилизации». Такое заключение было бы совершенно неверно, потому что, отвергши в общем казуистическое судопроизводство, сейм все-таки принял отдельные пункты Majestatis Carolinae, именно те, которые касались отмены варварских ордалий[54].