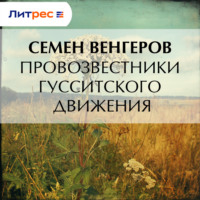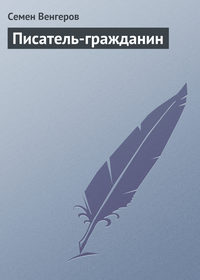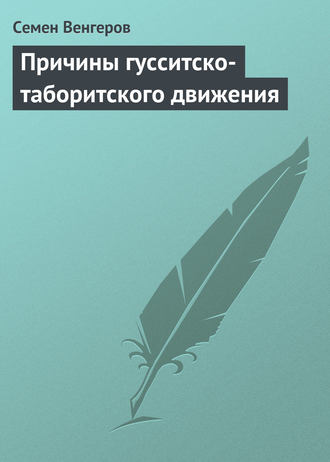 полная версия
полная версияПричины гусситско-таборитского движения

Семен Венгеров
Причины гусситско-таборитского движения
[1]
Главное впечатление, которое выносит каждый, кто знакомится с историей гусситско-таборитской войны, кто узнаёт про эти бесчисленные битвы и сражения, про эти сотни разоренных, обращенных в груду пепла и мусора городов, тысячи стертых с лица земли сел и деревень, десятки тысяч стоптанных и сожженных полей, сотни тысяч убитых людей, – главное впечатление, которое выносишь из этого моря крови и вообще из всей суммы произведений сумятицы есть, без сомнения, впечатление необыкновенной силы, необыкновенной интенсивности чешского движения. И действительно, оно принадлежит к самым сильным, к самым упорным движениям, какие только известны за все время исторического существования человечества. Из войн, которые когда-либо велись ново-европейскими народами, гусситские – самые упорные. Страшна была столетняя война, истощившая Англию и Францию; но то были две могущественные нации, занимавшие первые места в ряду европейских народов. Продолжительна и ожесточенна была тридцатилетняя война, потому что вся Европа разделилась на две равные враждующие стороны. Войны Людовика XIV, семилетние походы Наполеона – все это может-быть мало чем уступить гусситским войнам; но ведь опять-таки действующими лицами в них являлись могущественнейшие европейские народы, и притом очень редко одни, а большею частью в коалиции. Одна только борьба революционной Франции против соединенных монархов может идти в некоторую параллель геройской обороне малочисленного народа против полчищ целой Европы. Но не следует, однако же, забывать того, что революционные войны длились всего несколько лет, а гусситские – несколько десятков лет. Притон же Франция много-много обширнее, богаче и населеннее небольшого Чешского королевства.
Как же сильны и могущественны должны быть те причины, которые послужили источником такой необыкновенной выдержки и нравственной бодрости?
Мы сказали – «сильны и могущественны». Сильные должны были существовать причины, не зависевшие от чехов, сильным должен быть гнет, вызвавший противодействие, и могущественною должна быть высота нравственного чувства, нашедшего в самом себе такую несокрушимую опору.
Но, к удивлению, из этих двух факторов всякого народного движения в гусситско-таборитском вы находите только второй. Если вы станете искать в Чехии XIV века обычные причины народного неудовольствия, вы их не найдете. Конечно, до райского житья было очень далеко, но ведь припомните только объем протеста, – вспомните, что во всех народных движениях действие и противодействие всегда находятся между собою в самой строгой гармонии.
И действительно, мы видим, что исследователи, мало обращающие внимание на высоту нравственного чувства, как могущественного фактора в жизни славянских народов, становятся совершенно в-тупик. Профессор Гёфлер – ученый, сделавший из гусситско-таборитской эпохи свою специальность – прямо говорит:
«После многолетних занятий гусситством я не могу себе дать никакого отчета, каким образом дело дошло до революции, – до такой степени она мало проистекала из положения вещей»[2].
Недоумение почтенного профессора объясняется тем, что действительно трудно подвести гусситско-таборитское движение под один из обычных видов народного протеста. Протест политический, национальный, экономический и религиозный – вот типы, под которые может быть подведено всякое народное движение. Бывает, конечно, и смешение всех этих элементов, но один какой-нибудь преобладает и дает окраску целому. Жакерии были протестом экономическим, хотя конечно и желание политической равноправности играло в них роль. Такой же характер носят крестьянские войны в Германии, разиновщина, пугачевщина и гайдамачина у нас. Революция 1789 года была преимущественно политическая, хотя она встретила отклик и в экономически-угнетенном крестьянстве. Реформация была протестом религиозным, хотя и в ней нежелание откармливать католическое духовенство и желание князей захватить богатства духовенства играли не последнюю роль. Наконец, многочисленные восстания балканских славян следует назвать национальным протестом, хотя и в них экономическое угнетение народа турецкими податями и поборами имело огромное значение.
К какой же категории следует причислить гусситов и таборитов?
Ответ на это нам может дать только картина внутренних отношений Чехии XIV и начала XV века. Картина эта покажет нам, что гусситство и таборитство нельзя назвать экономическим протестом, потому что чешскому простому люду относительно жилось куда лучше, чем в остальной Европе, – что чешское движение нельзя назвать политическим неудовольствием, потому что в Чехии не было политического гнета, – что тут не применимо понятие религиозного протеста, потому что под религиозными требованиями наиболее характерных представителей движения таборитов скрывалось совсем иное содержание, – что, наконец, было бы совершенно неосновательно приписывать гусситству преимущественно национальный характер, хотя, несомненно, вражда между чешской и немецкою народностью подливала масла в огонь.
Мало имея сходных черт с обычными видами народных протестов, гусситство представляет собою крайне редкий случай чисто-нравственного движения. Против этого эпитета можно спорить, потому что во всяком протесте выражается стремление восстановить нарушенную правду и справедливость и, следовательно, в основе его лежит нравственная чуткость, готовность подкрепить слово делом. Но нельзя же не назвать более нравственным того, кто восстает только во имя попранной неправды, чем того, кто восстает потому, что эта неправда не дает ему свободно вздохнуть. Мы потому и называем гусситство чисто-нравственным движением, что оно проистекло не от обилия чинимой чехам, а от обилия в них стремления к правде.
I
Как и все славяне, чехи в начале своего исторического существования отличались от других народов большим развитием демократических чувств. Хотя новейшая сравнительная антропология и доказывает, что все народы проходят одни и те же ступени развития, она этим ничуть, однако же, не желает сказать, что все народы одинаково долго пребывают на той или другой степени развития и что всем народам та или другая степень развития одинаково приходится по вкусу. Интенсивность прохождения общих всем народам фазисов различна и это-то и создает племенные особенности. Нет никакого сомнения, что и германцы, и галлы, и иберы, также как и славяне – на заре своего исторического существования были более демократичны, чем в позднейшие времена, когда вместе с «культурой» явилось угнетение слабых и неимущих. Но разве все эти народы одинаково стойко отстояли свою первобытную свободу? Посмотрите, как быстро и прочно утвердилось в Германии крепостное право и как медленно, на протяжении многих веков, можно даже сказать целого тысячелетия, оно прививалось славянскому праву. Вот почему мы ничуть не впадаем в противоречие с новейшей антропологией, когда говорим, что демократичность есть племенная особенность славянства. Не в том смысле она – славянская особенность, что у других её не было, а в том, что славяне цепче других народов ухватились за нее. Византийские писатели знали много первобытных народов: и германцев, и гуннов, и куман, и хазар, и множество других. Все эти народы были одинаково первобытны и однако же демократичность (так-таки полным афинским термином δεροκρατία) византийцы отмечают только у славян.
Дальнейшие доказательства отвлекли бы нас в сторону, и потому ограничимся здесь одним, касающимся предмета статьи: сравним чехов с аборигенами Чехии – кельтическим племенем боев. Это сравнение покажет нам, что далеко не все народы, находясь на одной и той же ступени развития, имеют одни и те же общественные понятия и учреждения.
О жизни самих боев не сохранилось особенно много указаний, но нет никакого основания полагать, чтоб она чем-нибудь отличалась от образа жизни кельтов Галлии и Италии, о которых осталось больше известий.
Всякое кельтское племя «распадалось на множество самостоятельных друг от друга волостей, но народ в них разделялся на наследственные сословия с весьма неравными правами. Жреческое сословие друидов пользовалось огромным влиянием, благодаря своей иерархически-судейской власти и страху пред религиозным проклятием, предать которому зависело от него. Дворянство было сильно земельною собственностью и установившеюся в среде низших классов привычкою подыскивать себе дворянина-покровителя. Оно одно вело войну и скоро захватило, всю власть в свои руки. Народ хотя и был первоначально свободен, но не имел однакоже никаких средств заставить слушать себя, кроме вступления в число клиентов могущественных дворян, которые за принятие под свою защиту пользовались услугами защищаемых»[3].
Ничего подобного мы не встречаем у чехов. Первые слабые проявления сословных перегородок появляются не раньше III века. То-есть когда чехи стояли на неизмеримо высшей ступени культуры, чем кельты первых веков по P. X., когда у них появилась уже литература и были такие летописцы, как Козьма Пражский. Чрезвычайно характерна фраза, которую этот самый Козьма влагает в уста Премысла, первого князя чешского. Из земледельца сделанный князем, Премысл обращается к своим будущим преемникам и увещевает их не злоупотреблять властью.
«Пусть помнят наши потомки про свое происхождение, пусть не допустят себя до того, чтоб угнетать своим тщеславием людей, порученных им Богом, потому что все люди равны между собою от природы»[4].
Такая фраза, конечно, сочинена самим летописцем и характеризует понятия того века, в котором он хил.
Все вообще предание о Премысле чрезвычайно интересно для характеристики народных чешских идеалов. До Премысла высшею властью пользовался Крок. Народное предание не делает его сыном богов или знаменитым воином, – нет, Крок достиг высшей власти тем, что своим умом, справедливостью и заботой об общем благе превосходил всех современников[5]. Когда он умер, править стала умная дочь его Любуша. Но она скоро вышла замуж за Премысла, которому и передала власть. Премысл был простой крестьянин и народные послы, пришедшие известить его о выборе Любуши и о даровании ему княжеской власти, застали его на ниве, которую он вспахивал.
«Премысл женился на Любуше и возвел ее на престол. Престол этот был каменный и при возведении на него у чехов, как и у других славян, был обычай, что восходящий на престол приходил к нему в бедной одежде простого человека, в ознаменование того, что и он происходит из простого народа, и уже взошедши на него одевался в богатую княжескую одежду. Еще во времена Козьмы[6] в княжеском дворце сохранялись лапти, которые надевали князья при торжественном короновании»[7].
Любуша наследовала своему отцу не потому только, что она была дочь его, – у Крова было три дочери и Любуша была младшая. Она стала правительницей не по старшинству, а по справедливости, потому что была самая умная из трех сестер. Даже в более поздния времена, когда верховная власть значительно окрепла, одного права наследования было мало, чтоб укрепить права чешских герцогов на престоле. Вошло в обычай, что престол принадлежал дому Премысла, но кроме этого непременно требовалось народное избрание. Вот, например, ответ Собеслава I (1126 г.) в споре с императором Лотаром, не хотевшим признавать его богемским герцогом:
«По старому праву выбор герцога принадлежит только представителям народа»[8].
Когда Владислав II назначил своим преемником сына своего Фридриха, не спросив мнения страны (1173 г.), в Чехии поднялось страшное неудовольствие. Чехи жаловались императору Фридриху I и говорили, что без «свободного выбора» народа желание Владислава незаконно[9].
Самое устройство власти было очень своеобразное. Князь был князем не к силу божественного права, не в силу средневекового взгляда, что страна есть собственность владельческого рода, а в силу того, что власть его нужна была для блага народа.
«Тем, чем был в каждой семье или в отдельном племени старейший (starosta или wladyka), тем же для всего народа был правительствующий князь. Оба повелевают почти неограниченно до тех пор, пока они правят хорошо, то есть до тех пор, пока ими руководит общее благо, покамест старания их для достижения этого мудры и удачны. Но оба они теряют всякую власть и значение, если рядом поступков докажут свою неспособность стоять во главе правления»[10].
Яркою иллюстрацией к этой общей характеристике верховной власти может служить органический закон Чехии, который свято сохранялся всеми князьями и королями Чехии даже тогда, когда королевская власть значительно увеличилась на счет народной. Этот закон состоял в том, что ни один чех не был обязан нести военную службу вне пределов страны[11]. Если тот или другой король хотел прославиться завоевательными подвигами, он должен был из своих личных доходов нанимать волонтеров. Таким образом клался предел самолюбивым стремлениям королей и проводилась резвая граница между интересами народными и интересами династическими.
От верховной власти перейдем к другим частям государственного тела древнейшего периода чешской истории.
В IX столетии «все члены государства были свободны и не было наследственных сословных перегородок. Глава семейства был естественный судья и правитель своего потомства. Эти главы семейств, называемые starosti (от starost – забота, starotise – стараться), из которых некоторые в качестве и отправляли и жреческие обязанности, совещались в открытых собраниях и решали вопросы большинством голосов»[12].
Внутренняя жизнь семейств до очень позднего времени была настроена на искони лавянских общинных началах.
«Владение землею было основано на общности имуществ всех родичей. Dedina (дедина), что равнозначуще bastin'е (баштима от batsha = ded) или otcin'е (отчина), составляет наследственное общее имущество. Дедина кормит всех родичей, которым она принадлежит только в качестве временного владения и от них без всякой особой передачи переходит к следующему поколению. Доходы сообща орабатываемой дедины, состоящие в хлебе (zbozi) и скоте (statek, dobytek), представляют собою имущество общины. К дедине, само собою разумеется, принадлежала земля, на которой, были выведены деревенские постройки, откуда произошло то, что в Моравии еще до сих пор деревня называется „дедина“. На общем землевладении основано средневековое славянское наследственное право (dedictvi)»[13].
При таком, устройстве бедность являлась исключением. «Каждая семейная, община была настолько самостоятельна, что имела прямую, возможность удовлетворить обычные потребности, своих сочленов. Поэтому в народе бедных не было. Бедным и без состояния мог быть только тот, кого община исключила за пороки. Отсюда происходит, что слово chudy (худы), означающее теперь (по-чешски) „бедный“, когда-то, означало, „злой“ и что словом lichy одинаково обозначалось понятие, „нехороший“ и „оставленный, вытолкнутый“ (listi, lich = derelinquere)»[14].
Такое равноправное семейное устройство, поддерживало идею политической равноправности и мы видим, что «до короля Оттокара II (конец XIII ст.) в Чехии не было сословий, как их теперь, понимают»[15] и еще у́же понимали во всей средневековой Европе.
Этой всеобщей равноправности, по-видимому, противоречит то обстоятельство, что в Чехии, были рабы и крепостные. Но противоречие тут совершенно мнимое, только на первый взгляд, если не познакомиться ближе с положением вещей. На самом деле рабство и крепостное состояние в Чехии были совсем отличны от этих же институтов в общественном праве других стран Европы. Мы остановимся на этом предмете несколько подробнее, так как для нас чрезвычайно важно доказать, что оба эти вида несвободного состояния не были факторами гусситско-таборитского движения: мы покажем, что 1) рабство, и то в очень мягкой, существовало в Чехии только с IX столетия по XII; – следовательно, к началу XV о нем осталось только отдаленное воспоминание, – и 2) что крепостное состояние утверждается в Чехии не раньше XVII века, т. е. после Белогорской битвы, когда волна австрийско-католической «культуры» смывает все национально-чешское и в том числе старую славянскую свободу.
II
Поговорим сначала о рабстве.
Рабство не было институтом славянского права. В то время, как другие народы делали всех своих военнопленных рабами, славяне требовали от них только известного числа лет служения. После этого они предоставляли им на выбор: «или откупиться и возвратиться на родину, или остаться у них в качестве свободных людей и друзей»[16]. Слова в ковычках принадлежат византийскому историку – императору Маврикию, которого в пристрастии к славянам упрекнуть довольно трудно. Поэтому они дают твердую почву для характеристики отношения славян к лишению людей свободы, и притом почву тем более твердую, что сам же Маврикий подчеркивает это отношение славян в рабству и прямо говорит, что оно было не такое, «ut apud gentes alias» (как у других народов). В нем значит было нечто чисто-славянское.
С течением времени отношения меняются. «Именно те, религия которых клеймит рабство и крепостничество, то есть христиане, научили славян, что ничего нет дурного в том, чтобы торговать человеческою свободой и продавать в рабство свободных людей вместе с их женами и детьми. Оттоны (германские) раздаривали славянские семьи точно стада скота и впервые ввели крепостничество и рабство в земли полабских славян и по всей Померании. Отсюда рабство перешло в Богемию, Польшу и Россию»[17].
Произошло это никак не раньше IX столетия[18]. Как институт чужеземный, противоречащий всему строю славянской жизни, рабство в Чехии было явлением исключительным. Рабами становились только пленники (plennici) и преступники.
«Рабство являлось в Чехии только в виде наказания и не представляло собою особого сословия, как это было у немцев. Чехам вообще было совершенно непонятно немецкое разделение на множество общественных ступеней и в частности разделение рабов на множество разрядов различной ценности»[19].
Рабство в Чехии не только не выделяло несвободных людей в отдельное сословие, не только не было наследственным, но оно даже не было всегда пожизненным. Раб приобретал свободу, если «его принимали в семейную общину, если его допускали к общему очагу». Это ясно из значения слова огнищанин (т. е. допущенный к общему «огнищу»), встречающегося в России и в Чехии. В «Mater Verborum»[20] слово это прямо поясняется так: «cui post servitium accedit libertas» (человек, которому после рабства возвращена свобода[21].
Но даже в этом относительно легком виде рабство просуществовало в Чехии не более трех столетий. Народная совесть не могла с ним помириться. Это видно из того, что в легендах о высокочтимых чешских святых, Св. Войтехе и Св. Вячеславе, предание заставляет их выкупать рабов на свободу. В более поздние времена, в XII столетии, польская королева Юдифь, родом чешская княжна, тоже прославилась своим сострадательным отношением в рабам[22]. Наконец, в 1124 году Владислав I издает такой указ, которым в Чехии рабство прекращается совершенно. Дело в том, что главными владельцами рабов и единственными торговцами ими были евреи. И вот Владислав I издает закон, «чтобы ни один христианин не служил еврею»[23]. Этим самым рабство перестало существовать в Чехии. Характерно, что Козьма, говоря о законе Владислава, называет его лучшим поступком герцога. Не следует думать, что тут играла роль ненависть христиан к евреям, – такое заключение было бы совершенно неверно. В XII веке евреям жилось чрезвычайно хорошо в Чехии, и когда первые крестоносцы по пути в Святую землю хотели испытать свои силы на пражских евреях, епископ пражский не допустил их до этого. Крестоносцы силою хотели окрестить евреев и несогласных избивали. Так было в Венгрии. Но в Праге епископ поставил на вид, что «вера Христова должна распространяться любовью, а не насилием»[24]. Даже полтораста лет спустя, т. е. в самый разгар преследования евреев, Оттокар II издал целый ряд постановлений, которым евреи были совершенно уравнены в правах с христианами.
«Еврей и христианин были равны пред судом; еврейская присяга столько же значила, как и христианская присяга; за убиение еврея так же наказывали, как и за убиение христианина. Оттокар II подтвердил старые привилегии евреев и дал им определенное юридическое положение в государстве, не насилуя их убеждений»[25].
Все это очень важно, чтобы показать, что закон Владислава не заключал в себе никакой вражды к евреям и имел целью отменить в стране рабство. И действительно, «в XIII столетии о классе лично и имущественно несвободных людей осталось в Чехии и Моравии одно воспоминание»[26].
Таким образом мы видим что о рабстве, как об одном из факторов гусситско-таборитского движения, не может быт и речи: рабство и это движение разделены между собою тремя столетиями.
Нам остается рассмотреть крепостничество.
«В конце XII и в особенности в начале XIII столетия в Чешско-Моравском государстве исчезает рабство в тесном смысле слова и появляется крепостное право в чрезвычайно мягкой форме – под видом отдачи себя под опеку, под власть главы семейства. Оно проявляется в неспособности самому представлять свою личность и в невозможности самому заработывать хлеб. В такое отношение часто добровольно становились ремесленники и другие свободные люди. Одни это делали из уважения к известной личности, другие – чтобы легче добыть средства к жизни»[27].
Более подробные сведения находим мы в трактате д-ра Браунера: «lieber die Robot und Robot-Ablösung». Praga. 1848.
«Крепостное право (robot) возникло в Богемии следующим образом. Владельцы больших земельных поместий, не будучи в состоянии обрабатывать свои поля при помощи одних своих слуг, отдавали их другим, неоседлым еще, людям в вечную или наследственную аренду, под известным обязательством арендной платы. Арендная плата эта состояла: в хлебе, деньгах, живности, яйцах и т. п., а затем в личной работе (отсюда самое обозначение крепостного состояния – которая нужна была владельцам для обработки своих собственных полей и угодий, как-то: для посева, жатвы, выкорчевания лесов, ловли рыбы и т. д. Таким образом произошло название для крестьянских дворов „dwory kmetci“ и их владетелей „kmeti“, что на языке югославян еще и теперь значит то же самое, что на чешском „sedlak“ (селянин). Господские дворы назывались „dwory popluzni“».
Возникновение крестьянских дворов у древних чехов тем отличалось от обычаев немецкого права, что чехи не платили помещику самой стоимости участков и дворов, а ограничивались тем, что вносили известный оброк, соответствовавший ежегодному доходу. И хотя чешские крестьянские дворы не покупались оброчными арендаторами, однако же пользование ими не было только пожизненных, но переходило, как вечная аренда к наследникам. Если случалось, что такой, лично-свободный и состоявший в известных обязательствах к помещику только по отношению к своему участку, крестьянин умирал и оставлял после себя наследников или, с согласия землевладельца, передавал обладание участком другому, то преемник его вступал в те же самые обязательства. Но если он умирал без наследников, то крестьянский двор возвращался в землевладельцу, который снова отдавал его кому-нибудь и, конечно, уже на других условиях, какие ему всего более подходили.
При короле Премысле-Оттокаре II, во второй половине XIII столетия, в Богемию начинает проникать немецкое право. Это было причиной установления новых отношений в крестьянском землевладении. Многие помещики перестают уже отдавать свои земли в вечную аренду, но продают их с условием верного оброка, причем выговаривают себе барщину (robot) и другие повинности. Кто покупал землю на таких условиях тот имел право продать ее другому. Возникшие на таких основаниях крестьянские участки назывались эмфитевтическими или окупленными.
Землевладелец не имел при этом никаких судебных или административных прав[28] над сельским населением. Эти права принадлежали исключительно королю и осуществлялись при помощи особых судебных и административных органов[29].
Из этого сжатого очерка мы видим, что относительно очень мягкия формы крепостного права возникли в Чехии путем добровольного соглашения и что даже в этой мягкой форме оно не было явлением общим для всей страны, а только спорадически существовало в феодальных поместьях. Таковых же при очень позднем водворении феодализма в Чехии (не раньше XIII в.) сравнительно было весьма немного.
Как мы дальше увидим, крепостное право было настолько спорадическим явлением в Чехии, что чешские юристы начала XV века не знают его иначе, как институт чешского общественного права. Но, тем не менее, мы ничуть не намерены отрицать того, что незадолго до гусситского движения, по мере того, как короли для усиления своей власти увеличивают число своих ленников, – по мере того, следовательно, как увеличивается число не столь уже свободных, как в старину, земледельцев, – в Чехии подготовляется почва для экономического неудовольствия, появляется известное экономическое стеснение. Мы только настаиваем на своем праве мягко говорить об «известном стеснении», так как сравнительный материал покажет нам, как бесконечно хуже было тем, например, крестьянам, которые чрез сто лет после таборитов подняли знамя социального восстания в Германии. В напечатанном уже нами очерке болгарского богомильства (1879 г., кн. 4) мы провели параллель между социально-экономическим положением болгарского крестьянства и французского и показали, что уровень благосостояния болгарского крестьянина был относительно сносен, между тем как французский Жак Боном, подобно бессловесному скоту, работал исключительно для обогащения своего господина. Это сопоставление и дало нам основание назвать жакерии чисто-экономическим протестом, а в богомильстве видеть главным образом стремление свободного духа восстановить попранную правду и справедливость.