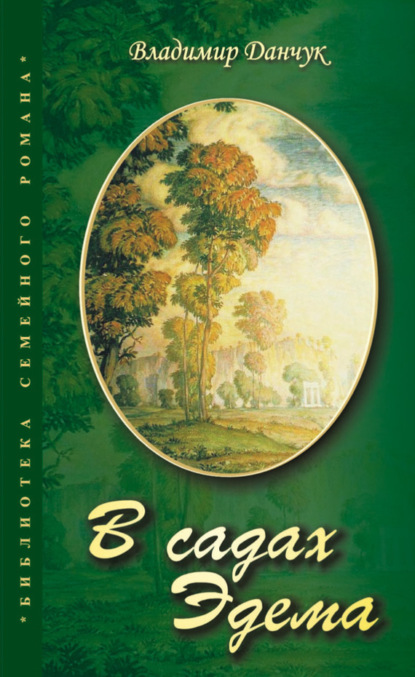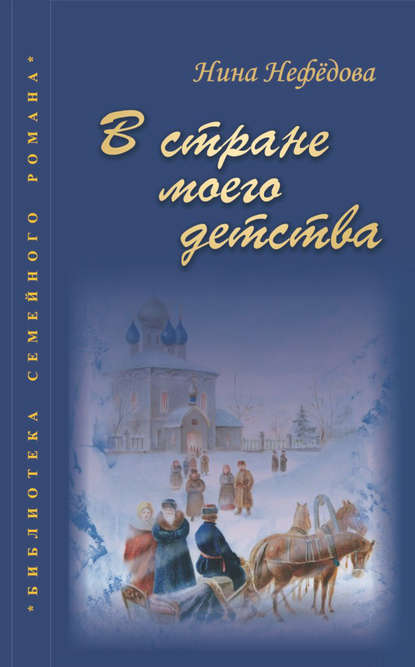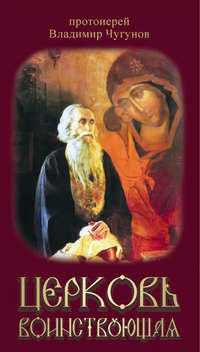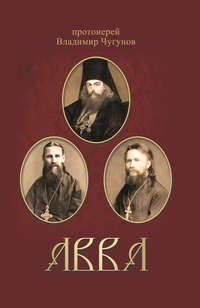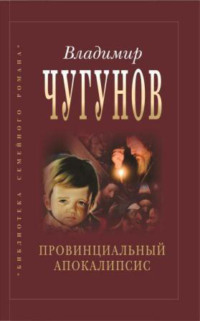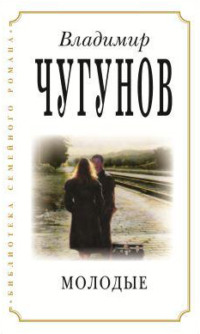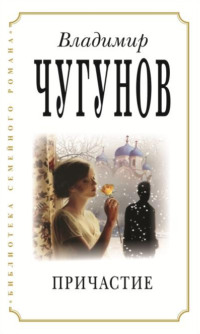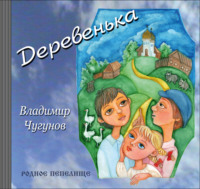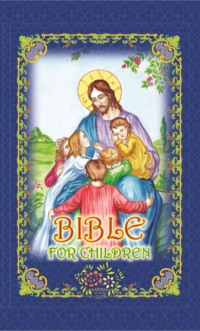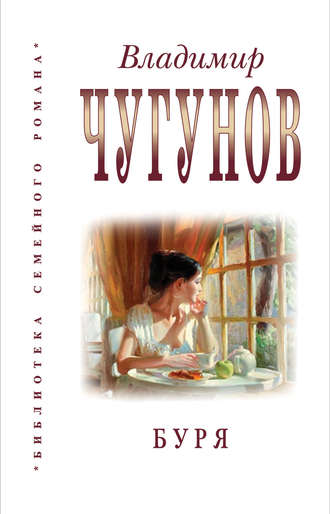
Полная версия
Буря (сборник)
– Почему же – суеверным? В этом как раз и заключалась суть их веры!.. – возразил Филипп Петрович и повернулся к отцу: – И что тебе Андрей Степанович на это ответил?
– А что он мог ответить? Вы же знаете, как он всегда возражал. Вроде соглашается, а сам свою линию гнёт. «Вы правы, мол, Алексей Витальевич, вы правы. Я знал много замечательных людей из атеистов, с которыми довелось в лагере горе мыкать, некоторые из них потом сделались мне близкими людьми. Они говорили тогда примерно то же самое. Я очень любил их слушать. Умных людей всегда приятно послушать. Но слушая, всякий раз думал о том, что, в сущности, у нас почти до совершенства развита любая наука, только нет науки о том, как жить, а главное, как умирать. Предоставив себя во власть слепому случаю, человек не может быть не только счастлив, а хотя бы ровен и стоек против того, что иногда преподносит жизнь. И многие от этого плохо кончают».
– А ты?
– А что я? Говорю, «червяк не больше терпит, когда его давят». Так это когда ещё Гамлет сказал! А что насчет «быть или не быть», так, говорю, столп христианства покачнулся на сторону в самом начале, о чём свидетельствует Апокалипсис. «А вы читали, спрашивает, Апокалипсис?» Читал, говорю. Да ведь там понять ничего невозможно. Какие-то печати, животные с головами львов, быков и орлов… Понял только, что времени больше не будет, но так и не понял, куда его денут.
– Ну-ну. А он?
– «Вы, говорит, Алексей Витальевич, во многом правы. Но этим мы не решим вопроса, потому что сами же во всём виноваты. Сидим на древе и рубим сук под собой». Каков гусь, а?
– Да просто хитрый! – ввернул Лапаев.
– Так-так. А ты?
– «Да разве, говорю, монашество не тем же всю историю занималось? Не вы ли, говорю, приучили к этому медленному самоубийству народ?» – «Очень, – улыбается, – похоже, Алексей Витальевич, очень похоже. И тем не менее это наука». А как умер, вы знаете.
Я тоже хорошо помнил эту загадочную смерть. Андрей Степанович умер в своей комнате на Пасху, стоя на коленях, очевидно, во время молитвы. Видел я его и в гробу и был поражён тем спокойным выражением лица, от которого на меня впервые пахнуло не ужасом, который я обыкновенно испытывал при виде покойников, а чем-то иным, священным величием смерти, что ли, которую благодаря своей науке с таким стоическим спокойствием принял монах Андрей.
3
За разговором не заметили, когда стал накрапывать дождь. Повеяло прохладой. Отец опять взялся разливать вино, и на этот раз мне обрыбилось коньяку. И хотя я и без коньяка был хороший, как голодная щука наживку, в одно мгновение заглотил его.
Что тут началось!
Елена Сергеевна даже щипнула меня: «Противный! Ты будешь закусывать или нет?» Но я даже не отреагировал на это, я весь был во власти жизненно важной для меня темы. Казалось, ещё немного, и я полечу.
И я действительно полетел… Но чуть позже…
– Ну-с, а теперь про обещанного Фому, – сказал Филипп Петрович, отхлебнув от своей рюмки и поставив на край стола.
– А причём тут Фома? – возразил отец. – Речь как раз о верующих, а не о неверующих.
– Ты этих извергов считаешь верующими? Этих… Как их? Которые «в великолепных аутодафе сжигали злых еретиков»? – удивился Филипп Петрович.
– Так не год и не два, а двести лет жгли. И на полном серьёзе. Между прочим, образованнейшие люди своего времени – епископы, архиепископы, юристы. Знаете, что писали они в судебных протоколах? Хотя бы на суде над некой Кларой Геслер, по доносу соседки угодившей в застенки по подозрению в ведовстве? Цитирую. В результате изощрённейших пыток (выкручивание рук, иглы под ногти, подпаливание огоньком, подвешивание вверх ногами, сдирание кожи), знаете, что она свидетельствовала? Что более сорока лет распутничала с чертями, которые являлись ей в виде кошек, собак, червяков и блох. Родила от них семнадцать детей, всех убила, выпила кровь и съела. Множество раз подымала бури и несколько раз низводила огонь на дома. Она бы спалила весь город, да демон не допустил, уверяя, что имеет в городе достаточное количество подчинённых женщин. Когда к концу пытки несчастная умерла, в протокол записали, что дьявол свернул ей шею. Процесс этот был предан широкой огласке ввиду того, цитирую, что «впервые из достоверного показания самой ведьмы выяснилось, что дьявол может являться и действовать также в образе блохи и червя». А? Как вам?
Хочу попутно заметить, что во время разговора о вере бабушка сидела ни жива, ни мертва. Особенно когда речь зашла о монахе Андрее, которого она считала за святого. Но, казалось, больше всего поразило её то, что сказал сейчас отец. Остальные тоже смотрели на него с удивлением и даже недоверием, не морочит ли он им головы. Отец это не преминул заметить.
– Что вы на меня так смотрите? Всё это, между прочим, документально подтверждено. В 1597 году, например, в имперском городе Гельнгауэне, то же самое, слово в слово, было записано о шестидесятидевятилетней вдове-подёнщице. А в 1616 году один мужик под пытками показал, что танцевал в воздухе с Иродиадой и летал по воздуху с Пилатом… Иные уверяли, что через маленькие щели, куда и мышь не проскользнет, забирались в чужие винные погреба и пили вино, скидывались кошками, совами, воронами. Другие, не выдержав мучений, называли имена сообщников, и тогда создавались групповые процессы. Повсюду учинялась слежка, сыпались друг на друга доносы. Наконец ярость народа и ослепление судей, алкавших крови и добычи, дошли до того, что во всей стране не осталось никого, на кого бы не падало подозрение в ведовстве. А тем временем нотариусы, протоколисты и трактирщики наживали большие деньги. Палач, как барин, разъезжал на статном коне. Дети казнённых покидали родину. Имения шли с молотка. Поля и виноградники некому стало обрабатывать. Чума так не свирепствовала в том или ином архиепископстве и неприятель не хозяйничал в нём так жестоко, как эти упыри… И это на протяжении двух столетий! Палачи хвастались друг перед другом количеством костров, числом сожжённых жертв. Образованнейшие люди того времени считали, что так называемые ведьмы заслуживают не костра, а лечения и молитв. Но против таких воззрений в пятнадцатом веке возник особый отдел богословской литературы, для создания которой понадобилось столетие экспериментов в застенках над живыми людьми и размышления над ними по монашеским кельям. Подчёркиваю – монашеским. Ибо именно эти упыри, дорвавшись до власти, устроили в Европе такой гешефт, который языческому Риму даже не снился!.. Вам, кстати, это ничего не напоминает?
– Напоминает, – заметил Лапаев. – Если народ постигают неудачи, в этом виноваты его враги!
– Стало быть, что?
– Хочешь сказать, христианство виновато? – И Леонид Андреевич, как и я, в который раз сочувственно посмотрел на бабушку, воспринимавшую всё как свою личную обиду.
– А то кто же?
– Но у нас ничего подобного не было.
– Как это – не было? А сектантство, а скопчество, а самосожжения, а самозакапывания? А Ёсь Виссарионыч?
– Причём тут христианство и Сталин?
– А кто?
– Сам говорил – начальствующий идиотизм.
– Кто его воспитал? На чём он вырос? Слышал, чего Филипп Петрович сказал? Наши цивилизации на одном фундаменте покоятся. И вообще, то, что началось с пришествия Христа, просто наивно считать лёгким бременем и летом прохладным!
– Обеими руками – за! – поддакнул Лапаев.
И тогда я взорвался. Конечно, мне обидно было за бабушку, сидевшую в оцепенении прямо-таки какого-то мистического ужаса, но ещё больше я оскорбился за идею. Словом, я, что называется, восстал. То есть, в прямом смысле, вскочил и натуральным образом возопил что есть мочи:
– А я – против! Против! Против! Эх вы-ы!.. – обвел я собравшихся, как мне казалось, испепеляющим взглядом. – Вы-то, вы-то сами, что из себя представляете? Да загляните вы хотя бы в Евангелие!
– Что-о? Какое ещё Евангелие? Где ты его нашёл? – тут же возмутился отец.
– Где нашё-ол! Отеся называется! Такую книгу от меня хотел скрыть! Спасибо бабушке – спасибо, баб! – сохранила! И я прочёл! Это, я понимаю, глаголы! Это, я понимаю, слова! «Почерпните и несите распорядителю пира». И превратилась вода в вино! «Вели идти к Тебе по воде?» – «Иди». И пошёл Пётр по морю, аки по суху!.. Так и написано – «аки по суху»! А в другом месте! «Тебе говорю, перестань!» – и сделалась велия тишина! И ещё есть! И всего-то лишь: «Эффафа» – и отверзлись очи слепого!.. И посильнее имеется! «Лазарь, гряди вон!» – и вышел из пещеры мертвец четверодневный!.. Это, я понимаю, глаголы, это, я понимаю, слова! А что у вас? Существительные, прилагательные, существительные, прилагательные!.. Сердцеведы несчастные!.. Руки прочь от Вьетнама! – вырвал я свою руку из руки Елены Сергеевны, посмевшей прикоснуться ко мне в такую ответственную минуту моей жизни.
– Да он просто пьян! – вырвалось у Варвары Андреевны.
– Это я-а пьян?! Да я до глубины души возмущён таким безосновательным хамством! – «А ведь ещё минуту назад был счастлив!» – мелькнуло в голове. Ну так что ж? Разве теперь не всё ли равно? И брякнул: – Христос, видите ли, у них во всём виноват! Мона-ахи! Так вот! Со всей ответственностью заявляю! Завтра же! Нет! Сегодня же ухожу в монастырь!
Лапаевы, Филипп Петрович, Леонид Андреевич, даже отец, знавший меня с пелёнок, взорвались смехом, да таким обидным, что окончательно переполнило чашу гнева.
– Не верите, да, не верите? Так я докажу! Я вам сейчас докажу!..
И, выскочив из-за стола, я разбежался и сиганул с балкона. Последнее, что сохранилось в памяти, истошный вопль мамы, падающие стулья, невнятные восклицания гостей.
4
Очнулся я на рассвете задолго до общего подъёма. В углах моей каморки, с двумя полками любимых книг над видавшим виды письменным столом, таились сумерки. Небо за окном наливалось сиренью. Из открытой форточки тянуло прохладой. Очевидно, она и оживила меня.
Я попытался приподняться, но перед глазами всё поплыло, и я беспомощно рухнул на горевшую подо мной подушку. Вчерашнее тихим ужасом стало вползать в бьющееся, как птица в клетке, сердце. Как приземлился, не помню, зато хороню помнил, как сладостно замерло при падении во мрак летней ночи сердце. И всё не мог решить: хороню это или плохо? Стыдиться мне за вчерашнее или гордиться?
За дверью, что была за моей головой, послышались осторожные шаги. Так могла ходить только бабушка. Только она подымалась чуть свет и подолгу молилась в своей каморке.
Дверь тихонько приотворилась. Я нарочно шевельнулся.
– Баб, ты?
– Я, я… – послышался ласковый шёпот, который помнил с раннего детства. Так успокаивающе действовал он на меня всегда.
Бабушка подошла к постели, приложила ладонь к моему горячему лбу, умиротворительно прошептала:
– Рано ещё. Спи.
– Плохо мне, баб. Голова кружится.
– Вот и поспи. Сон всё лечит.
– Ба-аб, пожалуйста, принеси кваску холодненького.
Она ушла и вскоре вернулась с кружкой тёплого кваса. Я попробовал, поморщился, но всё-таки выпил. Вскоре полегчало, от головы и груди отлегло.
– Хорошо-о ка-ак! Поплы-ыл!
– Поплыл. Ишь, космонавт… – «космонавт» – было одним из бранных бабушкиных выражения. – Помнишь ли, что вчера набедокурил?
– Я?
– Ты. Почто во взрослый разговор влез? Помнишь ли, что спьяну нагородил?
– Не нагородил, а изрёк! Могу, кстати, всё слово в слово повторить и кровью расписаться!
– Час от часу не легче! Кровью ещё на что?
– Для утверждения истины.
– Какой ещё истины?
– Истина, баб, одна. И никаких ещё истин быть не может.
– С квасу, что ли, тебя опять понесло?
– С Евангелия твоего меня понесло, а не с квасу. И не вчера, а давно.
– Матерь Божия! Ну, ещё чем порадуешь?
– В смысле?
– Что, спрашиваю, ещё удумал?
– Известно что. Глаголом жечь сердца людей! – произнёс я важно.
– Я и говорю: с квасу мелешь невесть что! Евангелие, видите ли, его на эту дурь толкнуло! Да в Евангелии то ли писано? Где это ты там выискал, чтобы дети наперекор родителям со второго этажа с балконов сигали?
– Я тебе потом, когда после травмы ходить и читать выучусь, покажу.
– Язык бы тебе травмировать, и как можно на дольше, и пока не поумнеешь, не учить говорить.
Я сделал вид, что обиделся.
– Глупая ты, выходит, старуха! Я же за тебя, можно сказать, пострадал и муки принял, а ты!.. А ну живо неси квасу!
– Гляди как раскомандовался! Неси-принеси! Да ещё живо! А где твоё пожалуйста?
– Я кому сказал?
– Кому?.. А вот и не принесу!
– Принесешь как миленькая! А ну бегом!
Я нарочно дразнил её. И хотя это было не первый раз, всякий раз бабушка мои выходки принимала всерьёз.
– У-у, чтоб те пусто было!.. – обиженно прошипела она и с недовольным бормотанием удалилась.
«Ха!» – победоносно воскликнул я про себя и задумался. Так всё же идти мне в монахи или не идти? И если идти, то когда? Вчера я обещал – вчера. Но то было вчера, сказано под горячую руку. Тем более и монастырей в России было всего раз и два. По крайней мере, я знал только два – Троице-Сергиеву Лавру да Псково-Печёрский монастырь. Хохляндию в счёт не брал: ломка языка, климат (настоящей зимы для подвигов нет) и прочее… По серьёзности намерения Троице-Сергиева Лавра не подходила тоже. Музей, туристы, близость чумной Москвы. А вот Печёры псковские манили этаким средневековым дурманом, этакой подвижнической жутью. О подвижнической жути узнал от бабушки. А то: откуда взял, где прочитал? Сама же и замутила, говоря высоким слогом, чистый омут по-детски доверчивого ока моей души… И ещё! Как уйти? Торжественно или с одной котомкой? Пару буханок в неё кинуть, запасные сандалии, сменное бельё, мыло и поутру незаметно исчезнуть до Страшного суда! Вот это было бы – да!.. Но… в мечтах ведь всегда выходит красиво, а на деле?..
Так посередь капитальных своих дум и заснул опять.
Проснулся далеко за полдень и, часа два валяясь в постели, читал Жуковского. О монастыре не думал нарочно. Дождик вчера, видимо, покрапал недолго, и день выдался опять жаркий. Когда немного спала жара, я пошёл на реку. Купался, купался, купался… А потом то читал, сидя на мостках и бултыхая в тёплой воде ногами, то смотрел по сторонам.
Небо было глубокое, ясное, без единого облачка. И солнце, опускаясь за озеро, кидало печальные лучи, всё вокруг словно притаилось в ожидании чего-то. Прежде, прочитав тайком от отца чего-нибудь, я шёл к Елене Сергеевне, а если её не было, к Паниным делиться впечатлением. Я хоть и остывал от Жуковского, но всё ещё почитывал его, словно пытаясь воскресить былое. Но тут со мною что-то сталось.
Я сидел на мостках и с непонятным волнением смотрел то на гулявшую у берега плотву, то вокруг на всё это великолепие умирившихся стихий. И после чтения, по обыкновению нагнавшего на меня тоску о чём-то нездешнем, смотрел на всё как сквозь сон, что уже не раз со мной было. В такие минуты мне как бы припоминалось что-то, о чём я помнил едва-едва, каким-то оттенком чувства, но что, кажется, уже происходило со мною когда-то и где-то, о чём я забыл, но что как-то запечатлелось в душе.
И тут и, главное, совершенно вдруг я почувствовал такой прилив сил, такое неудержимое желание совершить что-нибудь необыкновенное или сделать какой-нибудь отчаянный шаг, что, нарушив данное отцу обещание, да ещё из-за обиды – из-за щипков, например, не к Елене Сергеевне подался, а к Паниным.
Я вошёл к ним в торжетсвенном расположении духа. И готов был сидеть до утра, не тяготясь бессмысленной стукотнёй наших разговоров («А мы чего зна-аем…»), которых прежде не мог долго выносить и уходил.
Застал Веру с Любой на «нашем месте», на веранде. Эта небольшая остеклённая веранда, с массивным круглым столом, старым диваном слева от входа, у стены, с несколькими обшарпанными стульями, походила на цветочную галерею. Стены были увешаны горшками, из которых спускались чуть не до полу цветы. Снаружи веранда была оплетена вьюнами, подымавшимися по шпагатам до крыши. На окнах простенькие сатиновые занавески.
Завидя меня, сёстры заговорщицки переглянулись. Я присел на своё место, у окна, откуда хорошо был виден закат, горящее стекло озера, по которому медленно скользили чёрные силуэты лодок.
– Ну-у, и чем на этот раз намерены меня угостить? Чего лыбитесь? Давайте выкладывайте, пока я добрый! – сказал я весело.
Вера не упустила случая поддеть:
– Ну вот, а мы ждём, когда ты нас начнёшь угощать своим противным Жуковским.
– С каких это пор он тебе стал противным?
– Да всегда. Я только не говорила. И вообще, какой-то он… я даже не знаю… как бумажные цветы, вот.
В отличие от сестры Вера смотрела пристально, прямо в глаза, и вместо улыбки хмурилась, как я уже сказал, оттого, что у неё были кривые зубы. Люба же смотрела простушкой и смеялась, обнажая ровненький ряд зубов, даже когда никому не смешно было.
– Как бумажные цветы-ы! Много ты понимаешь!.. – возразил я и поднялся, полный душевного волнения, которое всё нагнеталось и нагнеталось во мне, как перед грозой. – Хотя, по правде сказать, мне самому теперь не до Жуковского!
Сёстры переглянулись, как бы желая выразить этим: «Так мы тебе и поверили!»
А я вспомнил, с каким наслаждением полчаса назад запустил книгу в окно, как она, прошелестев растрёпанными страницами в воздухе, шлёпнулась на пол, но главное – как, проходя сосновым бором, мимо лодочной станции, глядя на дрожащее в живом воздухе озеро, на тлеющий горизонт, вдруг понял, что всё это время, все мои восемнадцать лет, я не жил, а спал, и вот наконец проснулся и понял, что всей этой сонной грёзе, всей этой детской сказке прошла пора и теперь начинается настоящая жизнь.
– И чего же мы теперь делать-то будем? – съязвила Вера.
– На лодке кататься! А что? Махнём на ту сторону, наберем хворосту, разведем костер, напечём картошки… Ну, что глядим, едем?
– Едем! Только Машу дождёмся…
– …и он втюрится в неё по уши, – заключила, как само собой разумеющееся, Вера и, нахмурившись, сжала в сдержанной улыбке губы.
5
«Какую ещё Машу?» – уже хотел спросить я, решив, что меня разыгрывают, но в ту же минуту послышался скрип калитки, шаги, дверь распахнулась, и вошла русоволосая стройная девушка, с короткой стрижкой, в белых шортах и такого же цвета ситцевой кофточке.
Люба кинулась к ней:
– Успела?
– Еще бы чуть-чуть и не успела бы, – ответила та. – Почтальонша уходить уже собиралась. Тётенька, говорю, ну пожалуйста, примите телеграмму: родители с ума сойдут, если не получат сегодня. Говорила ведь дяде Лёне, давайте в аэропорту дадим. Так нет! «У нас своя почта».
И она внимательно-вопросительно на меня взглянула. И это «втюрится в неё по уши» показалось мне таким возможным и вместе с тем таким невозможным. Нас познакомили. Причём, пожав протянутую руку, я ощутил свой негнущийся позвоночник.
Моё предложение Mania с радостью поддержала. Сёстры быстренько набрали в сетку картофеля, положили сверху коробок спичек, кулёк с солью, и мы отправились в путешествие. Чтобы сердце не выскочило из груди, я изо всех сил придавил его вёслами. Mania с Верой, сидя лицом ко мне и глядя по сторонам, переговаривались.
– Вышка? – спрашивала Mania.
– А знаешь, какая высокая? Я один раз забралась, думала, прыгну, куда-а, чуть живая слезла.
– Первый раз всегда страшно, а потом ничего. Я сейчас и не замечаю, что высоко. Главное, вниз не смотреть.
– И давно прыгаешь?
– Третий год. А из вас – больше никто? Даже Никита?
– Кто, он? Да он плавать два дня без полдня как выучился, а то всё книжки читал! – не упустила случая в очередной раз кольнуть меня Вера.
Я хотел было возразить: «Зато уже четыре раза озеро переплывал!» – но решил, что это нескромно, и промолчал в досаде.
– Причём тут книжки? Одно другому не мешает, – возразила Mania и посмотрела на меня как на чудика, отчего я ещё больше разозлился на Веру.
Хотя я специально старался не смотреть на Машу, а либо в небо, либо под ноги, постоянно чувствовал на себе её любопытный взгляд, и даже не заметил, как мы очутились на том берегу, и чуть было не опрокинулся, когда лодка с разбегу ткнулась носом в берег.
Mania улыбнулась на мою неловкость. И чтобы скрыть смущение, я с озверелостью унёсся за хворостом.
Разложили костёр. Когда нагорели угли, покидали картошку.
Я по-прежнему старался в Машину сторону не смотреть, деловито ломал толстые сучья, шерудил веткой в костре и подолгу, как на что-то родственное, смотрел на пламя.
Темнело на глазах. Стая чирков пронеслась над нами, плюхнулась недалеко от берега в почерневшую воду и тут же скрылась в талах.
– А что у нас про бабу Дуню говоря-ат… – затянула свою любимую песню не взрослеющая Люба, вытаращив от страха глаза точно так же, как делала это и в десять, и в пятнадцать лет. – В полночь залезает на крышу и ну будто корову доит. Говорят, у неё потому больше всех и доит. Честное комсомольское! Лидка Горохова своими глазами видела. Я тоже хотела пойти с ней посмотреть, да забоялась… А Никитина соседка прежняя так вообще, говорят, была настоящей колдуньей…
– Чего-о? – резко возмутился я.
– Того! Кто по ветру килы пускал?
– А ты видела?
– Люди видели!
– Лидка Горохова твоя, что ли? Слушай её больше, она тебе и не то наплетёт. Про «чёрный ноготь», например. Представляете? Оказывается, одна барыга-лоточница торговала на базаре пирожками. И не простыми, а из краденых детей! А уж как попалась-то! Чёрный ноготь, видите ли, от одной жертвы случайно в единственный пирожок возьми да угоди, и его-то как раз, опять же случайно, мать пропавшей дочери купила. Стала есть и наткнулась. Ба! Да это же доченьки моей ноготочек, от мизинчика! Выследила, где барыга живёт. В милицию сообщила. Поймали. С тех пор дети в стране и перестали пропадать. А то пропадают и пропадают… Милиция с ног сбилась! Ну всё обыскала! Нигде нет! А тут вон, оказывается, что!
– Зануда несчастный!
– Хрю-хрю…
– Ве-ер, ну почему он сегодня такой противный?
– Понятно, понятно почему…
Что-то горячее пыхнуло мне в лицо, и, возможно, из одного упрямства я нагрубил бы ещё больше, но, странно, во мне вдруг обнаружились тормоза, к тому же было темно, смущения моего могли не заметить.
«Специально заводят! Дураком хотят выставить! «Понятно, понятно почему…» Конан Дойл несчастный!»
– А твой Жуковский лучше, что ли? – пошла в наступление до смерти обиженная таким наглым разоблачением Люба. – «Лесной царь», например? «Ездок погоняет, ездок доскакал… В руках его мёртвый младенец лежал». Лучше, да, лучше?
– Это же сказка. Понимать надо.
– И про ангела и Пери?
– Про Пери – не знаю, но ангелы и Бог есть!
Люба с Верой одновременно вытаращили глаза и переглянулись, казалось, даже немного опешили.
– А правда, девочки, как вы думаете, есть Бог? – нарушила воцарившееся молчание Mania и подняла глаза к небу.
И все, в том числе и я, последовали её примеру.
И какое же чудное, какое звездное было над нами небо!
– Ой, девочки – представляете? – если всё это – бездна, и наша планета в ней такая маленькая-премаленькая и больше – ни-ко-го!.. Но если Бог действительно есть, почему бы Ему не явиться каждому из нас и не сказать: «Видишь? Я есть!» И мы бы поверили.
– Приходил, говорил, не поверили, – со знанием дела стал возражать я. – Мало того. За разбойника приняли. Арестовали, наиздевались, распяли. А Он взял и на третий день воскрес.
– А это действительно было?
– Я об этом собственными глазами в бабушкином Евангелии читал.
– И ты веришь в это?
– Верю!
– Это что-то новое, – обронила Вера.
– Новый бзик, – потихоньку поддакнула Люба.
Но я всё равно услышал, не совсем спокойно, но всё-таки проглотил обиду.
– Этой новости, между прочим, почти две тысячи лет.
– Интересно, а Он нас слышит? – до таинственности понизив голос, спросила Mania.
– Конечно! – в тон ей ответил я, и у меня пробежали мурашки по спине. – Он вообще всё видит и слышит. И даже каждую нашу мысль.
– Ой, девочки, как стра-ашно…
И действительно, стало жутковато как-то.
– А я вот сейчас, как бабушка, скажу: «Господи, оборони нас от всякого зла».
– И что?
– И всё, больше ничего не нужно. Проверено – броня. И вообще пора картошку вынимать.
Картофель ели с удовольствием. Несколько раз я нечаянно встречался с Машей взглядом и отводил в смущении. После нашего разговора Mania смотрела на меня с явным любопытством.
– А вообще, хорошо, когда есть хотя бы такая защита, девочки, правда? – сказала она. И я понял, что всё это очень интересует её. – Никит, а проверено – кем?
– Веками. Бабушка говорила, а ей – наш бывший сосед, монах, Андрей Степаныч.
– Монах? – одновременно удивились сёстры.
– А вы не знали… Ну да… К нему ж дядя Лёня тогда от запоя лечиться ходил.