Золотой треугольник

Полная версия
Золотой треугольник
Язык: Русский
Год издания: 2015
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля

Kalakazo
Золотой треугольник
Из цикла «Золотой треугольник»

Начало
За окном ели, припорошенные новым снегом.Бегущие облака по развидняющемуся небу.Ожидание зимнего солнца.Новая, точно снова первый раз, встреча с лесом.Именно там, в лесной чащобе,приходит ощущение реальности.Обретение
Обретение Дома – всегда оставалось недостижимым чаянием.И чем большес годамия обрастаю недвижимостью,тем более выстуженными оказываются мои ночлежки.Уже на второй день моего пребывания в городе:«о Петербургъ, и я бегалъ въ твоiхъ просшпектахъ» —меня начинает тошнитьот стилизованного под Art nouveau моего «кабинета»,от вида из моих окон на замызганные барельефы дома,построенного Чевакинскимна месте петровской Тайной канцелярии,где в подвалахстроители уже в 70-х годахосьмнадцатаго столетиявсе еще находилипосаженные на цепь исвернувшиеся калачикомскелеты гостей боярина Ромодановского;от хлюпающей жижи под ногами,от театральной публики,по вечерам курящей у моего подъезда;от актерок, бегущих на метрос букетами цветов в ядовито цветном целлофане ибанками варенья от благодарных поклонниц;от также ядовито подсвеченного Спаса на Крови,от шлюх у гостиницы «Европа»;от «бомонда»,ночью опять курящего под моими окнами,с наркотическими интонациями в выкриках:«Максик! Ну, иди сю-юда!» —и в пятом часу утраразъезжающегося на лимузинах после тусовок и скачек.Потому из городской ночлежкиуже на третий день я бегу в ночлежку загородную,тоже с ледяным подражанием модерну,но там есть лес.Только в лесу я становлюсь самим собою:после нескольких минут оцепенениявдруг открываются зарницытой Живой Жизни, ради которых и стоит еще жить.
Хладное бурчание…
Множество раз я в свой лес прибегал,очередной раз выпотрошенный илиотутюженный асфальтным катком,обложенный со всех сторонпосвистной облавою и ищейным гоном.И лес ласково утаивал меня в своей чащобеот двуногих волков,бережно пеленал мои раны,укрывая от житейских бурь и непогодицы.Много раз я приползал в свой лес,вывернутый на дыбе иль колесованный,в гнетущих предчувствиях ещё большей бедыи совсем уже близкой жизненной катастрофы.И уже почти бездыханнымповалившись на ложе из мха,муравы и сосновых иголок,в шуме крон я находил ответ и разрешениевсей мой бытийственной непрухи.А в хладном бурчании порожистой и бурливой(никогда не стягивающейся ледяным панцирем)и беспечно весёлой Юли-Йокивдруг простыми стекляшками обнаруживалисьте велия украшения,каковыя я полжизни почиталза реликвии и драгоценности…Берендеево царство…
Утром в своём лесу я просыпаюсьот оглоушивающей тишины —не энтропийной и вся мертвящейапокалипсной гибелью всего живого,а той, что повязывается в один узелокс гармонией, ладом, благодатию.Избёнка моя на курьих ножкахна семи ветрах за нощьвыстуживается до семи градусов,и первым делом я натаскиваю берёзовых полешек,растапливая берестою печь,приношу ведёрко с родниковой водицейи пью свой утрянной кофий,просматривая картинки в полинявших журналах.А в восемь, когда наконец-то развиднеется, прямоу порожика становлюсь на своидровяные самоходыи, отталкиваясь бамбуковыми палками,обхожу своё Берендеево царство…Возвращение
Возвращение в Петербург давноуже стало отработанным и привычным ритуалом,но всё одно для меня остаётся событием.Возвращаюсь зимой из Териокнепременно с толпою лыжников и лыжниц(сухоньких старичков и бабуль),каким самим хоть ужо под восемьдесят —всё ещё на дровяных финских лыжахс бамбуковыми палками.Здесь же и пестрядная толпа налёдных сидельцев:в валенках, кургузых тулупах, облезлых шапках-ушанках,с ледовёртами и ящиками-самоделками.Опосля подлёдного клёвуи основательного сугревуони дружненно в вагоне электричкивдыхают кислород и выдыхают спирт.Улову с гулькин нос, зато целый деньдолгожданной свободыот занудственного ворчания собственной старухи.В Келломяках бодренно, скачуще мальчиковой походкой,в оранжевых штанцах ив кудловатом кепи на слипшемся паричке,в вагон подсаживается Олег Каравайчук —единственный на всё Комаровосохранившейся гений.Он садится поодаль от меняи начинает согбенной головушкойв такт покачиваться,временами конвульсивно вздрагивая и подёргиваясьот очевидно слышимых имстальных поскоковдиссонирующей музы…
Хороводны пляски
С трудом переношу все «праздники»,но ещё более невыносимо,когда народ неделю-другую «отдыхает».Сам никогда в жизнине ходил каждодневно на работу,да и не работал, по существу, никогда,если понимать под работойтруд по наймуза положенную пайку хлеба,однако самне люблю ни праздношатаев,ни стёбных поскоков,ни шальных выкриков в середине ночипод моими окнами,когда я честным образомворочаюсь,измученныйочередным приступом бессонницы.Не люблю толпыи тем более «народа» —его массовой культуры,его ряженых петрушеки клоунады на сцене и в жизни.Доподлинно знаю, что свобода губит,скажем, того же актёра,и без узды и лямкиего жизнь и его творчествочасто прогораетподобно бикфордову шнуру.Совсем не понимаю,что такое демократияили даже соборностьи тем более не понимаюэтого навязчиво надуманногоМихаилом Бахтиныммира карнавальных хороводов,пародию на каковыеещё целый месяцпридётся созерцатьна моей площади «Искусств»:балаган,слюнявая цыганщинаи видимость разухабистости,«широта русской души»,безумолчная скороговоркамасочных мимов,да и жажда самого людаоторваться и угоретьв прилюдном разнагишании.Сам Михаил Бахтин попал на Соловки,кажется, в 29-мпо надутому в мыльную антисоветчинукружку «Воскресение».Александр Александрович Мейерустраивал на дому посиделки,где молодёжь 20-х,за чаем и сухарями,из пустого в порожнеепереливала о Боге и Церкви.Сурьёзное оказалось преступление:арестовано было больше ста человеки, как выяснилось уже в начале 90-х,вспомнили и назвали их всех по именам(даже тех, кто захаживал случайно и единожды),именно братья Бахтины, Всеволод и Михаил…Потому навязчивым истал впоследствии для Михал Михалычаего панегирик всеобщемумаскараду и «задиранию юбок»,перемене «верха» с «низом»,подмене «переда» – «задом»,бунту супротив всякой иерархии ценностей,ибо в этом карнавальном кружении(а про это он уже никогда никомуне проговаривал вслух)ведь и происходит чаемоеснятие ответственностии вообще всякой личной виныза когда-то,по молодости и малодушию,преданных и отправленныхна Голгофу…Минорныя речитативы
«В какой красотище Вы живёте!» —приговаривают мне мои гости.Навещают они меня, по обычаю,в белые ночии говорят обо всём с патетикой,и я им, впрочемпосле долгой паузы,вторю: «Да-да-да,но если б вы знали,что с ноября по март„наш городок“совсем не приспособлен для проживания!»Я красочно всегда рисуюхлюпающую жижу под ногами,склизоту и гололёдец,метровые сосульки,с грохотом вонзающиеся в тротуар,иссиня-бледные физиономиии расплаcтанно-сумеречныеянварские денькис моросящей хандрой имеланхолическим бесприютом.На что мои заморския гостииз какой-нибудь вечно солнечной Калифорниивсегда возражаютпримерно одинаковыми словами:«Но красота ведь скрашивает и смягчает?»…И вот сегодня,чтобы хоть как-то скрасить и смягчитьсвою изнурительную ужебессонницу,в четвёртом часу утравыбираюсь побродить.Мой «Золотой треугольник» —Невский – Нева – Фонтанка,когда-то «вот тебе и весь Петербург» —вполне сносно освещён и иллюминирован,я с ним сжился и приспособился,и только в нём возникает ощущение«дома» и безопасности.Бреду сплошной чередойвсё ещё шумных ресторанов и кабаков,вглядываюсьв воды Екатерининского каналана зыблющееся отражение Спаса на Крови,долго выстаиваю у васнецовского распятия,затем уже Мойкойследую анфиладой особнячных фасадов.Всматриваюсь в окна орбелиевской квартиры:в роковые для Эрмитажа 30-ев кабинете именитого директорапо ночам горел свет,где своим каллиграфным почеркомИосиф Абгаровичстарательно очерчивал в характеристиках«буржуазную подкладку»в уже заарестованных соработниках…В проёме между эрмитажными атлантами,у каковых,как это всегда случалось в детстве,«пальчиком» прощупываю венозныя прожилкина гранитных ступняхи созерцаю купол Иссакия…А у Монферрановой колонны,как это часто бываетименно в это время —одинокая фигура Михал Иваныча,сумасшедшего трубача,и стелющееся по пустынной площадиего мелизматическое,для себя только и Господа,музицирование.Этот гениальный чудакпопал даже в западные книги рекордов,поскольку Сороковую симфонию Моцарталихо выдувает,стоя на голове.Круглый сирота,выходец из детского дома,он научился говорить и общатьсяс окружающими на трубе,сам став её продолжением,и когда ему явственно не хватает слов,он приговаривает: «Счас!» —и невыговоренные чувствавыдувает на своём инструменте.Живёт он в Репино,где, странствуя по свету,выдул основательный особняк,и до первой электрички,в какую он должен вскоростиутомлённо погрузиться,брожу вокруг да около кругами,настраиваясь на его минорныя речитативы…
Зеркало
Люблю свой град пустыми точно вымершим,когда при вдруг нагрянувшемдесятиградусном морозцешаги становятся гулкимии иногда с отчётливотебя же и настигающимэхом,будто кто-токак теньявственносо мною жеи вышагивает.Люблю уже в четвёртом часу ночивсмотреться в окнаПавловой опочивальнив Инженерноми мысленно пройтисьуже вслед за Его теньюпо ночным коридорам и переходам,лестницам и закуткам;вступить вслед за Нимв парадные залыи, оглянувшисьв венецианскомот потолка до полузазеркалье,самому раствориться,повстречавшисьтолько с Его,карих глаз,базедовым взглядом.После царской погибелиАлександр здесь уже никогда не появлялся:все греческие антики игобелены самой Марии-Антуанетты,кабинетные бюро и парадные ложабыли насовсем изнесены из замка,кроме этих самыхвенецианских зеркал,куда, заглянув ненароком,кадетики времёнБрянчанинова и Достоевскогокак подрубленныепадали в обморок…Люблю, вслед за Ним,выйти на террасу,присмотретьсяза всполохами на Марсовом,к игле Петропавловки,к охранникам,мирно посапывающимв стеклянных будкахза оградой Летнегои Инженерного тоже,и к мальчишкам,на похрустывающем ледкуу самого Чижика-Пыжикаползающимв поискахв лунном отраженииблескучихевроденежек…Солнечныя зайчики
Спозаранку по Марсовупохотливо цокают«копытами»жеманные стада девиц,поспешающих на первую парув небезызвестный всем «Кулёк».Уже в совсем позабытой,прошлой жизния и сам баловался чтением лекцийв этом «приютедля окультуренных невест».Помню всё какие-то рожки да ножкиот былого дворцового великолепия.А так – коридоры и аудитории,крашеныемаслянисто-синюшным цветом —привычный стандарт интерьерасоветской эпохи:роддома,школы,прокуратуры,тюрьмы,больницы иморга,cловно и сама судьбакаждого из насдолжна была бытьтого же самого колера.На лекциях густо пахло «шанелью»,кто-то из «генеральских дочек»мерно пилил маникюр,кто-то перед зеркальцемнаводил марафети веяло тем духоманемичной холёности и пустоты,какое, скажем, в бурсеисточает такое же стадопоповских сынков,полных уверенности,что после нескольких летшколярской отсидкиряса да требники без всей этой благоглупной премудрости —«прокормит, оденет и обует»…Помню только всегонесколькоживых глаз(и, как всегда, провинциалок)из какой-нибудь Судогды или Касимова,а то и из-за Уральского Тобольскаили совсем уже из сказочногодля меня Забайкалья.Одеты они были,в отличие от сановных «кукол Барби»,в не Бог весть знает чтои ютились где-топо общагам,но сколько энергии,непритворного Эросав самих этих глазах,точно солнечныя зайчикипосередьосоловело-сонного царстванашей Культурки…Страусовы перья
Едва начнет развидняться,и через дорогув Летнемпрочерчиваютсяосклизлые силуэтыпредолгих саркофагов,до первой травкипокоящих в своих утробахбарочно-пухлявыхи маньерично-рукастыхАдонисов и Венерок.Своей правильной исимметричной хладьювыползают из обрывковсизого туманустоль похожие на дворцовыефасады казарм.А матрёшечная плясавицаСпаса на Кровивдруг становитсявсего лишь картинным задникомдля шляпкив «страусовых» перьяхи дамского стану(впрочем, совсем уже и без талии),с усилием втиснутогов тугие черные шелка.Обязательно с мопсом,а то и двумя,и тремя сразу,вертлявыми и визгливо тявкающими,волокущими поводыршув совершенно разныя стороны.Ценю в моей Незнакомкенепринужденное уменьезаполонить пейзажодной только собою,такт,с каким повязанына любимицахбантыи как грациознона них жесмотрятся штанцыматово-зеленого,а то и темно-малиновогобархату.Ведаю за нейи особенный дарраскрыть китайский зонтикрукоятьюслоновой кости(даже когда нет ни дождя,ни солнышка)только лишь для протяжки паузы,после которойи слышув сто первый разменторски озвученное подтверждение:«Да – это Ясделала из него писателя!»Знаю, что отозвавшисьна любезное приглашение,на пороге её квартирыв нос мне ударитнастоенный запахкошачьей мочии придётся усесться на диван —клеить к своему выходномуи единственному костюмушерстяныя клочья,а её мопсихи,расталкиваясь,будут наперегонкивползать мне на коленив ожидании,что я буду их поглаживатьи чесать им за ушами.А она сама,сняв только шляпу ипригубив красного сухого,пересыпать(не совсем, впрочем, к месту и теме)поэзами Мирры Лохвицкойсвои роковые речения…
На зависть потомкам
Едва только пригреет солнышко,как на Марсовомпоявляются шеренги голопузых мамочек,в маечках,едва прикрывающихприкормленныя тити,и,как правило, ещё ив голубеньких стрингахпод сползающимис налитых попокфирменно продранными на коленкахджинсиками.Тут же – разомлевшиеот «экзаменной» зубрёжкиещё на юной травке,слипшиеся изаголившиесядо этих самых стринговпарочки.Мальчишкив одних трусахдо упаду пинаютфутбол;у самого «вечного» —всполохамиогня —прыгают девчонкипо могильным плитам,точно по классикам;оскалясь,фоткаются в подвенечноммолодоженки.И только какой-тоодинокий и сумасшедший пригорюнецна этой ярмарке весельяошалело бродит,вчитываясь в1001-й разв розовом гранитевыбитыя строки:«Не жертвы – героилежат под этой могилой.Не горе, а завистьрождает судьба вашав сердцах Всех благодарных потомков.В красные страшные дниславно вы жилии умирали прекрасно»…Прилежные ученицы
В феврале 1917-гоПетроград закарнавалил,и в чаду хороводных плясокВременное правительство,в апартаментах Зимнегопируяпосередь чумной России,всё «пританцовывало»целый месяцдо упаду.И лишьк концу мартовской капеливдруг вспомнило онопро своих,основательно уже засмердевших,павших и убиенных.Поначалу хотелирыть ямуу самойМонферрановой колонныи толькосалонный эстетизм Милюковада брезгливость Керенскогоподвигнуливырыть еёна самом ужеМарсовом поле.Вернее,из края в крайизбороздили еготраншеями,точно это германская передовая,куда и плюхали рядкомнаспех сколоченныеи впервые – красныяящики,впервые – без попови панихидного пения,впервые – заместо крестов —масонского родачёрными лоскутамина длиннющих шестах…С того и началасьнаша ползучая смердяковщина —танец маленьких бесенятна порушенных старых устоях.И богоборчество большевиковбыло лишьученическим прилежанием и усвоениемнародившихся новых мистерий.И может потомумы и не «чуем под собою страны»,что, заголяясьпосреди теней забвенных предков,так доселеи вовсе неотпетых,мы сами уже давным-давно«покойники»…На корточках
«Негасимая лампада»посерёдке Марсовавлечет и маниткаждого проходящего.Вокруг царственных фасадовв нашем городкеуже настолько всёвыстужено и бесприютно,что маленькому человекухочется,прежде всего,«погреться».Ближе к ночиу этого самого первогос осени 1957-гов эСССэРии«вечного огня»собираются бомжи,и в отрывающихся всполохахиногда можноулицезреть синюшного господина,чмоканьем припавшегок дамской ручке и не без галантностии чопорных манерпротягивающегопрожаренную сосискус еще каплющим жиркомсвоей подбитоглазой Дульсинее.Чуть позжесобираются здесьсовсем вымерзшиеот бродяжничества по набережнымпарочки,с непременной пивной бутыльюв девическойдлани.Иногда целая компанияпохожих на хиппимолодых людейсносит скамейкипрямо к самому огонькуи, выпростав дымящиеся боты,под изнасилованно-тренькающую гитаручто-то осипше хоровит.Ближе к августуэта «лампада»совсем испужанно дёргаетсяот рёва орды многосильныхи блескучих никелем«Харлеев» —фестивальная компанияв кожанкахбородачей,вдоволь наносившисьна своих лошадушках,коротает здесь остатокбелой ночи.И как всегда,в половине седьмого утра,цокая кирзою,ошалело носится по полюстадодоходяжных солдатушекиз воинской частина Миллионной,какие прытко икороткими перебежками,отделяясь,и впрыгивают вэтот самыйритуальный квадрат.Сидят ониближе уже некудак самому огоньку,так пережидаяпринудиловно навязанную физру,и всегда на корточках икак-то приниженноссутулившись.И меня вдруг всегдаохватываетшоковое безумиеот когда-топодсмотренных кошмаровмоего уже далёкогосибирского детства:ВОХРав желто-коричневатых дублёнках;на укороченных поводках —своранеистово беснующихсянемецких овчарок;а на снегу —вот также,точно молотом притюкнутыеи униженно сплюснутые —корточно-распластанныязэка…
Голосит
На Марсовомвсегда пытаюсь отдышаться.Нынешняя особливостьмоей психеи такова,что я точно всё пытаюсь сделатьвздох полной грудью,а он у менявсё никак и никакне получается.Поэтому частенько,застыв в остолбенении,словно силясьприпомнить что-тосовсем уже позабытоеи, пожалуй,навсегда выпавшееиз пазух моего бытия,смотрю сквозь маревовечнующего огня,как за потешно величавым Суворовымплывет и расползаетсястанина Троицкого мостуи как в лижущия языкимедлительно сползаетгусеница из узкоглазых авто.А за всей этой картиной —ещё и бренчание допотопного пианино,какое, сколько бы ни настраивали,шелестит надтреснутыми позвуками,а иногда и совсем внезапуизнутривдруг жалобливо голосит…Выросши скоты
В детстве в Летнемноровил проложить лыжню по целине,потом, уже где-то на третьем кругуотвязав «дрова» от ботиночек,спуститься на хрумкий ледок Фонтанкии пробовать лупасить егокаблуком,а ежели он ещё и скользкий,разбежавшись,прокатиться по немус ветеркоми так почти до упаду.«У других детки как детки,а этот „кроха“ —сплошное Божье наказанье!» —говаривала про менямоя мамочка,когда я возвращался домойвесь мокрый…Любил вытащить из карманакраюху хлебушкаи, премелко кроша,кормить скачущих у ногчаек,бросая самым неуклюжими, как всегда, печалясь,что хлебушек выхватываютвсё равносамые прыткие.Потом уже удедушки Крылова,пока никто не видит,любил хулигански перелезтьза оградуи подёргать мартышку за хвостик,журувашку погладить по шейке,слонику пощекотать хоботи пытаться дотянутьсядо пребольшого кусочка сырав клюве у преглупой вороны,ещё совсем и не догадываясьпро презлую эпиграммуПетра Шумахера:«Лукавый дедушка с гранитной высотыГлядит, как резвятся вокруг него ребята,И думает себе: „О, милые зверята,Какие, выросши, вы будете скоты!“»…Скрип валенок
В Летнемлетоммне всегда не хватает«неба над головой»,да и значимыйсамим своим тольконичегонеделанием,он являет собой площадкудля сплошныхстахановских заделов:туристские толпы,выгружаясь из автобусов,лихорадочно фотаютсяу дедушки Крыловаи ещё у каждой скульптурыгруппами и отдельно,в напряге позируя непринужденность;студентки, ковыряясь в носу,зубрят, «не разгибая спины»;мамочки – в извечно менторнойметоде воспитанья:«Сядь – встань – не качайся —не болтай ногами – не кривляйся,цыц, я сказала – заткни фонтан,не реви, ты же – мужик!»…И только зимой,именно в Летнем саду,за морозливым хрустомботинокпо снежному настуотчётливо вспоминаюскрипение детских валенок,пар изо рта,свой красный нос,какой я растираю ладошкой,выпростав её из вязаной варежки,как-то хитро́резинкой подвязаннойк моей же,почему-то волчьей,шубке…Люблю сновадетскими очамисозерцать солнышкосквозь стеклянную крышу Мухи;чуять,как оно пригревает,и чаять скорой уже капели;смотреть на уточекв полынье под Пантелеимоновским,на воробышков,поклёвывающих на льду,и на Глашеньку —блаженную старушенциюв старомодном прикиде,какая, по пути в храм,с моста разбрасываетцелую котомкувыпрошенных по рюмочнымхлебных корочек и огрызков…
«Проклятие кармы»
В самую минуту открытияв Летнемнемудрено натолкнутьсяи на Володю О.В часу седьмом утраон сидит, по обычаю,ещё в подвальных кафешкахна Невском,где с отстранённымне от мира сегопоглядомвсё помешиваети помешиваетпринесённый ему кофий.Потом,если нет пронизывающего ветерка,скитальчествует по набережнымс тем же самым странным ощущением,что он смотритточно сквозь проходящих.В Летнийс набережнойон и забредаетв той же хмарной погружённостив какую-товроде как ужедругую реальность.Начинал он в садкедля узкоодарённых деток —в новосибирской школе-интернатепри Академии Наук:математику и физику им читалисамые натуральные академики,решившие поставитьвыращивание гениевна поток(физики тогда казалисьолимпийскими небожителями).В это же примерно времявышел знаменитый фильм«Девять дней одного года»,где некое ученое светило,получив во время экспериментасмертельную дозурадиации,живо обсуждает учёные результаты,а супруге,прибежавшей впопыхах, говорит:«Ну, а с тобоймы ещё успеем попрощаться!»…На двадцать четвертом году жизни Володязащитил уже докторскую,но потом взялся за какую-то «вечную»задачку по математике,за разрешение которойсразу же обещали Нобелевку и…вскоре как-то совсем неожиданно«надорвался».По другой версии,им же поведанной,он её всё-таки разрешил,но в ту же самую ночьэто решение украли «жиды»,и Нобелевскую премиюполучил на другом конце светаизвестный американскийматематический«вор в законе»…Было бы ему совсем тошномесяцами не вылезать из Бехтеревки,если бы лет тридцать назадя бы не дал ему почитать«Житие» протопопа Аввакума.И что-то его тогдапронзило,как-будто вдруг он что-то вспомнил.И помню его склонённым вПушкинском Домеуже над рукописным автографоми букву за буквойкаллиграфно переписывающимтекст неистового протопопа.Потом также он переписалЕвангелиецарицы Софьи,какое она писала ужев монастырском заточении,научился переплетать в кожу,оброс длиннющей бородойи стал как две капли походитьна породистого старовера.И только тогдаумиравшая мамочкавдруг проговорилась,что его дедушкабыл знаменитымпоморского согласиянаставником,расстрелянным ещё в 28-м,и что сами они потомстарательно хоронили себяот «религиозного дурмана»,и Володеньку старались воспитать —хотели ведь, как лучше —в духе «нового человека»и надо же:«Мало того, что он сломался,но и выползв родненьком сыночкевдруг этот самый„опиум для народа“»…
Из цикла «Мраморный»
Сиделец
В морозный солнечный денёк,когда у меня домавыстуженои спать приходитсяв трёх свитерах,и приходится поневолеещё и топить камин,люблю совершить променадпо Мраморному.Первому хозяину, Григорию Орлову,так и не суждено было ступитьпод его своды,понятное дело,и «богатые тоже плачут».И последний обитательК.Р. —Константин Константиныч,покоился здесьв эротоманно-меланхоличных интерьерахужебрюлловской переделки1830-х,в неге перегруженно-вязкого рококоизнывая от томления и скукипосередь своего многочисленногосемействаи в дневнике своёможивляясь и разрезвясьтокмо в описанияхбанных посиделокс безусыми и розовощёкимиординарцами…Ничего не осталось в этом дворцеот былого прошлого:музей Ленинасмыл и аляповатую лепнину с потолков,и сплошную позолоту с них,и только лестницанапоминаето былом величиида ещё и мраморный залАнтония Ринальди.Люблю в этой мраморной шкатулкес утреца,когда никого ещё и в помину нет,подойти к дубовому окну-витринеи долго-предолговсматриватьсяв шпиль Петропавловкии на ворон,подпрыгивающихна ледяных торосахзастывшей Невы…Потом люблю,улучив одобрительныйкивок смотрителя,потрогать начищенную медьузловатой «шишечки»оконного затвораи далее – разговоритьсяненарокомс самим сидельцем:«А приходите Вы к нам „сидеть“ —и пенсия сохраняется, ипять тыщ плотют,и сидишь —всё любуишьсяи любуишься!» —«Заманчиво! —подыгрываю я. —Ой, же как на старости летзаманчиво-то…»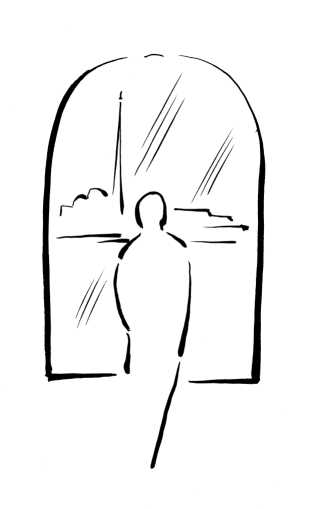
Пощёчина
В Мраморномникогда не лишаю себя удовольствияпройтись по гулкой пустоте«музея Людвига»,послушать дамское щебетаниеи «почесать языком»со скучающими сиделками.Как «кавалер со стажем»всегда обращаю вниманиена перемены в макияжеи на новые романтические чертыв очередном прикиде.Мои дамы,как им и положено,пунцовеют от удовольствияи сто первый раз жалуютсяне на холод и сквозняки,всегда в музеях привычныя,сколько на шедеврыПикассо и Сегала,В. Янкилевского и Дж. Боровски,от одного соприсутствия которыхим становится дурно,и к концу дняим уже непридуманно кажется,что это некрофильское хулиганствоиз них «всю жизнь повысасывало».Я и сам эту запоздалуюуже отрыжку,в рамках «пощечины общественному вкусу»,воспринимаю за живоеи охотно всегда верюв вампиризм этогоэстетски выверенного скандала.Но как всегда, люблюмоих дам подразнить,обозвав всё это ещё и высоким «искусством»!В ответ слышу всегда гневные филиппикии удивление, что от меня,человека вроде как образованного,им приходится выслушиватьподобную «галиматью».Я, как всегда, робкопытаюсь спорить,невзначай поминая имена Гусева и Боровского,тем самым подливая масла в огонь,так что праведный гневобрушивается уже не на мою,а на головы музейного начальства:«Это ж надо быть полными придурками,чтоб так сбрендить изахламить дворецстоль безобразной мазней!»Всегда,даже играя с дамами в шашки,любил изобразить «натиск»и быть уже на шаг от победы,но потом внезапу «зевнуть»и дать дамскому сердцупобедно возликовать.Так и здесь:я сдаюсь на волювсегда милосердной воительницы,и она уже,словоохотливо пересказывая мне,что слышала от экскурсоводово Врубелеи его трагической судьбе,точно на крыльях сама улетаетв незабвенный для неяи приснопамятныйсеребряный век…
