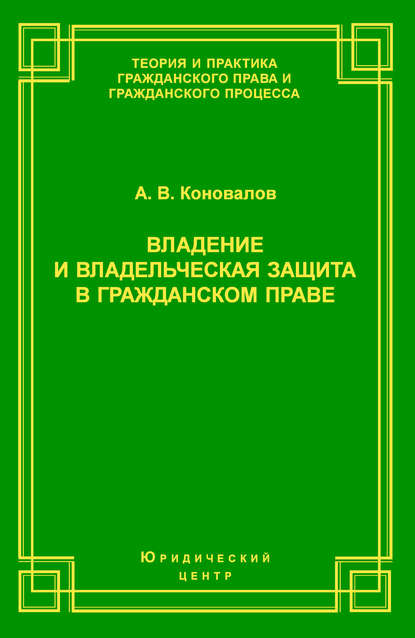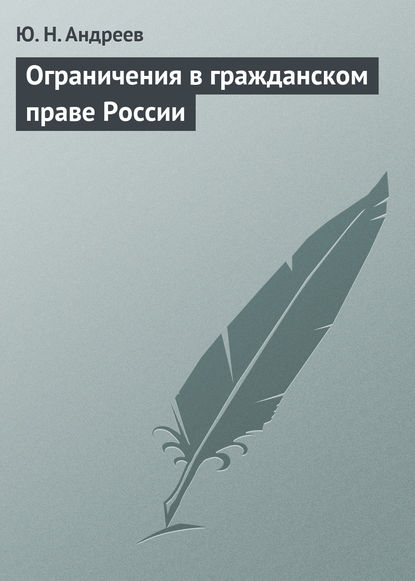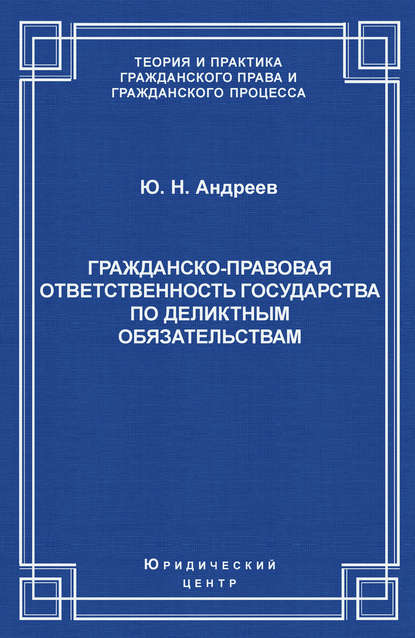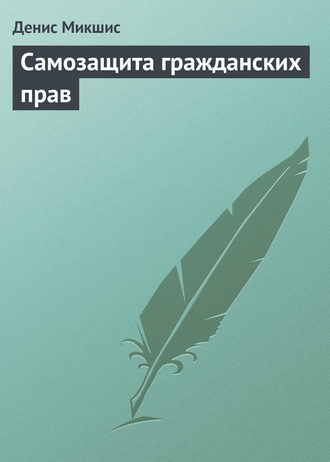
Полная версия
Самозащита гражданских прав
Итогом развития цивилистической доктрины советского периода стала концепция субсидиарной (термин наш. – Д. М.) самозащиты, допускаемой в строго ограниченных случаях (необходимая оборона, крайняя необходимость) и обособленной в категории «мер оперативного воздействия», а также отдельные попытки свести эти явления в одну родовую категорию.
4. В работах, написанных после введения в действие Гражданского кодекса РФ (1995–2012 гг.), отсутствует единый взгляд на понятие самозащиты. Достаточно сравнить между собой наиболее «свежие» публикации в периодических изданиях, посвященные самозащите, и убедиться, что каждый из авторов придерживается собственного взгляда на данную правовую категорию.
С одной стороны, сторонники взгляда В. П. Грибанова по-прежнему ограничивают самозащиту действиями в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Такая позиция пользуется популярностью в учебной литературе, а также у исследователей удержания и мер оперативного воздействия[50]. Однако оценить уровень аргументированности этой точки зрения сложно, поскольку аргументация в пользу разграничения либо не приводится (Е. В. Вавилин, Д. Н. Кархалев, И. Б. Живихина, B. C. Ем)[51], либо ограничивается повтором формулировки «самозащита допустима только во внедоговорных правоотношениях, может осуществляться только фактическими, а не юридическими способами» (О. П. Зиновьева, О. Г. Лазаренкова)[52], что не привносит новых аргументов в дискуссию. Довольно странное обоснование для отделения самозащиты от мер оперативного воздействия приведено в работе И. Б. Живихиной, полагающей, что «в отличие от самозащиты меры оперативного воздействия хотя реализуются собственником самостоятельно, но всегда опираются на существование соответствующих норм в действующем законодательстве (курсив наш. – Д. М.)»[53]. Парадоксальность такого обоснования очевидна, поскольку приведенное «отличие» мер самозащиты нивелируется тем, что их реализация точно так же опирается на нормы действующего законодательства (как минимум – на положения ст. 14, 1066, 1067 ГК РФ).
С другой стороны, ряд ученых развивают и аргументируют позицию Ю. Г. Басина, указывая на нецелесообразность разделения действий по самозащите на «фактические» или «юридические»[54]. Поскольку нами разделяется именно эта позиция, далее будут приведены как подробная аргументация в ее пользу, так и критический анализ других теорий. Здесь же уместно привести мнение А. Г. Карапетова. который справедливо замечает: «…в контексте буквы российского ГК нет никаких логических причин не признать меры оперативного воздействия и односторонний отказ от нарушенного договора в частности в качестве разновидностей самозащиты права»[55].
С некоторыми оговорками позицию Ю. Г. Басина разделили М. И. Брагинский и Н. И. Клейн, предложив в 1995 г. включить в понятие «самозащита» действия, направленные на защиту от нарушения субъективных гражданских прав во внедоговорных отношениях, и некоторые действия, направленные на защиту прав в договорных отношениях (удержание)[56]. Вследствие поляризации мнений по этому вопросу в научном сообществе подобная «компромиссная» точка зрения не нашла поддержки в позднейших исследованиях и утратила актуальность.
Таким образом, в современной цивилистической доктрине отсутствует единое учение о самозащите, в том числе и потому, что вместо одного высказываются два противоположных взгляда на объем и характер действий, входящих в понятие самозащиты. Однако если исключить чисто терминологические разногласия, то можно увидеть, что в современной цивилистике созданы необходимые предпосылки для формирования учения о самозащите именно на основе взглядов Ю. Г. Басина и его научных союзников и последователей.
Во-первых, позиция сторонников разумного расширения понятия самозащиты научно аргументирована на языке современного права, в то время как позиция оппонентов опирается на доводы, высказанные свыше 30 лет назад.
Во-вторых, ряд аргументов в пользу расширения понятия самозащиты апробирован судебной практикой[57]. В числе способов самозащиты судами названы действия, представляющие собой хрестоматийные примеры «мер оперативного воздействия»: одностороннее приостановление исполнения договорных обязательств по энергоснабжению[58], оказанию услуг связи[59], отказ от оплаты некачественно выполненных работ по договору подряда[60], «удержание» денежных средств, причитающихся контрагенту (т. е. приостановление платежа либо зачет[61]). Справедливости ради отметим, что в судебной практике тоже встречается ошибочное восприятие самозащиты (добровольное выполнение требований заинтересованного лица до предъявления иска)[62]. Примечательно, что в судебных актах постсоветского периода никогда не использовался термин «меры оперативного воздействия», что позволяет для объяснения природы таких мер обратиться к «бритве Оккама», признав их способом самозащиты.
Существо дискуссии вокруг понятия самозащиты гражданских прав заключается в различной трактовке основных элементов ее состава (субъект, объект, цель, содержание и основания применения). Характеристика некоторых из них (субъект, цель самозащиты) различается лишь деталями, в то время как другие (объект самозащиты), напротив, служат предметом научного спора. Многообразие взглядов на самозащиту складывается, во-первых, из разного толкования учеными каждого элемента, во-вторых, из индивидуального сочетания этих толкований, свойственного каждой концепции. Поэтому представляется целесообразным не останавливаться на отдельном рассмотрении и критике всех существующих понятий самозащиты гражданских прав, а обратиться непосредственно к исследованию ее состава.
1. Принципиальные разногласия среди ученых вызвало определение объекта самозащиты гражданских прав. Центральным моментом спора является вопрос о том, какие гражданские права (любые или только определенные) пользуются самостоятельной неюрисдикционной защитой. В зависимости от юридической оценки действий, совершаемых с целью пресечения правонарушения, ученые считают объектом самозащиты 1) личность и вещные права[63]; 2) права требования в договорных обязательствах[64]; 3) обе указанные категории прав[65]. Однако, по мнению некоторых современных исследователей, объект самозащиты образуют все права, в том числе и личные неотчуждаемые права, входящие в объект гражданско-правовой охраны[66]. Последняя точка зрения представляется наиболее обоснованной и подтверждается системным анализом норм действующего законодательства. Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ «каждый вправе защищать свои права любыми способами, не запрещенными законом». В рамках гражданского законодательства это право реализуется посредством закрепления в ст. 14 ГК РФ деятельности по самостоятельной защите гражданских прав. Ни одна из указанных норм не ограничивает объект самозащиты определенной группой имущественных либо неимущественных прав.
Более того, гражданское законодательство предусматривает самозащиту личных прав на объекты, оборот которых им не регулируется. Речь идет о личных неотчуждаемых правах и иных неимущественных правах на неотчуждаемые блага (ст. 150, п. 3 ст. 152 и ст. 1067 ГК РФ)[67]. Многие ученые прямо именуют «юридически возвысившиеся права человека» субъективными гражданскими правами[68], но такая позиция не является общепринятой, поэтому вопрос о статусе личных неотчуждаемых прав нельзя в полной мере считать закрытым. Принципиально важный момент состоит в том, что неотчуждаемые права могут являться объектом самозащиты ввиду «пригодности гражданско-правовых форм охраны к защите неимущественных связей»[69]. Учитывая сказанное, невозможно согласиться с формулировкой «объект самозащиты – это то, по поводу чего возникают регулятивные (курсив наш. – ДМ) отношения»[70]. Спорным представляется и утверждение о том, что самозащита в форме восстановления личных неимущественных прав невозможна[71], поскольку существуют примеры таких способов самозащиты[72]. Таким образом, объект самозащиты следует определять исходя из предмета гражданско-правовой охраны (ст. 2 ГК РФ): это имущественные и связанные с ними личные неимущественные права, а также неотчуждаемые права на нематериальные блага[73] (право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и неприкосновенность жилища).
На основании изложенного представляется целесообразным обозначать в дальнейшем все разновидности объектов самозащиты термином «субъективные гражданские права», подразумевая их внутреннюю дифференциацию (имущественные и неимущественные, строго личные и отчуждаемые[74]). Поскольку охраняемые законом интересы не обладают статусом субъективных прав, следует, вопреки мнению некоторых авторов[75], исключить их из объекта самозащиты.
Далее требуется уточнить статус субъективного права, подлежащего самозащите, поскольку вокруг него также ведутся дискуссии. С одной стороны, М. И. Брагинский утверждает, что лицо, самостоятельно защищающее свое право, должно являться его бесспорным обладателем[76]. Такое требование противоречит сущности защиты, поскольку спор о праве не является основанием для его прекращения и поэтому оспариваемое право должно пользоваться такой же защитой, как бесспорное. Если же мы, напротив, допустим, что всякое оспариваемое право должно оставаться без защиты, то тем самым заведомо признаем правомерность притязаний любого лица, оспаривающего право, и, следовательно, наделим его полномочиями судебной власти. С другой стороны, ученые, непосредственно исследовавшие самозащиту, полагают, что защите – независимо от факта оспаривания – подлежит любое действительное право[77] (например, право добросовестного приобретателя при истребовании имущества). Применительно к субъективному праву прилагательное «действительное» означает, что оно (право) объективно существует и приобретено в порядке, установленном законом (или иным актом, содержащим нормы гражданского права в соответствии со ст. 3 ГК РФ). Законодатель лишь единожды использует термин «действительное право», но лишь применительно к характеристике самоуправства (ст. 19.1 КоАП РФ), в контексте противопоставления субъективного права «голому» притязанию субъекта. Тем самым он не вводит некую дополнительную характеристику права, но всего лишь делает акцент на субъективной стороне поведения правонарушителя, принимая во внимание заблуждение последнего относительно правомерности осуществляемого притязания[78]. Выражение «действительное право» вне контекста ст. 19.1 КоАП РФ является лексически избыточным постольку, поскольку существование недействительного права невозможно по определению. Таким образом, признак действительности в рамках цивилистической доктрины самозащиты не имеет научного значения.
2. Существенной корректировки требует трактовка субъекта самозащиты гражданских прав. Распространенная в современной литературе характеристика субъекта как «заинтересованного»[79] или «управомоченного»[80] лица не отличается содержательностью, поскольку данные термины носят оценочный характер, а исследователи не уточняют ни характер и содержание охраняемого интереса, ни источник правомочий субъекта. Не указывает на конкретного носителя права на самозащиту и ст. 14 ГК РФ. Между тем не подлежит сомнению, что в ряде случаев заинтересованным в защите права можно считать не только его обладателя, но и третьих лиц. Далее, возможность судебной защиты имущественных прав через представителей позволяет поднять вопрос о возможности делегирования правомочия на самозащиту. Наконец, требуют правовой оценки случаи внесудебной защиты права посредством коллективных действий. В результате, если пассивный субъект правоотношения, складывающегося при осуществлении права на самозащиту, хорошо изучен (это нарушитель права или владелец имущества, которому при самозащите причиняется вред[81]), то активный субъект до настоящего времени остается неопределенным. Исследование законодательства и правоприменительной практики позволяет сделать ряд выводов, существенно уточняющих круг лиц, обладающих правом на самозащиту.
На стороне нарушителя права и противостоящего ему «заинтересованного лица», защищающего субъективное право, могут выступать физические и юридические лица, а также, с указанными ниже оговорками, Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования (соответственно, в лице органов государственной власти и местного самоуправления). Физические лица могут являться субъектами правоотношения самозащиты с момента рождения, а юридические – с момента государственной регистрации, так как право на самозащиту является элементом их гражданской правосубъектности[82].
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования, вопреки мнению некоторых ученых[83], также являются субъектами самозащиты гражданских прав. Такой вывод следует из положения п. 1 ст. 124 ГК РФ, согласно которому публичные образования участвуют в гражданско-правовых отношениях на равных основаниях с прочими субъектами гражданских прав. Поскольку большинством ученых право на защиту трактуется либо как самостоятельное гражданское право, либо как одно из правомочий в составе любого гражданского права, самозащита также является актом осуществления права. Следовательно, публичные образования осуществляют это право (правомочие) наравне с гражданами и юридическими лицами.
Необходимо отметить, что публичные образования при участии в гражданских правоотношениях не вправе применять средства, противоречащие существу гражданско-правовых отношений (п. 3 ст. 2 ГК РФ), в том числе способы самозащиты гражданских прав, выходящие за пределы, обозначенные ГК РФ. Такое ограничение обусловлено природой самозащиты. Во-первых, как будет аргументировано далее, источником права на самозащиту в гражданском обороте является правоспособность его участников[84], а не властная компетенция органов государства и местного самоуправления, что исключает использование властных полномочий в качестве гражданско-правового средства защиты субъективных прав. Во-вторых, использование публичными субъектами своих властных полномочий в целях самозащиты гражданских прав недопустимо уже потому, что оно противоречит началу равенства субъектов гражданского оборота (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Поэтому, например, введение моратория на платежи по государственным или муниципальным обязательствам не является способом самозащиты, хотя и представляет собой юридический факт, изменяющий гражданские права и обязанности. Другим примером, уже из судебной практики, является самостоятельное изъятие органом местного самоуправления самовольных построек до признания за ним права собственности на указанные постройки в судебном порядке[85]. Поэтому если субъект, наделенный публичными правомочиями, при рассмотрении спора ссылается на ст. 14 ГК РФ, то суд, прежде всего, должен установить, что оспариваемое действие не основано на властных полномочиях[86].
Некоторые ученые считают, что «при самозащите действия управомоченного лица направлены на защиту своих гражданских прав», в отличие от необходимой обороны, которая может заключаться в защите как собственных, так и чужих прав и интересов[87]. Однако данная позиция представляется небесспорной. Во-первых, необходимая оборона традиционно считается одним из способов самозащиты гражданских прав[88]. Во-вторых, еще дореволюционными правоведами отмечалось, что самозащита может осуществляться «с помощью других людей или же и самостоятельно этими последними»[89]. Можно привести немало современных примеров самозащиты права посредством действий третьих по отношению к обладателю права лиц. Например, право юридического лица на самозащиту реализуется им исключительно через действия своих органов или иных представителей, т. е. посредством действий физических лиц.
Однако даже если исключить случаи представительства, когда действия третьих лиц не имеют самостоятельного юридического значения (поскольку совершаются в интересах обладателя права и от его имени)[90], можно выделить группу действий, условно именуемых нами самозащитой в чужом интересе. Эта разновидность самозащиты урегулирована нормами, входящими в состав института действий в чужом интересе без поручения (negotiorum gestio)[91]. Из содержания ст. 982 ГК РФ следует, что действия по защите прав другого лица приобретают характер представительства с момента выражения таким лицом согласия. Следовательно, при отсутствии такового отношения представительства между сторонами не возникает (п. 1 ст. 983 ГК РФ). Защиту прав третьего лица помимо его воли следует считать допустимой в силу того, что действующее законодательство признает необходимость обеспечения восстановления нарушенных гражданских прав (п. 1 ст. 1 ГК РФ) и не требует согласия потерпевшего при защите его жизни и имущества в состоянии необходимой обороны (ст. 37 УК РФ, ст. 1066 ГК РФ), а также в ситуации крайней необходимости (ст. 39 УК РФ, ст. 1067 ГК РФ). Применительно к последней ситуации законодатель в п. 2 ст. 983 ГК РФ прямо указывает, что действия по спасению жизни другого лица могут совершаться даже против его воли. Таким образом, понятием самозащиты должны охватываться не только действия обладателя нарушенного права, но и действия третьих лиц в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости.
Более того, правоприменительная практика свидетельствует о возникновении в гражданском обороте такого специфического явления, как коллективная самозащита. Приведем лишь несколько примеров. Решением городского Совета депутатов города Миасса от 22.01.2001 г. был увеличен на 37 % размер платежей за предоставление коммунальных услуг. Однако решением мэра города, принятым с превышением полномочий, стоимость некоторых услуг (отопления и др.) была увеличена на 82 %. Кроме того, с жителей города взималась плата за капитальный ремонт жилого фонда, однако на протяжении ряда лет никакого капитального ремонта жилого фонда, инженерных коммуникаций в домах города не производилось. В содержание и ремонт жилья с учетом затрат на внутридомовые сети было включено 20 наименований услуг, которые жильцам фактически не оказывались. Таким образом, жилищно-эксплуатационные организации города, по примерным подсчетам жителей города, получали без каких-либо правовых оснований 200–250 тысяч рублей ежемесячно только с 12 домов. Группа жителей города Миасса, руководствуясь ст. 37 Федерального закона «О защите прав потребителей» и ст. 14 ГК РФ, опубликовала открытое письмо с заявлением об отказе от оплаты за содержание и капитальный ремонт жилья и зачете излишне выплаченных сумм в счет предстоящих платежей[92]. В данном случае в действиях собственников жилых помещений усматриваются признаки применения двух способов самозащиты. Первый – приостановление встречного исполнения – платежей по договору энергоснабжения и подобным ему договорам (п. 2 ст. 328, ст. 544 ГК РФ), второй – зачет излишне уплаченной по договору суммы с целью возврата неосновательного обогащения (ст. 410, 1102, п. 3 ст. 1103 ГК РФ). Право граждан на коллективную самозащиту обусловлено принадлежащим им правом общей собственности на общее имущество многоквартирного дома[93] и, следовательно, общностью обязательств по внесению коммунальных платежей в части имущества общего пользования (п. 3, 4 ст. 17 Закона).
Интереснейшим примером коллективной самозащиты прав ООО и его участников является случай, рассмотренный в постановлении ФАС Уральского округа от 18.03.2008 г. № Ф09–1687/08-С4 по делу № А47–8685/2007-АК-26. Суд указал на допустимость самозащиты в форме решения общего собрания о признании умершего участника ООО выбывшим в связи с необходимостью продолжения деятельности с учетом того, что «наследники… со дня смерти по день рассмотрения настоящего дела в общество не обращались, сведениями о принятии ими наследства общество не располагает, при этом, как указано обществом "Терминал", указанное обстоятельство затрудняет его деятельность, поскольку для принятия решений о внесении изменений в учредительный договор требуется единогласное решение всех участников общества, что подтверждается представленными в материалах дела отказами регистрирующего органа в государственной регистрации изменений в учредительные документы общества (о внесении изменений в части места нахождения юридического лица и о получении лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочных работ) от 09.07.2007 г., 08.10.2007 г. ввиду несогласования указанных изменений всеми участниками общества. Кроме того, судом установлено, что предельный срок для доверительного управления наследственным имуществом истек 02.11.2004 г. (ч. 4 ст. 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации). Меры по получению свидетельства о праве на наследство на долю Батырева В. В. как выморочного имущества регистрирующим органом также не предпринимались».
Не меньший интерес представляют действия ряда организаций на рынке подписных изданий Республики Беларусь (РБ) в мае-июне 2004 г., связанные с самозащитой права на осуществление предпринимательской деятельности и направленные на предотвращение убытков вследствие возможного неисполнения обязательств перед подписчиками. Министерство связи РБ существенным образом нарушило сроки рассмотрения заявок на выдачу и продление лицензий, установленные Постановлением Совета Министров РБ от 20.10.2003 г. № 1382 и предъявило к соискателям ряд требований, не предусмотренных законодательством РБ о лицензировании. Тем самым, начиная с 1 мая 2004 г., организации, осуществляющие деятельность по подписке и доставке печатных изданий, остались без лицензий. Как следствие, у данных организаций возник риск ответственности за неисполнение обязательств перед подписчиками, оформленных еще в 2003 г., поскольку действия лицензирующего органа не могли рассматриваться в качестве обстоятельств непреодолимой силы либо иных оснований для приостановления исполнения обязательств. Некоторые организации продолжили оказание своих услуг без лицензии, действуя в рамках самозащиты своих гражданских прав (ст. 11 ГК РБ), со ссылкой на состояние крайней необходимости (ст. 936 ГК РБ)[94].
Тенденция коллективной самозащиты является юридически значимой, поскольку речь идет, по-видимому, о формировании новых способов неюрисдикционной защиты гражданских прав, требующих осмысления и закрепления в правоприменительной практике судов и правоохранительных органов, а в перспективе и законодательного урегулирования. Современными исследователями справедливо отмечается, что «сама жизнь порождает новые способы самозащиты граждан, правовая природа которых четко еще не определена. К таким способам относятся, в частности… блокирование автомобильных, железных дорог, мостов, взлетных полос аэродромов и др.»[95]. Представляется обоснованным предположение о гражданско-правовой природе названных способов самозащиты, если исходить из объекта защиты, характера нарушения и соответствия пределов самозащиты требованиям ст. 14 ГК РФ. Так, например, признаки самозащиты гражданских прав, осуществляемой в коллективной форме, усматриваются в акциях протеста, проводимых общинами малочисленных коренных народов Крайнего Севера и Дальнего Востока России (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Сахалинская область) против нарушения нефтедобывающими компаниями их права на безвозмездное и беспрепятственное пользование родовыми угодьями. Действия по самозащите обычно выражаются в блокировании дорог, ведущих на нефтепромыслы.
Вместе с тем следует учитывать, что совместное осуществление права на самозащиту несколькими лицами, несмотря на специфичность способов, является не юридическим феноменом sui generis, а частным проявлением множественности субъектов правоотношения, в данном случае – охранительного, вытекающего из множественности лиц в охраняемом отношении (право собственности супругов, право совместной собственности членов товариществ собственников жилья[96], право пользования родовыми угодьями и т. д.). При этом следует заметить, что участие двух и более заинтересованных лиц в защите одного и того же права всегда носит солидарный характер, даже если охраняемое право является долевым. Например, при совместном насильственном задержании лица, совершающего квартирную кражу, несколькими собственниками этой квартиры охраняемое право имеет долевую природу, однако право на самозащиту осуществляется совместно. Неизменная форма множественности субъектов, характерная для самозащиты, объясняется природой права на самозащиту, которое нераздельно, не может быть выражено количественными показателями. Поэтому, в частности, следует признать юридически допустимым одновременное осуществление права на самозащиту представляемым и его представителем, а также несколькими представителями.
3. При характеристике цели самозащиты представляется необходимым отказаться от традиционного раздробления на самостоятельные части (пресечение правонарушения, обеспечение возможности восстановить право, восстановление нарушенного права в натуре, компенсация), которое представляется логически неоправданным. Приведенный перечень описывает не цель, а задачи самозащиты, поскольку они возникают поочередно, исходя из развития нарушения субъективного права. Между тем цель самозащиты права остается неизменной. Это обеспечение неприкосновенности гражданского права, в том числе путем восстановления[97]. Исходя из динамики правоотношений, возникающих в связи с нарушением субъективного гражданского права, можно выделить четыре различных стадии такого нарушения: 1) вероятность нарушения права в будущем; 2) нарушение права или его реальная угроза; 3) промежуток между состоявшимся нарушением права и наступлением его последствий и 4) наступление последствий нарушения. Соответствующим образом модифицируются и основания самозащиты.