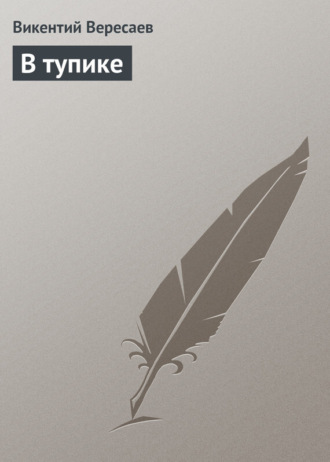 полная версия
полная версияВ тупике
– Да, бывают, я это хорошо знаю. Но только, – уж извините, не из рабочих. В Курске, пред нашим отъездом сюда, Михаил хотел освободить одного арестованного, – никаких данных против него. А чекист, потрясая руками: «они всю жизнь нас давили, расстреливали нашего брата-рабочего. И его расстрелять!» Михаилу он показался подозрительным. Велел навести справки. Оказалось, – бывший жандармский офицер. Расстреляли.
Когда Надежда Александровна ушла, Катя сказала, мрачно глядя в окно:
– Если я случайно где-нибудь с этим Воронько встречусь, я ему не подам руки!
На скамейке под окном, облокотившись о спинку, неподвижно сидел Мириманов и как будто дремал.
С Надеждой Александровной при каждой новой встрече отношения Кати портились все больше. Надежда Александровна не могла с нею говорить без раздражения. Вопросы, которые Катя ставила с обычною своею прямотою, были для Надежды Александровны, как докучливо-нудное жужжание мухи, бьющейся в пыльной паутине.
Катя заметила: все человечество резко делилось для нее на три расы. Первая – пролетариат; это была божественно-лучезарная и божественно-безупречная порода людей, полная мощи, благородства и вещего понимания жизни. Вторая – люди ее партии: тесная семья дорогих товарищей, занятых важным, единственно нужным для жизни делом. И третья – все остальное: злобно-хлюпающая слякоть, только и думающая, чтобы залить своею зловонною жижею светлое пламя революции. Насколько было возможно, она сторонилась их с брезгливым чувством. Все их слова и дела были для нее сознательною ложью, саботажем и подкопом под революцию.
В революцию она была влюблена, как иная жена бывает влюблена в своего мужа: в нем все хорошо, у него не может быть ошибок и недостатков, малейший отрицательный отзыв о нем воспринимается ею, как обжигающее душу оскорбление.
Катя говорила ей:
– Смотрите, все кругом рассказывают: ваш жилищный отдел, – это сплошное гнездо взяточников, за деньги можно получить какую угодно квартиру, без взятки никогда не получишь ничего.
Острые гвозди маленьких глазок злобно устремлялись на Катю.
– Докажите!
И странно было: черные эти гвоздики, – неужели это те же огромные окна, из которых, как из прожекторов, лились снопы такого чудесного света?
– Надежда Александровна, как же это может доказать частный человек? А для власти, если только она захочет исследовать, это не составит никакого труда.
– Извините, Катерина Ивановна. Власти некогда заниматься обывательскими сплетнями.
А Корсаков, ее муж, Кате нравился все больше. Он ясно видел всю творившуюся бестолочь, жестокость, невозможность справиться с чудовищными злоупотреблениями и некультурностью носителей власти. В официальных выступлениях держался, как будто ничего этого нет, но в частных разговорах откровенно признавал все. Он крепко верил в конечную цель, в общую правильность намеченного пути, но это не мешало ему признавать, что путь идет через густейшую чашу стихийных нелепостей и самых ребяческих ошибок.
Когда Катя говорила с Надеждой Александровной или когда читала газеты, у нее было впечатление: пришли, похваляясь, самонадеянные, тупые, не видящие живой жизни люди, разжигают в массах самые темные инстинкты и, опираясь на них, пытаются строить жизнь по своим сумасшедшим схемам, а к этим людям со всех сторон спешат примазаться ловкие пройдохи, думающие только о власти и своих выгодах.
Когда Катя разговаривала с Корсаковым, ей представлялась картина: хрупкая ладья несется по течению в бешеном, стихийном потоке, среди шипящей пены и острых порогов, а сидящие в ладье со смертельными усилиями только следят, чтобы ладья не опрокинулась, не дала течи, не налетела на подводную скалу. И верят, что, в конце концов, выплывут на широкую, светлую реку. А толчки, перекатывающиеся волны, треск бортов, – все это было естественно и неизбежно.
С Корсаковым у Надежды Александровны были постоянные столкновения. Корсаков говорил, устало потягиваясь и потирая ладони меж сжатых колен:
– Нелепость очевидная: с нашей неорганизованностью мы совершенно не в силах держать в своих руках все производство и всю торговлю. На дворах заводов образовались кладбища национализованных машин, – ржавеют под дождем, расхищаются. Частная торговля просачивается через все поры…
Надежда Александровна ядовито возражала:
– Значит, опять разрешить частную торговлю, возвратить фабрики хозяевам?
– Да, что-то тут нужно сделать… Рано или поздно придется ввести какие-то коррективы.
Надежда Александровна в негодовании вскакивала из-за стола.
– И это говорит коммунист! Положительно, таких людей надо бы выбрасывать из партии и расстреливать!
Корсаков посмеивался.
– И даже расстреливать?
– Да, и расстреливать.
Два раза Анна Ивановна приезжала на свидание с Иваном Ильичом. А потом произошло вот что.
Восемь солдат проходило через Арматлук. Узнали они, что есть склад вина, дали в зубы охранявшему склад милиционеру-почтальону, прикладами сбили замок, добыли вина и стали на горке пить. Подпили. Остановили проезжавшую по шоссе порожнюю линейку и велели извозчику-греку катать их. Все восьмеро взвалились на линейку и в сумерках долго носились вскачь по улицам дачного поселка с гиканьем и песнями. А потом стали стрелять в цель по собакам на дворах. Пьяные заснули в степи за поселком. Грек уехал.
А утром Люба, дочь соседнего сторожа, увидела на дворе Сартановской дачи, перед свиною закуткою, труп Анны Ивановны. Около нее лежала миска с разлившимся хлебовом для поросенка. В левом боку была пулевая рана.
Дали по телефону знать в город, на следующий день приехали Катя с Верой. Смотрели они на спокойное, прекрасное в смерти лицо матери, странное без круглых очков, такое милое и невозвратное. И горько плакали, и с ужасом думали, что будет с отцом, когда он узнает. Видела Катя арестованных солдат, бледных от похмелья и испуга, – испуга только за себя, а не за сделанное. Их гнали в город на расстрел. И все это было ненужно, и кому от этого стало бы легче? Во рту как будто был тошнотный вкус крови, а в душе – тупой ужас пред жизнью.
За время, пока дача была без призора, исчез поросенок, раскрали кур. В кухне высадили окно, выломали из печки духовку и бак.
Гостей собралось много. Было сегодня рождение Корсакова, кстати воскресенье, и все обрадовались случаю передохнуть от чудовищной работы, беззаботно попраздничать.
Белозеров, в заношенной куртке защитного цвета, положил ладонь на рояль, лицо его стало серьезно и строго. Разговоры затихли. Он дал знак аккомпаниатору.
Перед воеводой молча он стоит.Голову потупил, сумрачно глядит.С плеч могучих сняли бархатный кафтан,Кровь струится тихо из широких ран,Скован по рукам он, скован по ногам…Как всегда, когда Катя слушала Белозерова, ее поразила колдовская сила, преображающая художника в минуты творчества. Мрачно-насмешливый взгляд исподлобья, дикая энергия, кроваво-веселая игра и чужими жизнями, и своею. Все муки, все пытки – за один торжествующий удар в душу победителя-врага.
А еще певал я в домике твоем;Запивал я песни все твоим вином;Заедал я чарку хозяйскою едой;Целовался сладко – да с твоей женой!!.Где в своей душе берет он все, – этот дрянной человечишко с угодливою, мещански приобретательскою натурою? Как может лупоглазый кролик преображаться в самого подлинного тигра?.. Даже не посмел надеть своего смокинга, – к приходу большевиков нарочно раздобыл эту демократическую куртку.
На цыпочках вошел в залу седоватый человек в золотых очках. Корсаков приветливо кивнул ему головою. Он огляделся и тихонько сел на свободный стул подле Кати.
Белозерову хлопали восторженно, он еще пел. «Нас венчали не в церкви», «Не шуми ты, мать-дубравушка». Кате стало смешно: песни всё были разбойничьи; очевидно, – самый, думает, подходящий репертуар для теперешних его слушателей.
Корсаков лениво сказал:
– Спойте: «В двенадцать часов по ночам встает император из гроба».
Белозеров недоуменно взглянул и ответил с сожалением:
– Я этих нот не захватил.
Вдруг электричество мигнуло и разом во всех лампочках погасло. Из темноты выскочили лунно-голубые четыреугольники окон.
– Пробка перегорела.
– Нет, во всем городе темнота.
– Дежурный у доски заснул на станции. Сейчас опять зажжется.
Но не зажигалось. Электричество вообще работало капризно. Надежда Александровна пошла раздобывать свечей. Гости разговаривали и пересмеивались в темноте.
Искусственно-глубоким басом кто-то сказал:
– Товарища Корсакова в круг! Советский анекдотик!
Все засмеялись, подхватили, стали вызывать.
Корсаков помолчал и спросил:
– «Путешествие русского за границу» – не слыхали?
– Нет. Валяйте.
Прежний бас:
– Вонмем!
Корсаков стал рассказывать.
– Гражданин Советской республики, отстояв тридцать семь очередей, получил заграничный паспорт и поехал в Берлин. На пограничной немецкой станции получил билет, – бегом на запасный путь, где формировался поезд, и с чемоданчиком своим на крышу вагона. Подали поезд к перрону. Кондуктор смотрит: «Господин, вы что там? Слезайте!» – «Ничего, товарищ, я так всегда езжу, я привык!» – «У нас так нельзя, идите в вагон». – «Видите ли, товарищ, у меня нет права на проезд ни в штабном поезде, ни в поезде В.Ч.К.» – «Да билет-то есть у вас?» – «Вот он, вот он, билет». – «Так идите в вагон». Гражданин почесал за ухом, слез, вошел в вагон, – пулею в уборную и заперся. Стучатся. «Некуда, некуда, товарищ! Тут двадцать человек сидит!» Поезд пошел, пассажиры толкаются в уборную, – заперто. Пришел кондуктор. «Эй, мейн герр[6]! Вы там долго будете сидеть?» – «До Берлина!» – «До Берлина? Вот странная болезнь!»
Сидевший рядом с Катею господин прыснул от смеха.
– Кондуктор отпер дверь своим ключом. «Так, господин, нельзя. Иногда уступайте место и другим».
Рассказал Корсаков, как обыватель приехал в Берлин, как напрасно разыскивал Жилотдел, как приехал в гостиницу. Таинственно отзывает швейцара. – «Дело, товарищ, вот в чем: мне нужно переночевать. Так, где-нибудь! Я не прихотлив. Вот, хоть здесь, под лестницей, куда сор заметают. Я вам за это заплачу двести марок». – «Да пожалуйте в номер. У нас самый лучший номер стоит семьдесят марок». – «Суть, видите ли, в том, что я поздно приехал, Жилотдел был уже заперт, и у меня нет ордера…»
После многих приключений в Берлине, обывателя в конце концов посадили в железную клетку и над нею написали:
Р.С.Ф.С.Р.
(редкий случай феноменального сумасшествия расы)
Вошла Надежда Александровна с двумя зажженными кухонными лампочками и раздраженно сказала:
– Все с белогвардейскими своими анекдотами!
Толстый Климушкин закатисто хохотал. Господин рядом с Катей смеялся детским, неостанавливающимся смехом, каким смеются серьезные люди, у себя не имеющие смешного. Надежда Александровна с упреком взглянула на него.
– И вы тоже!
Господин вытирал под очками слезы.
– Очень, очень остроумно!
Он понравился Кате, она с ним заговорила. Серьезно и хорошо он отвечал на такие вопросы, на которые другие либо раздражались, либо отвечали задирающе-насмешливо.
Он говорил, выпуская сквозь усы дым из трубки:
– …Это с самого начала можно было предвидеть, и логика вещей, естественно, привела к этому. Только подумать, – в свое время у нас в руках находились и Краснов, и Деникин, и Корнилов. Краснов, арестованный, был у нас в Смольном, – и его отпустили на свободу под честное слово, что не пойдет против нас. И сколько потом понапрасну пролилось из-за этого рабочей крови!.. Враги внутри еще страшнее. Принимают лояльный вид, а тайно саботируют всякое наше начинание, дезорганизуют все, что могут, и в критический момент перебрасываются к нашим врагам.
В полумраке Катя видела серьезные глаза под высоким и очень крутым лбом, поблескивала золотая оправа очков, седоватые усы были в середине желто-рыжие от табачного дыма. Обычного вида интеллигент, только держался он странно прямо, совсем не сутулясь.
Катя сказала:
– Ну, хорошо. Это бы все еще можно, – если не принять, то понять. Но ведь арестовывают и уничтожают часто совершенно невинных, по одному подозрению, даже без всякого подозрения, просто так.
– Бесспорно. Но тут лучше погубить десять невинных, чем упустить одного виновного. А главное, – важна эта атмосфера ужаса, грозящая ответственность за самое отдаленное касательство. Это и есть террор… Бесследное исчезновение в подвалах, без эффектных публичных казней и торжественных последних слов. Не бояться этого всего способны только идейные, непреклонные люди, а таких среди наших врагов очень мало. Без массы же они бессильны. А обывательская масса при таких условиях не посмеет даже шевельнуться, будет бояться навлечь на себя даже неосновательное подозрение.
Со смутным ужасом Катя глядела в поблескивавшие в полумраке очки над нависшим лбом. А собеседнику ее она, видимо, нравилась, – нравились ее жадные к правде глаза, безоглядная страстность искания в голосе. Он говорил – хорошим, серьезным тоном старшего товарища:
– В тех невиданно трудных условиях, в которых революция борется за свое существование, это единственный путь. Путь страшный, работа тяжелая. Нужен совсем особый склад характера: чтоб спокойно, без надсада, идти через все, не сойти с ума, – и чтоб не опьяняться кровью, властью, бесконтрольностью. И обычно, к сожалению, так большинство и кончает: либо сходят с ума, либо рано-поздно сами попадают под расстрел.
Катя тряхнула головою, чтобы сбросить наваливавшуюся тяжесть.
– Ах, нет!.. Господи! Вот я чего не понимаю. Я слышу по голосу, я вижу, – вы идейный, убежденный человек. И вот – вы, Надежда Александровна, Седой… Вы все так легко об этом говорите, потому что для вас это теория; делается это где-то там, вне поля вашей деятельности. Ну, скажите, – ну, если бы вам, самому вам, пришлось бы… Как ваша фамилия?
– Воронько.
Катя отшатнулась.
– Во… Воронько?!
– Да.
Как ребенок, Катя в ужаснувшемся изумлении раскрыла рот и неподвижно глядела на Воронько.
Он улыбнулся про себя.
– Вы думали, – у меня не только руки, но даже губы в крови?
Катя молча продолжала смотреть. Обычное лицо русского интеллигента вдруг стало таинственно-страшным, единственным в своей небывалости. Она растерянно сказала:
– Я ничего не понимаю…
Подошел Корсаков и заговорил с Воронько.
Шумно ужинали, смеялись. Пили пиво и коньяк. Воронько молчаливо сидел, – прямой, с серьезными, глядящими в себя глазами, с нависшим на очки крутым лбом. Такая обычная, седенькая, слегка растрепанная бородка… Сколько сотен, может быть, тысяч жизней на его совести! А все так просто, по-товарищески, разговаривают с ним, и он смотрит так спокойно… Катя искала в этих глазах за очками скрытой, сладострастной жестокости, – не было. Не было и «великой тайной грусти».
Дома Катя ушла одна в сад. Верхушки кипарисов и пирамидальных акаций острыми языками черного пламени тянулись к ярким звездам, дрожавшим мелкою дрожью.
Это спокойствие и бессмущаемость перед тем, что он делает… И ведь, может быть, у него где-то в России есть дети, он их ласкает. Что это? Что это? Как ни старалась, она не могла соединить своего впечатления от него с тем, что о нем знала. И теперь она готова была считать вероятным, что про него с обычным своим умилением рассказывала Надежда Александровна, – что он живет бедняком и аскетом, обедает вместе с солдатами своей чеки, личной жизни совсем не знает. Перед революцией он пять лет провел в каторжной тюрьме.
Но как, – как может быть он таким? Катя быстро ходила по дорожкам сада, сжав ладонями щеки и глядя вверх, на дрожавшие меж черных ветвей огромные звезды.
И вдруг Кате пришла мысль: мораль, всякая мораль, в самых глубоких ее устоях, – не есть ли она нечто временное, служебное, – совсем то же, что, например, гипотеза в науке? Перестала служить для жизни, как ее кто понимает, – и вон ее! Вон все, что раньше казалось незыблемым, без чего человек не был человеком?
В сущности, и до сих пор, – разве это всегда не было так? Вот, совсем недавно. Заманить тысячи людей в засаду и, не сморгнув, перебить их из дальнобойных орудий. Двинуть на окопы неожиданные, неведомые врагу танки и, как косилкою, начисто выкосить людскую ниву пулеметами. Возмущаться ядовитыми газами, а потом сказать: «Вы так, – ну, и мы так!» И возвращаться в орденах, слышать восторженные приветственные клики, видеть свои портреты в газетах, считать себя героем, исключительно хорошим человеком. Держать на коленях сына, смотреть в его восторженные глаза и рассказывать о своих злодействах. К этому привыкли, так делают все. И человеку поэтому не стыдно. Только поэтому?
Утром, лежа в постели, Катя сказала Вере:
– Папу освободят, я теперь убеждена. Я сегодня пойду к Вороньке.
Вера, с неподвижным лицом, повела головою и глухо ответила:
– Он не освободит.
– Освободит, увидишь. Страшно иметь дело с Искандерами, с Белянкиными. А Воронько поймет, что папа за человек. С ним можно говорить человеческим языком.
Пошла. Трудно было добиться свидания. Воронько никаких посетителей лично не принимал. Но Катя сумела проникнуть к нему.
Воронько внимательно выслушал.
– Нет. Он закоренелый контрреволюционер, освободить нельзя. Мы имеем сведения от местных рабочих, что он при белых энергично агитировал против советской власти.
Катя изумилась.
– От местных рабочих? Каких рабочих?
И вдруг вспомнила: наверно, Тимофей Глухарь, который чинил у них крышу.
– Впрочем, если ваш батюшка согласится дать подписку, что не будет агитировать против смертной казни и советской власти, и если за него поручатся в этом отношении ваша сестра и товарищ Седой, – я его освобожу.
И в спокойных, невраждебных глазах его за золотыми очками Катя увидела, что решений своих этот человек не меняет. Она сказала упавшим голосом:
– Он такой подписки не даст.
– Я знаю. Я ему уж предлагал.
– Товарищ Воронько! – Голос Кати зазвенел. – Вы отлично понимаете, что папа не контрреволюционер, а самый настоящий революционер, что он восстает не против революции, а только против ваших методов.
– Важны не его взгляды на революцию, а его действия.
– Господи! Что ж вы с ним сделаете?
Воронько глядел так же серьезно и бесстрастно, только чаще, чем нужно, совал в рот мундштук трубки и сжатыми губами пропускал дым сквозь закопченные усы.
– Если тут все будет благополучно, и сообщение наладится, отправим в Москву… Вот, товарищ Сартанова, все, что могу вам сказать.
И он указал на плакат:
Не задерживайте лишними разговорами.
Кончив свое дело, уходите.
Катя открыла было рот, – сжала зубы, пошла к двери. Нечаянно наткнулась плечом на косяк. Вышла.
По коридору навстречу вели под конвоем арестованного. Катя рассеянно взглянула, прошла мимо. И вдруг остановилась. До сознания дошло отпечатавшееся в глазах горбоносое лицо с большим, извивающимся ртом, с выкатившимися белками глаз, в которых был животный ужас… Зайдберг! Начальник Жилотдела, который тогда Катю отправил в подвал. Она глядела вслед. Его ввели в кабинет Вороньки.
Давно-давно уже не было спокойного сна и светлых снов. Тяжелые кошмары приходили по ночам и давили Кате грудь, и душной подушкой наваливались на лицо.
Матрос с тесаком бросался на толстого буржуя без лица и, присев на корточки, тукал его по голове, и он рассыпался лучинками. Надежда Александровна, сияя лучеметными прожекторами глаз, быстро и однообразно твердила: «Расстрелять! Расстрелять!» Лежал, раскинув руки, задушенный генерал, и это был вовсе не генерал, а мама, со спокойным, странным без очков лицом. И молодая женщина с накрашенными губами тянула в нос: «Мой муж пропал без вести, – уж два месяца от него нет писем».
Катя очнулась и быстро села на постели. Сердце стучало тяжелыми, медленными толчками. За незавешенными окнами чуть брезжил туманный рассвет.
Глухо, таинственно и грустно в монастыре на горе ударил колокол. Еще удар и еще, – мерно один за другим. Сосредоточенно гудя, звуки медленно плыли сквозь серую муть. И были в них что-то важное, организующее. И умершее. И чувствовалось, – ничего уж они теперь не могут организовать. И серый, мутный хаос вокруг, и нет оформливающей силы.
Вера во сне стонала, потом вдруг заплакала протяжно, всхлипывающе. Вздрогнула и замолчала, и закутала одеялом голову. Должно быть, проснулась от собственного плача.
Катя тихонько позвала:
– Вера!
Не откликнулась. И грустно, уединенно звучал в тумане далекий колокол.
Надежда Александровна встретила Катю словами:
– Ну, Екатерина Ивановна, радуйтесь! Вы оказались правы. В Жилотделе раскрылись злоупотребления чудовищные, взятки брали все, кому не лень. Сегодня утром, по приказу Вороньки, расстреляли весь Жилотдел в полном составе. Ордера аннулированы, назначена общая их проверка.
Катя натопорщилась, как еж.
– Чего ж мне радоваться? Когда власть бесконтрольна, когда некому жаловаться, и никто не знает своих прав, – всякие другие будут такими же.
Звонок. Быстрыми шагами вошел в столовую человек в защитной куртке. Не здороваясь, хлопнул ладонью по скатерти, оглядел стол.
– Самовар? Хорошо. Сыр? Масло? Больше ничего не надо. Коньяк есть?
Надежда Александровна засмеялась.
– Кажется, есть. Посмотрю в буфете.
– Великолепно. На стол! Лорд-мэр дома?
– У себя в кабинете.
– Очень хорошо. Четверть часа разговору. Потом сюда к вам. Через полчаса в уезд… Тук-тук!
Он исчез в дверях кабинета. Надежда Александровна, смеясь, переглядывалась с Верой.
– Так всегда. Как вихрь. Три дня назад приехал из Симферополя, – и все в Продотделе закрутилось и закипело. Вот увидишь, неделя всего пройдет, – и вагоны хлеба вырастут, как из земли.
Катя спросила:
– Кто это?
– Губпродком, комиссар продовольствия. Колесников. Удивительный человек. Вот энергия! Всегда на ходу. Когда спит, – никто не знает. Весь живет в деле. Понимаете, как будто все время пьян своим делом.
Вера сдержанно заметила:
– Да, энергичный. Я с ним зимой работала в Тамбовской губернии. Только не нравится он мне. Жестокий невероятно. Мужиков десятками расстреливал. И так равнодушно, деловито, – как будто баранов.
Надежда Александровна выставляла из буфета коньяк, холодное мясо, винегрет.
– А зато его уезд по количеству представленного хлеба оказался первым в России.
– Да… А все-таки… И себе самому ни в чем не отказывает. И коньяк у него всегда, и всего вдоволь. Совестно было приходить к нему. И потом: через каждые полгода новая жена.
– Конечно, это всё… Но я не знаю. Сколько гляжу, – все больше убеждаюсь, что общественная нравственность и нравственность личная очень редко совпадают. По-видимому, это – две совершенно различные области. И как бы он мог так работать, если бы ел хлеб с соломой? А потом, – если нужно, то он может и целыми днями ничего не есть, спать под кустом на дожде.
Вошли Колесников и Корсаков, продолжая разговаривать. Колесников быстро сел, взял бутылку с коньяком, посмотрел на этикетку.
– Мартель, три звездочки. Очень хорошо.
Налил большую рюмку, выпил и жадно стал есть. И еще выпил. Корсаков пить отказался. Из желтой склянки он зачерпнул ложечку белых крупинок и проглотил.
– Что это?
– Глицерофосфат.
– Чтоб умным быть?
– Да.
– Помогает. В прошлом году сахару не было, я с глицерофосфатом чай пил. Так все на улицах пугались, – до того было умное лицо!
Надежда Александровна сияющими глазами смотрела и смеялась, радуясь на него. В раскрытых окнах было черно, и поблескивали молнии.
– Поскорее прекратил. А то еще за интеллигента российского примут.
Катя встрепенулась.
– А что же бы тут было плохого, если бы приняли за интеллигента?
Колесников стал ругать интеллигенцию. Катя сцепилась с ним. Как можно так относиться к интеллигенции! Ее обратили в каких-то париев, она погибает от голода и холода, – погибает вся умственная сила страны. Недавно профессор Дмитревский получил из Петербурга письмо. Знаменитый историк, академик Зябрев, чтоб не умереть с голоду, продал всю свою библиотеку за два пуда муки. Воротился домой, увидел пустые библиотечные полки – и повесился тут же в кабинете… И моральный уровень нашей революции так низок, так мало в ней благородства именно потому, что она оттолкнула от себя интеллигенцию.
Надежда Александровна скучливо поморщилась.
– Господи! Эти интеллигентские разговоры без конца!
Колесников смеющимися глазами с любопытством оглядел Катю: как, мол, сюда такая залетела? Он налил еще рюмку, выпил.
– Ну, барышня, давайте языками потреплем. Для дивертисменту. Что за моральный уровень такой у интеллигенции вашей? Прогнившая труха, а не уровень. Старые заслюнявленные словца. В помойку выкинуть эти окурки. Чистота души. На кой она кому нужна? Любовь к страждущим братьям… Чепуха! Долг народу… Ч-чепуха! Сочувствие народное, «глас народный». Наплевать!









