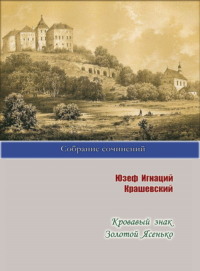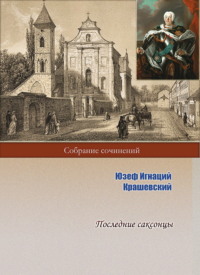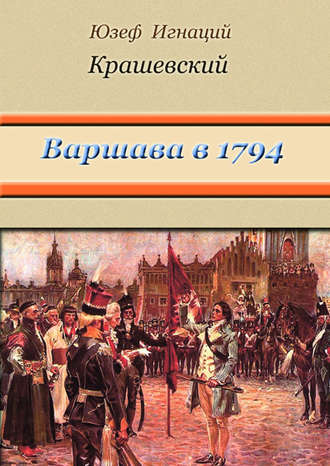
Полная версия
Варшава в 1794 году (сборник)
Я не мог притворяться, говорил о делах, спокойный взгляд Юты, словно старшей сестры, покоящийся на мне… отбирал моё самообладание. Когда пришлось уходить, Ваверская специально снова провела меня через мастерскую и челядь даже до порога, повторяя громко:
– Очень просим бывать у нас чаще, хотя бы каждый день, очень просим, доставишь нам, пан, великое удовольствие. Юта давно хотела брать лекции живописи… а то того старого Фолина не допроситься.
С этого я узнал, что могу играть роль учителя живописи.
Испуганный, уставший, недовольный собой я вышел на рынок, только тут вздохнул. Я шёл медленно к замку, задумчивый, разглядываясь, когда за собой услышал энергичную походку и увидел уже идущую Юту… Это было новое для меня зрелище – встретить её на улице… я отошёл в сторону и скрылся под воротами, чтобы лучше её разглядеть.
Покрытая чёрным платком, так, что лица её почти не было видно, шла, а скорее, бежала уверенным и смелым шагом, с фигурой, так искусно и поразительно красивой, что её можно было принять за какую-то переодетую пани. Она меня даже не заметила и миновала, задумчивая, шла, занятая своим посольством. Я не спеша пошёл за ней, преследуя её глазами. Это дивно мешалось у меня в голове. Издалека я мог заметить, что несколько раз она останавливалась, проходя и обмениваясь несколькими словами со встречными мещанами… исчезла потом за замком…
Я вернулся домой. Тут я застал тревогу и безмерную радость – знали уже о битве под Рацлавицами и победе, которая в первые минуты, естественно, ещё большие приобрела размеры. Камергер сказал, что в замке и у Игельстрёма царила непередаваемая паника…
Проклинали якобинцев!
Горожане на ухо рассказывали друг другу, что несколько тысяч москалей полегло на поле битвы, что войска их были разбиты, пушки забраны и в первый раз героически выступили крестьяне с косами, способствуя победе…
В военных и шляхетских кругах радовались победе, это правда, но когда речь была о холопах и косах, молчали. Призвание крестьян к оружию было такой чрезвычайной вещью, что в эти минуты, действительно, повеяло якобинством и наполнило страхом. Шляхта с тем вовсе не таилась, что победные косы и для неё были страшны.
Зачем отрывать людей от поля и почвы, разве это их вещь – биться за родину, а для чего же мы?
Акт восстания и ссылки в нём на народ, читаемые в замке, вызывали, естественно, упрёки в якобинстве.
Вскоре потом показались плакаты неустанной Рады, обвинения в предательстве и установление суда над бунтовщиками, но те тут же сдались. Рассказывали об Игельстрёме, что подступить к нему было невозможно, впадал в ярость при виде контуша, угрожал, ругался, оскорблял сенаторов… клял и прозывал всех предателями… На улице мало кто смел показываться, а перед жилищем посла избегали проезжать… В городе царила ужасная тишина и пустыня… Люди проскальзывали стороной, стараясь пройти незамеченными и неузнанными… Московские солдаты, в результате ли приказов, или дерзости нападали на самых спокойных прохожих, гауптвахты были полны заключённых.
* * *Разумеется, что в таком состоянии вещей наиболее деятельные люди скрывались как можно усердней, не желая обращать на себя внимание. Я, чаще всего одетый по-граждански, и панна Юта, на которую никто не обращал внимания, носили приказы, приносили новости. Всё городское оживление сосредоточилось при Килинском, который на глаз занимался своим ремеслом; по нему нельзя было узнать, что в его руках находилась судьба столицы, а отчасти и страны. Всегда в хорошем и фамильярном настроении, отважный, хладнокровный, не давал догадаться по внешности, каким был деятельным. В таком великом городе, где русские долгим пребыванием понаделали тысячи знакомств и связей, приготовить люд, челядь – часть народа менее всего привыкла к таинственности и молчанию – так, чтобы раньше времени не выдать себя – было настоящим чудом. Глядя, как это в тишине готовилось, я не мог выйти из изумления и восхищения простым человеком, вовсе нехитрым, который это так умел вести.
Приближалась Великая неделя… чувствовалось кипение приглушённых чувств во всём народе… бегали вести о резне, о вооружении, о нападении русских на костёлы. Всё это раздражило народ, но что кипело в нём, не показалось снаружи. Игельстрём мог думать, что угрозой и тревогой вынудит Варшаву к сдаче. Не жалели также того ужаса и приманки. В замке царил страх – но не так боялись там революции, потому что от неё российские солдаты охраняли, как гнева императрицы, который заранее сжигал Игельстрёма.
Король напрасно представлял ему, что за безумную часть народа не годилось карать всех – давал понять, что в виновность всех не верит. С каждым днём было хуже, воздуха для дыхания, казалось, не хватает… возле казарм казачество, вокруг пушки, шпионы, бродяги, преследование для уничтожения. Майор Зайдлиц и капитан Мыцельский не потеряли, однако же, духа. Поскольку имели на них глаз, посылали меня или Ягодзинского, а, так как я ни к Килинскому на Дунай попасть не мог, ни к мяснику Моравскому, который ему помогал, посылали мы Юту, по целым часто дням, почти без отдыха, без еды бегающую то на Прагу, то за разными закусками города. Что должна была вытерпеть от этого бедная девушка, знала только она. Никогда, однако, не жаловалась и часто, когда, едва присев и не имея времени отдохнуть, должна была бежать снова, бледная и уставшая, даже слово не говоря. Мать с состраданием смотрела ей в глаза, вытирала слёзы и также молчала.
Мы имели уже сношения и с Костюшкой, и с Краковом и с Литвой, где готовился Ясинский, и с войском, стоящим на Украине, и Волыни, а в Варшаве мы все друг с другом были в договорённости, а москали или не догадывались ни о чём, или очень мало. Делалось это всё на их глазах, которые Господь Бог ослепил. Не понимали нас, не могли ничего открыть, а, счастьем, не было тогда между нами предателей.
Духовенство в монастырях также было весьма патриотичное и полезное; у них был самый надёжный склад оружия, сокрытие людей, а когда посланцев не оказывалось, можно было смело шепнуть брату, чтобы шёл туда-то и туда-то, он справлялся всегда лучше всех.
В замке вовсе не было по-прежнему… Поглядев даже на улицы, мы легко могли узнать, как там королю было тесно. Этих толп придворных, как раньше, этой толчеи, карет, этого наплыва иностранцев вовсе издавна не было видно.
Уменьшенная служба, более скромная репрезентация, малая горсть крутилась ещё около Понятовского, который потерял всякое значение. Москали отдавали ему честь как коронованной голове, но Игельстрём обходился с ним как с невольником. Ни балов, ни ассамблей… ни многочисленных обедов в замке… Окружала короля семья, примас, который снова был тут оракулом, пани Краковская, воеводина люблинская, Мнишки, пани Грабовская, экс-подкоморий, Тышкевичи… Примас, пани Краковская и Грабовская, как всегда, так теперь ещё больше придерживались России и посла. Охраняли короля, пугая его якобинцами, лишь бы из этого круга не вышел, дни и ночи упрекали Потоцких, Четырёхлетний сейм и всё зло приписывали ему.
Больше снисхождения было к Тарговицкой конфедерации; о той только потихоньку, в маленьком кружке рассказывали, как она развлекалась на протяжении короткого времени своей жизни. Глаза и сердца отсюда были направлены на Петербург. Надеялись смирением и униженностью умилостивить царицу – когда вспыхнуло краковское восстание. Для короля и фамилии был это новый удар – оказались между молотом и наковальней. Наибольшее отвращение имели к революции, а с другой стороны москаль становился самым несносным, требующим, деспотичным – король не хотел подставлять себя ни одной, ни другой стороне и жестоко мучился. Ожаровский и Забелло приходили к нему уже с приказами от Игельстрёма, но только с ведомостью, что было приказано… Король согласился на всё.
Победа под Рацлавицами, однако же, натолкнула его на мысли: «А что если революция победит? Революция, якобинцы, террористы, демагоги».
Однако же в замке не допускали, чтобы мощь России могла быть сломлена, а в резерве были также пруссаки. Это успокаивало.
Когда так с одной стороны правящий мир заблуждался, не чувствуя, что имел под стопами, в городе хорошо организовывалось восстание.
Через Тиховского мы знали наверное, что во время великопятничного богослужения собирались занять арсенал, а для отвлечения людей умышленно сделать пожары. Свыше восьми тысяч войска и хороших генералов имеющий Игельстрём не сомневался, что хотя бы дошло до столкновения, победит и будет терроризировать Варшаву.
Нам, поэтому, нужно было спешить, дабы его опередить. Шпионов было полно, но те смотрели и не видели ничего или не предавали реального значения; наши сходились в арсенале, в ратуше, в гостиницах, в комнатах казарм, совещались, рассылали приказы, послы летали, Господь Бог им глаза позакрывал.
Действительно, когда припомню эту минуту, предшествующую восстанию, не могу понять, как могло статься, что нас заранее не забрали, что до последнего часа Игельстрём не знал ничего. Несмотря на осторожность, люди почти явно договаривались, что должны были делать; носили в фартуках кремень и патроны, в мастерских не было работы, на каждый отголосок колокола люди срывались, на лицах рисовалось беспокойство.
Московские солдаты во многих домах стояли квартирами, почти тёрлись о заговорщиков… ни о чём не догадывались.
Очень может быть, что Великая неделя, богослужение, приготовление к празднику, обычно делающее суматоху в повседневной жизни, способствовали этому.
В Великий вторник ни Килинский, ни Моравский не показывались на улицах… в наших казармах всё приготавливалось. Наиболее деятельным был капитан Мыцельский, потому что и сам собой, и деньгами делал, что мог. Полковнику Хауману, который заменял вывезенного шефа Дзялынского, не подобало мешать даже до последней минуты, ибо он был слишком на виду.
Когда я в это день пришёл домой, чтобы попрощаться с дедушкой Манькевичем, потому что хотел ему объявить, что должен переехать в казармы, застал обоих старичков очень удручёнными, камергер удерживал им поле.
По лицам обоих было видно, что Манькевичи либо о чём-то догадывались, либо знали что-то, о чём я говорить им не мог. Когда я вошёл, старик меня кисло приветствовал.
– Что-то вашей милости уже не видать! – воскликнул он. – Что же с вами делается?
– Служба, – сказал я, – служба…
– Где? Что? Служба! Рассказывай тому, кто ничего не понимает… на Великой неделе! Какая служба!
Они посмотрели на меня, я смешался.
– Но даю слово, дедушка, что служба, – отвечал я, – уж по доброй воле я не летал бы…
Камергер внимательно на меня посмотрел, я воспользовался этим разговором, чтобы при той ловкости объявить, что должен буду оставить дом.
– Такая неотложная у нас теперь служба и муштра, – сказал я, – что я даже пришёл объявить, что на несколько дней должен переехать в казармы. Я имею приказ от капитана Мыцельского…
Все значительно посмотрели друг на друга и умолкли. Камергер закашлял. Манькевич, хотя я ожидал сопротивления с его стороны, не сказал ничего…
Замолчал и я… Не смели меня, видно, спрашивать и ответить бы я также не мог. Через мгновение Манькевич, отправив слугу в город и оглядев дверь, вернулся.
– Ну, говори, что намечается? В городе кипит? Вы что-то готовите? Тут незачем лгать… я старый и калека, дьявол меня ещё надоумил стать так недалеко от квартиры посла… может быть несчастье при какой неразберихи! Что делать? В действительности ли обезумили и что-то намереваетесь делать?
– Я ни о чём не знаю, – сказал я, – я молод, исполняю приказы, а остальное меня не касается.
– Но глаза имеешь! Что там готовиться? – воскликнул старик. – Москали с какими-то десятью тысячами в городе, наших нет и двух, а та половина на Праге, артиллерии нет… порядка, небось, тоже… с чем же тут выступать? С мотыгой на солнце?
Я знал Манькевича, что был он самым ревностным патриотом, но также известным трусом… я пожал плечами и не отвечал ничего.
– Говори же: черно или бело? – воскликнул старик. – Что боишься? Меня или что?
– Я надеюсь, что и меня пан Сируц также не боится? – усмехаясь, сказал камергер.
– Я должен бы повторить то, что говорил, – отвечал я медленно, – ничего не знаю. По городу, однако, все говорят и это не есть никаким секретом, что москали в Великую пятницу собираются броситься на дома, поджечь город, захватить арсенал и устроить резню!
– Но где же! – огрызнулся дед.
– Так говорят, – повторил я, – я не очень в это верю… Говорят, что на домах мелом понаделанные знаки нашли… Если бы в этом была правда, должны ли мы дать как бараны в пень себя вырезать, даже не защищаясь?..
– Это бред, – прервал Манькевич.
Замолчали.
– Я попал в петлю, – прибавил он, подумав, – из Варшавы выезжать слишком поздно… будет резня, тогда получу по горлу и упаси Боже от авантюры… также не лучший конец.
– Друг мой, – спокойней отозвалась пани Манькевичева, – хоть это бабское мнение, вы можете его послушать. Если можно спастись, нужно хорошо поработать, а если нет спасения, что лучше? Сдать себя на Божью волю и сидеть. Я уже исповедалась, муж тоже, совести у нас чисты… пусть делается, что даст Провидение.
– Но несомненно, – подтвердил, склоняя голову, Манькевич, – но несомненно… однако же… я попал в петлю. Глаза мне Беклер не вылечил, а голову ради них придётся отдать.
– Уж нас в пень всех не вырубят, – добавил камергер. – Есть крыши и подвалы… есть тайники… если уж великая беда будет… тогда в норы…
Я встал, дабы попрощаться со стариками, искренне мне было их жаль, Манькевич поднялся, обнял меня за шею и, благословляя, потихоньку расплакался.
– Ты тоже, бедняга, – шепнул он, – наверное, в углу сидеть не будешь… пусть же Господь Бог стережёт тебя от несчастья… in nomine Patris et Fili. Воздерживать тебя от оплаты святого долга родине – не буду… но уважай себя.
Всё это он потихоньку клал мне в уши, приблизилась старушка, также со слезам в глазах, но более мужественная.
– Не плачьте, – сказала она, – что Бог даст – то даст. Поляку идти в огонь – это обычная вещь. Ваши деды и прадеды не иначе погибли. Я насчитала бы несколько моих поколений из ряда, из которых ни один на ложе не умер, все на поле. И это более прекрасная смерть, чем другая. Что Бог даст – то даст.
Камергер встал и также приблизился ко мне.
– Дорогой кавалер, – сказал он, – я так, на всякий случай для информации скажу тебе, не то, что я хотел бы тебе мешать… но… верь мне так… как вывод только… скажу тебе… что… (тут он потянулся к моему уху) в каменице посла тыльный выход должен быть… на глаз… гм!
Сказав это, он отскочил, приблизился ко мне снова и так же мне шепнул:
– Уважаю костёл, но с капуцинами договорись, гм! потому что это напротив Игельстрёма… пункт великой важности. Так, на всякий случай.
Препровождённый аж до двери, я вышел. Едва я добежал до казарм, позвали меня к капитану Мыцельскому. Вместе с другими я был назначен для занятия позиции как раз около Капуцинов, напротив дворца, в котором стоял Игельстрём, недалеко от жилища деда, имея поручение следить, кто будет входить и выходить и куда отправят посланцев. Было нас так расставленных по кругу несколько сотен, но одетых по-граждански, без мундиров.
Камергер отлично угадал, потому что уже тогда я узнал, что на следующее утро должно было состояться нападение на эту главную квартиру.
Ещё в начале, прежде чем я занял мой пост в комнатке у сапожника, из окна которой я отлично мог видеть ворота и калитку, должен был бежать с письмом к Юте.
Было только около полудня, когда я к не постучал. Она сама мне отворила. Мастерская пустовала, челяди не было никого, в третьей комнате Ваверская как раз поставила обед, когда я появился.
Юта была бледная… её глаза только горели, а были у неё глаза дивные, потому что в них менялся цвет. Бывали они серые, голубые, а иногда и тёмно-сапфировые, бледные и потемневшие, когда успокаивалась или горячилась и как её лицо представлялось бледным или кармазиновым от наплывающего румянца, так эти большие, чистые глаза менялись чудесным образом. Я посмотрел на неё, она явно была утомлена – неспокойная, руки её дрожали, а взгляд горел. Я запер дверь, прошёл с ней к матери. Старуха молча ела бульон, а для дочки даже тарелки не было.
– А ты не ешь? – спросил я.
Она была уже более смелая со мной.
– Не могу, я жестоко измучена, ноги под собой едва чувствую, я голодна, а в рот ничего взять не могу. Чем ближе этот великий, решительный час, тем я более неспокойна. Мой Боже великий, – прибавила она, ломая руки, – неужели нам удастся, бедным – неужели удастся! Русские готовы, верьте мне, может, даже что-нибудь знают. Столько ходя, я внимательно наблюдала, великая бдительность у них. А! Боже, удастся ли нам!
И она упала на стул, закрывая глаза.
– Всё в Божьей власти, – шепнул я, чувствуя себя взволнованным, как она, – в таких делах нет, видимо, человека, который бы сумел рассчитать, как пойдёт. Самая маленькая вещь может помочь, наименее значащая – явно навредить… я надеюсь на хорошее.
У Юты были полные слёз глаза… мать, посмотрев на неё, сказала:
– Но съешь же чего-нибудь тёплого… это словно созданная эпидемия, что лихорадку даёт… хоть ложку…
Она уже набросила платок, желая идти.
– А пан? – отозвалась она. – Вы, наверно, голодны и больше меня нуждаетесь в питании и силе.
– Я ел, – ответствовал я, благодаря и качая головой.
Мать подставила дочери тарелку, она взяла из послушания ложку, поднесла её к устам и положила.
– Не могу, – шепнула она, – не могу, скорей, кусочек сухого хлеба… Я должна идти на Дунай… когда вернусь, матушка, сделай мне кофе… потому что он сон отталкивает, а я не хочу и не могу спать… В эти минуты заснуть… этого бы себе не простила…
Признаюсь без стыда, что в безумную девушку я уже тогда влюбился и уверен, что каждый молодой человек, который был бы на моём месте, так же потерял бы голову. Но, чем сильнее она сводила меня с ума, тем больше я старался скрыть то, что со мной происходило. Ни за что на свете я этого не выдал бы, прикидывался самым равнодушным.
Она собиралась уже выходить, а я, прощаясь с матерью, также пошёл к порогу, когда она обернулась ко мне с доверчивостью невинной сестры.
– Где вы будете пребывать? – спросила она.
– Мне приказано быть при Медовой на часах аж до минуты…
– На улице?
– Нет, – сказал я, – у меня там есть на день свой угол у сапожника и окно… подле Капуцинов…
– Ну, – отозвалась она, стоя на пороге и подавая мне руку. Бог знает, встретимся ли мы и увидимся на этом свете, Бог знает, что меня и вас ждёт… мы работали вместе ради одного дела… будь здоров, добрый товарищ…
Она грустно улыбнулась. В душевном порыве я схватил её руку и с избыточной, может, горячностью начал её целовать, пока она не вырвала её у меня и не покраснела. Мы не сказали уже ни слова, потому что она молнией побежала по лестнице, а я тащился как парализованный. На душе у меня был дивно, грустно, страшно…
За несколько дней я привязался к ней, правда, по-братски, но так, что мне казалось, что никогда уже чужими друг другу стать не можем. Одно чувство связывало нас, сближало… сблизило так быстро, так сильно, что теперь думая, что, может, никогда её не увижу, камень имел на сердце. Пошёл на позицию.
Комнатка была грязная, пропитанная неприятным запахом кожи и смолы, тесная, окно испачканное, словом, позиция вовсе не милая. В первой комнате – мастерова Томилова с тремя маленькими детьми, одним у груди, вторым – в колыбели, третьим – ползающий по полу. Ежели один ребёнок случайно засыпал, второй начинал кричать, ежели двоих успокаивала, плакал третий. Бедная женщина со своим люли, люли и вздохами к Богу о помощи и фуканием, и ласками производила на меня впечатление мученицы. Я имел уже охоту самого старшего потомка Томилов взять на колени и спеть ему: “Едет пан на конике…», но от окна им не вольно было отступить.
Перед ним ворота дома Игельстрёма были как на ладони.
Сколько бы раз они не отворились во двор, я мог заметить вооружённый батальон пехоты. Оживление было огромное… конные казаки каждую минуту прибегали и отъезжали. Несколько генералов прибыло на совет.
В окнах второго этажа перемещались мундиры и густо сновали самые разнообразные фигуры.
Карета гетмана Ожеровского прибыла также и остановилась… за ней приехал Забелло, потом Анквич… потом генерал-адъютант от короля…
Совещания продолжались долго… выслали в город пароли… Снова казак поскакал на Медовую улицу к Стожерской…
Начинало смеркаться, когда двери первой комнаты отворились, кто-то вошёл…
Тихо пошептались… Смотрю, на пороге стоит Килинский.
Хоть вовсе не было жарко, он вытирал с лица пот, подал мне руку.
– Что же они… пронюхали! – шепнул он. – Правда, как в улье пчёлы жужжат. Ты не видел, кто-нибудь из наших панов был? – спросил он.
Я назвал ему имена тех, которых знал, он покачал головой.
– Э! Было их там, наверно, больше… а хорошо бы переписать, чтобы панов к расплате потянуть… гм!!
Он тогда сам заглянул в оконное стекло, смотрел долго…
– Мой поручик, – сказал он, – мне кажется, что вы были бы где-нибудь в другом месте более подходящим, чем тут. Наступает вечер… здесь нечего уже делать.
– Но приказано, – произнёс я.
– Освободят вас, наверное…
Мастер угадал, потому что, действительно, прислали мне вечером приказ явиться в казармы.
Получив его, я задышал свободней, так как мне, бездеятельному, тут было скучно и стыдно сидеть со сложенными руками. По улицам летали казацкие патрули, так что с великим трудом пришлось мне пробираться, незацепленному, через них, потому что по дороге задерживали и допрашивали почти каждого.
Уже у казарм я нашёл русских солдат, как бы специально рассеянных, чтобы доступ к ним защищали. Наши офицеры тоже расставили стражу, чтобы не дать никому приближаться к казармам и шпионить. Когда я, наконец, сюда вбежал, обрадованный и счастливый, я нашёл всё в движении и спешном приготовлении. Но мы должны были делать это тихо, дабы не поднять преждевременно тревогу.
Было нас всех вместе не больше четырёхсот двадцати человек; мы имели четыре трёхфунтовые пушки, но без лошадей…
В залах, где были солдаты, все собрались около офицеров. Запал был огромный, простые люди громко клялись, что падут скорее трупом, нежели у себя оружие дадут вырвать, ибо им обещали, что москали должны были разоружать… В городе ещё было тихонько… У нас с полуночи также немного успокоилось, потому что решающий час назначен не был и могло ещё что-то помешать; мы должны были ждать сигнала, когда ударят в колокола.
Часы тащились медленно… было четыре утра, когда мы сначала услышали со стороны Саксонского сада и Железных ворот выстрел из пушки. Тогда мы все одновременно вскочили, поняв, что уже начинается… Кони под пушки, амуницию, деньги у нас действительно были найдены и готовы, но нужно их было только собрать. Полковник Хауманн, капитан Мыцельский, майор Зайдлиц стояли уже в готовности… солдат рвался…
– К оружию! – разлеталось по казармам.
Была короткая минута замешательства, но она не продолжалась, солдаты бежали и вставали охотно в ряды.
Отправили отряд, чтобы как можно быстрее снял московскую охрану. А тут же… никогда в жизни не испытал я большего впечатления, все колокола в городе ударили в набат. У доминиканцев, паулинов, бернардинцев, у Св. Креста начали бить… сперва в самые большие, потом во все.
Едва начинался день… вокруг было темно. После первого выстрела тишина, потом далёкий, глухой топот и заглушённые крики и над всем голоса колоколов.
Почти можно было отличить, что зовут не на молитву эти колокола, что не стонут от жалости, что это ещё не триумф оглашают, но будят к обороне… Сперва медленно, несмело звучали, потом раскачались, разогнались, всё живей, горячей, словно чувствовали, что делают… казалось, кричат одним неустанным стоном: «К оружию! К оружию!»
Вдалеке просыпался весь город… а, скорей, разбуженный и ожидающий, встал в мгновение ока. В нас уже кипела кровь… Вдалеке слышались выстрелы и снова мощный голос колоколов… и крик, которого уже распознать было невозможно.
С зарёй мы выбежали из казарм в порядке. Подпоручик Сипневский, храбрый солдат, шёл в авангарде, так, что мог успеть. Нам казалось, что мы опоздали на голос тех посвящённых колоколов, что нам на стыд мировские драгуны и гвардия должны были опередить нас. Так мы дошли до Уяздовской улицы. С рассветом Сипневский сбоку в нескольких сотнях шагах заметил только московскую колонну с восемью пушками. А, так как она дала нам пройти беспрепятственно и оттого, что нам также срочно было попасть в город, мы не стали с ней связываться.
Так мы выбежали на Новый Свет… Закрытые каменицы, пустые улицы, в окнах редко где появлялась голова, наступал день… набат колоколен, а в городе мы уже слышали выстрелы и крики, и шум… Бьются.