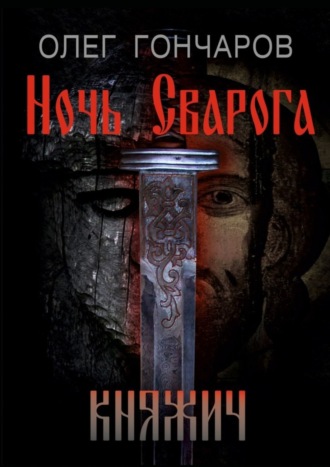
Полная версия
Ночь Сварога. Княжич
…и отхлынуло все…
А впереди княгиня Древлянская идет. Не идет даже, павой плывет. Лебедем. Бедрами покачивает. И чувствует каган, как в нем Блуд37 просыпается…
«Вот ведь, как вино ромейское в теле взыграло», – подумал Игорь.
Не знал он, что не вино, а зелье, Путятой подсыпанное, ему ум за разум заводит. А если б знал? Несдобровать тогда болярину Младшей дружины. Ох, несдобровать…
– Куда ты меня ведешь, княгиня?
– Вот. Пришли уже, – она открыла низкую дверцу. – Сюда проходи, – и вслед за каганом вышла на сторожевую башню, ласточкиным гнездом примостившуюся над крыльцом коростеньского детинца.
– Кто тут?! – голос из темного угла башни заставил вздрогнуть и ее, и Игоря.
– Это ты, Гунар?
– Да, конунг. Меня ярл в сторожу поставил. А я приснул малость. Ты не знаешь, когда он мне смену пришлет?
– Ступай вниз. Выпей, да поешь.
– Асмуд разозлится,
– Скажи, что я тебя отпустил.
– Хорошо, – и варяг скрылся за дверью.
Ночь накрыла землю Древлянскую. Ясная. Звездная.
Там, внизу, уже затихали уставшие люди. Выпито и съедено было немало. Да и зелье не пощадило никого. И варяги, и поляне, и русь валились с ног и засыпали. Они валились, как скошенное жито. Один за другим. Забыв об осторожности. О том, что они в чужой земле. О том, что совсем не желанные они в этом городе. Захватчики. Враги. Сон настигал их, брал в полон и уводил в бесконечные дали грез.
Только варяжская стража у городских ворот, отроки Малой дружины, закупы38 княжеские, несколько оставшихся в городе рядовичей39, да еще княгиня Древлянская и каган Киевский не желали поддаваться сну.
Ключник Домовит тихонько поругивался на непрошеных гостей. А заодно покрикивал на холопов40, которые принялись убирать столы со стогня, стараясь не слишком тревожить спящих.
Здесь, наверху, в дозорной башне, дышалось легко и свободно. Прохладный ветерок прогонял дремоту. И на мгновение Беляне показалось, что страх, который закрался в ее сердце, как только узнала она о полянском нашествии, отступил.
Когда-то, много лет назад, еще совсем девчонкой, приехала княжна Чешская в Коростень, чтобы выйти замуж за княжича Мала. Так решили их отцы. А с отцами не спорят…
Сколько слез было пролито по дороге к Древлянской земле. Сколько горестных дум передумано. Как не хотелось ей покидать отеческое гнездо. Свою светелку. Своих подруг…
Сразу после свадебного пира Мал не повел ее в опочивальню. Он привел ее сюда. В дозорную башню Коростеньского Детинца. И тогда тоже была ночь. И звезды так же мерцали, равнодушно взирая на землю. И была луна. Большая-большая.
Беляна стояла, подставив лицо ночному ветру…
А Мал все говорил… говорил ей о том, что нельзя без любви. О том, что должны узнать они друг друга. О том, что у него другая есть…
А потом… потом ушел в ночь. Ее одну оставил. Если бы не Домовит, она бы и дороги в спальню не нашла. А вскоре и муж вернулся. Взглянул на нее зло. Отвернулся и уснул…
Вот тогда она плакать больше не стала. Поняла, что за счастье свое еще побороться придется…
Много времени прошло прежде, чем любовь к ним пришла.
И однажды… Мал осторожно коснулся ладонью ее щеки и сказал просто:
– Если бы ты знала, как я благодарен Доле и Ладе41, что они мне дали именно тебя.
И она вдруг поняла, что тоже благодарна и Доле, и Ладе, и отцу…
И они вновь поднялись сюда. В башню дозорную Коростеньского Детинца…
Именно здесь они по-настоящему стали мужем и женой…
А потом еще часто сидели здесь по ночам. Обнявшись сидели. Дышали ветром и смотрели на звезды…
– Ты по дому скучаешь?
– Что? – не поняла княгиня.
– По дому скучаешь? – переспросил каган.
– Мой дом здесь.
– Так ты же родом из Чехии.
– Да, я родилась далеко отсюда. Только это было так давно… – он словно узнал ее мысли. – Моим домом стала Древлянская земля. Иногда даже забываю, что я не древлянка, – Беляна взглянула на кагана.
Княгине показалось, что лицо Игоря измазано кровью. Это свет от догорающих на стогне костров окрасил его алым.
– Но ты, наверное, не о Родине моей хотел поговорить? Не о прошлом?
– Нет, княгиня. Что было – видели, а что будет…
– Увидим, – сказала Беляна. – И что же будет?
– Ты умная, – то ли похвалил, то ли укорил каган. – И уже видишь, что войско мое в столице земли Древлянской. Ты нас гостями перед миром выставила. Но и сама понимаешь, что не гости мы вовсе. Словенская земля и Кривичи, Вятичи и Радимичи, Северяне и Поляне, все под мою руку встали. В Русь вошли. Настала пора и Древлянской земле Русью стать. Не хочу я силком вас к себе привязывать. Хватит огня. И крови хватит. Завтра на стогне при людях ты мне стремя поцелуешь.
– Я? – княгиня почуяла, как холодок пробежал по спине. – Не по Прави это. Не я, а князь Древлянский должен такое решать. Вместе с людьми нашими согласиться, что под твоей рукой нам покойней будет. Вот приедет Мал, ты с ним такой разговор заведешь…
– Не приедет.
Беляна почуяла, как дозорная башня под ногами качнулась. Как завертелось звездное небо над головой. Как Явь поплыла перед глазами…
Но сумела с собой совладать. Спросила спокойствие сохраняя:
– Что с Малом?
– Его у ятвигов русь моя встретила. А в спину варяжская дружина с войском полянским подперла. Не выбраться ему из того котла, – Игорь не стал скрывать улыбки. – Так что, считай, ты теперь владетельницей Древлянской стала. С тобой мне и договариваться.
Отлегло от сердца. Значит, не убийц подлых, войско каган против Мала послал. Может, жив еще муж. Может, вернется. Помоги ему Даждьбоже пресветлый.
– И помощь моя тебе не помешает. Ты чужая здесь. Пришлая. Как узнают древляне, что князь сгинул, сразу вспомнят, что ты не их рода. Прогонят. И куда ты с дочерью? К дяде в Чехию? Так он отца твоего убил. Думаешь, что тебя пожалеет? И к тому же, у него ляхи на голове плешь проели. А латины с моравами норовят землю отнять. Так что один тебе путь. В Русь…
Говорил, говорил, говорил каган Киевский, а у Беляны мысли совсем не здесь были. Мал перед глазами стоял.
Как он там? Может, ранен? Может, лежит мечами изрубленный? Может быть, волки злые его тело изломанное рвут?
Нет. Не может. Жив он. Сердце чувствует, что жив. Даждьбоже Великий, неужели ты допустишь гибель внука своего? Помоги ему из беды выбраться…
А Игорь, молчанием княгини ободренный, продолжал ее уговаривать:
– Сама посуди, Древлянская земля рядом с Полянской. От границы до Киева всего день пути. Полюдье огнищане твои будут платить не великую. А дом твой под надежной защитой будет.
– Подожди, – словно во сне сказала Беляна. – Где ж это видано, чтоб не князь, а княгиня правила? И потом, у Мала наследник есть. Добрыня.
– Так княжич вместе с отцом на ятвигов пошел. Как знать, вернется ли…
В голос завыла княгиня Древлянская. Неужто и сын рядом с отцом лег? Нет. Нет. Нет! Не может быть такого! Совсем разум от горя потеряла.
Обнял ее Игорь. К груди прижал. А сам уговаривает:
– Не рви ты себе сердце. Жива дает, Марена забирает. Так исстари повелось. Не нами этот Мир придуман, не нам его и переделывать, – и вдруг целовать ее начал в щеки от слез соленые, губами жаркими стал ее губы искать. – Ты женой моей станешь, – шепчет. – Мы еще детишек нарожаем. Дочка твоя мне как родная будет.
– Есть же у тебя жена, – попыталась Беляна вырваться.
– Ну и что? – не выпускал ее Игорь. – Кагану можно хоть одну иметь, хоть тысячу. И все законными будут.
– Н-н-нет! – все же вырвалась княгиня. – Не бывать этому! Жив муж мой! И сын жив! Отойди от меня, постылый! Не будет по-твоему! Не смешается кровь наша! Ты! Полукровка самозваный! – и на кагана кинулась.
Старалась глаза выдрать, да только по щеке ногтем полоснула…
Оттолкнул ее Игорь. Отлетела она, точно перышко. Через перила низкие перевалилась. Упала с башни, словно лебедь с крылом подраненным. О землю навзничь ударилась. «Любый мой» – прошептала. И затихла. Белым пятном на черной земле.
Взревел на башне каган Киевский. А потом вдруг сник. Сполз на пол. Уставился в одну точку и сказал тихо-тихо:
– Не виноват я… не виноват…
А напротив дозорной башни, на стене Коростеньской, болярин Путята трясущимися рукам пытался на тетиву стрелу наложить. Не получалось. Слезы глаза застили. Ругался он на себя. Зло ругался. В глупости себя винил. Проклинал тот день, когда секрет зелья узнал. Понимал, что смерть княгини Древлянской на его душу камнем тяжелым легла…
– Конунг! – донеслось от ворот. – Конунг! Гонец от Свенельда прискакал! Вырвался Мал! Завтра к полудню здесь будет.
Сколько лет Путята на душе тот камень носил? А вчера не выдержал. Хлебнул, да все и выложил. Как оно на самом деле было. Каялся. Просил, чтоб я смертью его бил. Кричал, что не может он больше такую вину в себе таить. Плакал навзрыд, как маленький. И я, помнится, тоже плакал. Хмель из себя выпускал. И горе лютое. А потом простил я его. Не воевода виноват. Доля судьбу такую матери сплела. Любит она над жизнями человечьими потешиться. Ох, любит…
Глава третья
Любава
16 июля 942 г.
В своём тяжелом забытьи я слышал невнятное, непонятное бормотание. Будто рой растревоженных пчел решил сделать улей в моей голове. Вот только у матки была человеческая голова, и она бубнила и бубнила мне что-то на ухо.
Потом мне вливали в рот горькое вонючее зелье. И от этого жар разливался по телу. Едкая вонь заполняла нос, рот, пылала огнем в груди. И чудилось, что голова от этой отравы светлеет…
Несколько раз мне казалось, что я прихожу в себя…
Расплывчатые пятна приобретают форму, но, кроме горевшего синим пламени, я ничего осознать не мог…
И опять – погружение то ли в сонное, то ли в бессознательное небытие…
И вновь глухое бормотание, пробирающее до костей…
Иногда я разбирал отдельные слова, но смысл их ускользал от меня. И я снова и снова пытался понять, – жив или уже нет…
Только голос, беспощадно однообразный, подсказывал мне, что я все еще в Яви. Но сколько я не старался, не мог понять, кто бормочет: мужчина или женщина.
Да и какая разница, кто месит тесто, чтобы испечь хлеб…
Ведь… я стал тестом… Пышным, липким, холодным и податливым… И чьи-то сильные руки мяли меня, шлепали обо что-то твердое… Растягивали и скручивали… Сжимали и взбивали… От этого мне становилось все лучше…
И гордостью я преисполнился оттого, что вскоре из меня выпекут каравай… Каравай, каравай, кого хочешь выбирай…
Выбрал.
Жарко.
Пахнет лугом. Травами медвяными и горьким чем-то. Аж дышать тяжело.
Яркий луч резанул по глазам, едва я только приподнял веки. Снова зажмурился. Во рту пересохло. Показалось, что вот-вот губы потрескаются от нестерпимой жажды, и горячая кровь брызнет ручьем. И тогда я напьюсь…
– Пить…
– Слышала, Любава? – женский голос был мне не знаком. – Пить просит. Значит, прав был знахарь. На поправку княжич пошел.
– Смотри, мама, у него веко дергается, – только девчонки, а голосок был девчачий, мне не хватало.
– Где я? – мне понадобились все силы, чтобы сказать это.
– Тише. Тише, княжич, не то снова уйдешь. Слаб ты еще больно.
– Где я? – этот вопрос не давал мне покоя.
– Мама, что он меня не слушает? – в голосе девчонки послышалась обида.
– Все они, мужики, такие. Сначала не слушают нас, а потом мучаются. Ты не смотри на него. Давай тряпицу сюда. А ты, княжич, силы береги. В бане ты. В бане.
Я осторожно открыл глаза.
Свет врывался в темноту жарко натопленной бани через маленькое оконце под потолком. И в этом ярко-желтом луче проявился худенький девчачий образ. Мне показалось, что это сама девчонка светится, разгоняя тьму.
– Ты красивая, – я не знаю, как такие слова могли сорваться с моих губ.
– Дурак, – сказал образ и показал язык.
– Да будет тебе, Любава, – сказала женщина. – Разве не видишь? Не в себе он. Небось, подумал, что ты навка какая.
Она приподняла мне голову и влила в рот что-то теплое и очень-очень вкусное.
– Ешь, ешь. Поди, изголодался. Седмицу целую одними отварами тебя отпаиваю.
Долго уговаривать меня не пришлось. Я сделал еще один большой глоток. Потом еще.
– Что? Хороша похлебочка? – девчонка подошла поближе и мягкими пальцами убрала волосы с моего вспотевшего лба.
– Угу, – промычал я и сделал еще глоток.
– Мамка старалась, крысу эту в трех водах вываривала.
Я поперхнулся. Выплюнул варево. В животе противно заурчало. И тошнота подкатила к горлу.
– Ты чего, шутоломный? – рассердилась женщина.
Вытерла с груди мой плевок и строго посмотрела на девчонку:
– Зачем ты так?
– А что тут такого? – пожала плечами Любава. – Жить захочет, и не такое проглотит, – и прочь отошла.
– И верно, княжич, – женщина повернулась ко мне и вновь поднесла к моим губам миску, – ничего зазорного в этом нет. Крыса зверь чистый. Абы чего не сожрет. А мясо у нее полезное. Силу дает. Ешь.
– Знал бы он, из чего ты отвары творила… – из дальнего угла подала голос девчонка.
– А зачем ему знать? – улыбнулась женщина. – Ему сейчас не знать, а выздоравливать нужно. Хочешь жить, княжич? Тогда ешь и не противься.
Она подсунула свою маленькую крепкую ладошку под мой затылок и ткнула миску мне в губы.
– Ешь, – твердо сказала.
Делать нечего. Пришлось разжать зубы и сделать еще глоток. А похлебка была действительно вкусной.
– Вот и славно, – сказала женщина, когда я проглотил остатки, и тряпицей утерла мне губы. – Теперь точно на поправку пойдешь.
Она встала с моей постели. Отошла. Поставила миску на небольшой стол, заваленный пучками трав и снизками кореньев. Выбрала среди этой груды один пучок. Пошептала над ним что-то и бросила траву в огонь.
Трава вспыхнула и погасла, а по бане потекло сладкое тягучее благоухание. По телу пробежала теплая волна, и я понял, что слабость и голод отступают.
– А вы чего телешом? – спросил я, когда в голове немного прояснилось.
– Так жарко же, – сказала девчонка. – А мы вокруг тебя почитай седмицу целую пляшем. Думали, что совсем в Сваргу уйдешь, да, видно, рано тебе еще. Ну, вставай. Чего разлегся-то?
– Экая ты прыткая, – женщина посмотрела на меня с сочувствием. – Ему еще дней семь нужно, чтоб совсем в себя пришел. Три дня лежнем лежать. А уж потом и ходить сможет.
Три дня. Три долгих дня меня откармливали, словно порося. Отпаивали свежей горячей свиной кровью. Меня выворачивало от нее, но я пил. Три дня меня пеленали в пропитанные отварами льняные холсты. Выпаривали, вымывали и снова выпаривали. Женщина и девчонка пестали меня, словно тряпичную куклу. И заставляли молчать, стоило мне только раскрыть рот, чтобы спросить о наболевшем.
Три долгих дня я не знал, так что же на самом деле произошло со мной. Как я оказался в доме крепкого огнищанина Микулы, жена и дочь которого выхаживали меня.
Сколько я ни приставал к Любаве и Берисаве, жене Микулы, с расспросами, они молчали, как рыбы. Дескать, мне нельзя много говорить и много думать.
Пару раз в баню, где я лежал спеленатый, как дитятя, заглядывал и сам Микула. Он был немногим старше моего отца, но был гораздо больше его. Выше и шире в плечах. Он мне казался огромным сказочным великаном-волотом. Большие, натруженные руки с крепкими шершавыми ладонями. Широкие плечи. Суровый взгляд из-под кустистых бровей. Поначалу он меня даже пугал, но потом я понял, что за его мощью и неимоверной силой сокрыто доброе и отзывчивое сердце.
Он подходил к моей лавке, осторожно присаживался на самый краешек, так что лавка потрескивала под его тяжестью, поправлял мои пелены и спрашивал:
– Ну, как ты, княжич?
– Хорошо, – отвечал я.
– Ну и ладно, поправляйся, – говорил он, улыбался открытой детской улыбкой, гладил меня по голове, точно кутенка, тяжело вздыхал и уходил, тихонько притворив за собой дверь прибанника.
Берисава была совсем другой. Маленькая, шустрая, веселая. Но в то же время крепкая и настырная. Она не принимала никаких возражений и отговорок, если считала, что поступает правильно. А считала она так почти всегда. И, надо отдать ей должное, почти всегда оказывалась правой. Именно ей я был обязан жизнью.
А Любава… о ней можно говорить долго. На первый взгляд она ни чем не отличалась от тех девчонок, которых я знал. Вот только было в ней что-то такое, что заставляло быстрее биться сердце, а ноги начинали ныть, словно я целый день бежал за оленем, да так и не догнал.
Приятные мурашки пробегали по телу, когда она входила ко мне. Когда садилась рядом. Когда трогала своими мягкими пальчиками мой лоб.
Я не знал, что со мной происходит. Почему эта девчонка вызывает во мне такую бурю чувств?
21 июля 942 г.
Я проспал до вечера…
И сон мне странный снился
Словно я маленький совсем. И луг вокруг огромный. Цветами раскрашен. А я посреди стою. И небо надо мной синее-синее. Высокое. Радостное.
И понимаю я, что Мир большой-большой. И я в нем всего лишь частичка малая. И смешно мне от этого чувства. И страшно, аж дух захватывает. И смеюсь я, и плачу одновременно. Маленькому-то плакать не зазорно.
Тут смотрю – мама ко мне подходит. Светлая. Чистая. Вся светится.
– Добрынюшка, – говорит. – Мальчик мой. Как вырос-то ты! Каким пригожим стал.
Берет меня за руку. И ведет сквозь туман, невесть откуда налетевший. А я за мамкину руку держусь. Потеряться в тумане не хочу. И вдруг понимаю, что нет уже ее руки. Пропала. Хватаю, хватаю вокруг ручонками. Только в ладошах туман один остается.
И горестно мне оттого, что один я остался. И понимаю, что теперь самому тропинку из тумана искать. И вроде, сразу не маленький я, а такой, как есть.
Бреду через туман, а он все не кончается. И хочется мне опять на тот луг, да догадываюсь, что возврата нет…
– Княжич, – слышу, зовет кто-то. – Княжич!
А я понять не могу, то ли сон это продолжается, то ли Явь уже…
– Княжич!..
– Кто это?
– Это я, Микула.
Тут и проснулся я.
– А Любава где?
– С ней все хорошо будет. Слышишь, княжич, встать тебе надобно, – он неуклюже переминался с ноги на ногу.
– Что? – встрепенулся я. – Варяги опять?
– Нет. Тебя Берисава ждет. Для тебя и для Любавы обряд приготовила. Будет из вас страх выгонять. Ты как? Сам-то дойдешь, или отнести тебя?
– Сам дойду, – отвечаю.
Я скоро пожалел, что отказался от Микулиной помощи. Кое-как спустился из горницы. Наступать на истыканные сучьями и хвоей ноги было больно. Опираться на иссеченные пальцы – еще больней. Тело ныло так, как будто меня вчера целый день Гридя со Славдей мутузили, а все Поборовы лучники им помогали.
Кое-как добрался я до коновязи, где на этот раз был привязан не ратный давешний конь, а рабочий, чуть зануженный, но сытый и довольный жизнью мерин.
– Давай, княжич, – Микула подсадил меня. – Дорога не близкая, но нужная.
Он рванул узду. Мерин горестно вздохнул и поплелся за хозяином.
Микула вел мерина под уздцы. Дорога оказалась и впрямь неблизкой. Я сидел на широкой спине мерина. Сидел и радовался тому, что огнищанин не видит, как мне тяжело дается дорога. Я старался не замечать ни усталости, ни боли. Ведь худо или бедно, но я ехал, а не шел пешком.
Между тем небо потемнело. А вскоре и вовсе скрылось среди разлапистых ветвей. Прошло еще немного времени, и я уже с трудом мог различить уши моего коняги.
А Микула все шел и шел. И я никак не мог понять, как же он различает тропу.
– Долго еще? – не стерпел я.
– Да пришли уже, – услышал в ответ его голос. – Видишь, вон Берисава костры запалила.
И верно. В бездонном мраке леса засветились яркие огоньки.
– А Любава там?
– Я еще с полудня ее перенес.
– Не пришла она в себя?
– Она, вроде как в себе, – сказал Микула растерянно. – А вроде как спит. Мать говорит, это страх на нее напал. Да скоро сам увидишь.
Вскоре мы и вправду вышли на поляну. По краям ее пылали костры. Двенадцать. По кругу. А посередине поляны торчал из земли огромный валун. Говорят, что когда волоты42 супротив Богов восстали, они этими валунами в Божье Воинство кидались. Китоврас43 им тогда такого задал. В него же, скакового, не так просто попасть. Вот и разбросаны такие камни по всей Древлянской земле.
Люди вокруг них собираются. Ведуны требы приносят. Кощуны поют. Через них с Богами разговаривают. Сколько в камнях этих силы волотовой накопилось? Попробуй, сосчитай. Непростые то камни. Нужные.
Вот на таком камне, посреди освященной Огнем поляны, лежала Любава.
Берисава уже раздела ее. Руки и ноги веревками стянула. Распластала ее на валуне. Да прокричала что-то. Не расслышал я.
Тут она нас увидала. А я ее рассмотрел. Простоволосая она стояла, точно девка. Венок из трав на голове. Закутанная в расшитое полотно. Босая.
– Иди сюда, княжич.
Слез я с мерина. Микула меня вперед подтолкнул.
– Иди, – говорит, – а я пошел отсюда. Нельзя мне здесь, – рванул мерина за узду и в лесу пропал.
А я в кольцо огненное вошел. Жаром костры пылают. Светло в коло44, как днем.
– Снимай с себя все, – сказала ведьма, – да мне давай.
Скинул я себя рубаху. Порты спустил. Берисаве отдал. А она их на клочки ножом располосовала. На двенадцать частей, и по части в каждый костер бросила.
– Прими, Огнь Сварожич, старую одежу, старые боли, старые страхи, старые немощи. Спали их сердцем горячим своим. Чтоб не было их боле ни в Яви, ни в Нави. Чтобы Правь от нас не загораживали, – подкармливала она Огонь моими недугами.
Потом ко мне подошла.
– Руки давай, – говорит.
Я руки протянул, а она на них петли ременные накинула.
– Пойдем, княжич, – потянула она за ремни, и я пошел за ней.
Она меня к валуну подвела. Уложила на него, так, что мы с Любавой оказались голова к голове. Растянула ведьма ремни. Накрепко меня привязала. Так, что я даже дернуться не смог. Потом чую, она мне и на ноги петли накинула. Через мгновение я был привязан так же, как и Любава. Так мы и лежали на валуне, распятые.
– Это чтоб ты не побился сильно, когда страх из тебя полезет, – пояснила она.
– Услыши, Мать-Рожаница45, внучку свою! – вдруг заголосила ведьма. – Помощи жду от тебя, Мира создательница! Из неживого в живое оборачивающая. Приди к внучке своей. Помоги защитить чада свои!
И понял я, что женский обряд начался. Древний, как сам этот Мир.
А Берисава полотно с себя скинула. В одном венке осталась. Точно навка лесная. На колени возле валуна села, глаза закрыла, раскачиваться начала. Стонать. Все громче и громче этот стон. Уже в звук обратился. Красивый. Глубокий…
– А-а-а-а! – над поляной летит и в ветвях гаснет.
А костры ярко горят. Глаза слепят.
Тут, на самом высоком звуке, Берисава опять застонала. Раскачивается все сильнее. Волосы ее длинные по земле волочатся. Вокруг ведьмы узор хитрый плетут.
Вдруг остановилась она. Замерла на мгновение. Глаза раскрыла. Смотрю, а взгляд у нее чужой. Будто и не здесь она вовсе, а не знамо где.
Встала она с колен. К валуну подошла, да как ударит ладонью по камню. И валун зазвенел. Точно и не камень вовсе, а бубен, козьей кожей обтянутый. А Берисава еще раз по камню ударила.
А он задрожал в ответ. Гул по поляне раскатился. И дрожь через меня прошла46. А ведьма снова что-то заголосила. Запричитала жалобно, точно плакальщица на тризне. И опять в камень бу-бух.
Дрожь меня волной накрыла. Прокатилась сквозь меня. А тут снова бу-бух.
И опять…
Я вдруг понял, что с новой волной и меня из тела выбросило. Будто сверху я на себя смотрю. И с каждым ведьминым завыванием, с каждым новым ударом по валуну меня все выше и выше поднимает.
Оказался я под самой кроной огромных сосен, обступивших поляну. И все, что в коло творится, я видеть могу. И Берисаву. И валун. И нас с Любавой, на валуне распластанных. А потом я увидал, как с новым ударом от тела девчонки яркое облачко… морок белесый оторвался. Вверх поднимается. Рядом со мной повисло. И догадался я, что это истинная Любава из тела своего вышла. Пригляделся я, и точно. Облачко на нее похоже стало. Всматриваюсь в морок, а разглядеть в нем Любаву не могу. И она это вроде, а может, и почудилось.
Тут слышу – гул камня затих.
Берисава кощун затянула. Тоже странный. Слышу слова, а понять что поет не могу. Ускользает…
А ведьма вокруг валуна плясать начала. В ладоши хлопает, чтоб не сбиться. Кружит вокруг нас. Рукам и ногам волю дает.
Смотрю, а из наших тел чернота полезла. Сгустки тумана грязного. Неохотно выбираются. С трудом. И остаться бы рады, но сила неведомая их с ведьмой плясать тянет.
А тела наши от этого корежит. Жилы натягиваются. Руки-ноги судорога скрутила. Ремни крепкие вот-вот лопнут. А сгустки черные все лезут и лезут.




