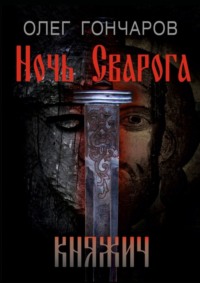Полная версия
Неизвестная. Книга первая
– А чего же не расплатиться-то, – привстал Данилов и рукой как бы невзначай спинку стула зацепил.
«Если что, отмахнуться можно будет… Потом – сапогом в столешницу, чтобы второго придавить. Третий – ссыкло, навряд ли ввяжется. На него прицыкнуть, так он и не рыпнется. А вот четвертый… Тот, что на диванчике присел да ножкой покачевает… От того можно всего ожидать. Хреновенько.»
– Да, что вы, ей-богу, – это тот, что на диване, голос подал. – Товарищ вполне платежеспособен. Вот, Николай Архипович, не вы ли портмоне обронили?
И Данилову его же кошелек протянул.
– Вот вам и здрасте, – Николай портмоне взял. – А все из-за этих, чтобы им пусто было!
– Гы-гы… – хохотнул тот, что у этажерки. И непонятно было, то ли его так находка развеселила, то ли в бутылке глоток самогона разглядел, то ли это у него от страха так.
А Николай спокойно портмоне раскрыл, двадцать пять червонцев отслюнявил и шесть целковых мелочью на банк бросил.
– Вот это я понимаю! – хлопнул себя тонкой ладошкой прирожденного щипача приблатненный. – Ты чего, Аркаша, стоишь, глазенки выпучил? – окликнул он ошалевшего от таких денег банкомета. – Стук у тебя, милай. Не зевай – раздавай.
«А ведь я тебя, щусенок, еще в трамвае срисовал, не догадался… Минус мне…», – подумал Данилов и уже спокойно обратно на стул сел.
– А я-то подумал, что по дороге потерял, – сказал банкомету. – Благодарствуйте, – кивнул нежданному благодетелю. – В наше время честный человек – большая редкость. А вы откуда меня по батюшке? Мы знакомы?
Но тот ничего не ответил, будто и не расслышал. Так и сидел на своем диванчике.
– Да уж… – сказал чуть оттаявший банкомет и принялся судорожно тасовать колоду.
– Эх! Люблю стук, – весело воскликнул приблатненный. – Все, что со стука снимешь, все твое, Аркаша!
– Ты ученого не учи, – отозвался Аркаша и сдал Николаю и приблатненному по карте. Ну и себе, конечно, одну положил, а потом торжественно по столу постучал и объявил, как массовик-затейник в доме отдыха:
– Стук, товарищи!
Николаю пришел валет.
«Два очка – не одно…», грустно подумалось Данилову. «На клочки меня Горыныч порвет за растрату социалистических финансов. Да еще первая рука… А она, как известно, хуже дурака».
– Мне на соточку взвесь, – сказал он банкомету.
– Э-э-э, гражданин инженер, – погрозил ему длиннющим пальцем приблатненный. – На стуке либо все, либо ничего.
– Кто сказал? – ухмыльнулся Данилов.
– Закон заведения, – это хозяйка стекла от разбитой стопки наконец-то подметать начала.
– Ладно, – кивнул Николай. – На все, так на все.
– Вот это я понимаю, – заегозил шустрыми пальчикам щипач, а Аркаша даже крякнул от удовольствия.
– Мамка, водки дай, – сказал вдруг выпивоха, а хозяйка ему в ответ кукиш показала.
– Так, получите, – банкомет швырнул Данилову карту через стол.
Дама. Итого – пять.
– Еще.
И новая карта прошуршала по замызганной скатерке.
Король.
Девять.
– Еще.
И опять дама пришла.
Двенадцать.
– Еще.
– Во зачастил! – воскликнул щипач радостно. – Аркаша, отдай ему всю колоду. Пусть сам с собой в пьянюшку играется.
Но банкомет скривился и еще одну карту Данилову выдал.
Николай приподнял уголок над столом, заглянул: «Как так?!». Третья дама пришла.
Пятнадцать.
Следующей картой был валет.
«На семнадцати дальше не идут», вспомнил он, как учил его играть в карты один приморский шулер.
– Еще.
Банкомет даже рот раскрыл. Помешкал немного, но карту дал.
Посмотрел на нее Данилов и одну за другой все шесть карт на стол выложил. И седьмую, последнюю, перевернул. А с нее улыбнулся банкомету все тот же красавец крестовый король.
– Очко, – сказал Николай и за банком потянулся.
Не стерпел Аркаша. Тысяча рублей – четыре месячных рабочих оклада – из-под носа уплывает. Вот у него душа и затосковала. Ножик словно сам из кармана в руку прыгнул. Хозяйка взвизгнула коротко. А выпивоха пустую бутылку об стол грохнул и розочкой Николаю в шею уперся.
– А ну-ка ша! – раздалось с диванчика, и в комнате повисла тишина.
– Все по закону, Аркаша, – сказал щипач. – Так что перышко-то спрячь. Не ровен час, порежешься, – и из-под стола револьверный ствол показался, как раз напротив Аркашиной ширинки. – Гражданин инженер у тебя по-чесноку банк сорвал, так что стук твой окончен.
– Мамка! – крикнул выпивоха, и острая розочка царапнула Данилову кожу на горле. – Мамка! Водки дай! Подпишу ведь коммуниста!
– Хорошо-хорошо, Владленчик, ты только стеклышко мне отдай, – тихо сказала хозяйка. – А я тебе самогончику налью.
– Водки! – взвизгнул Владлен.
– Водки, – согласилась хозяйка, и осторожно его за руку взяла.
Выпивоха нехотя розочку ей отдал и обратно к этажерке отшатнулся, словно он тут совсем ни при чем.
– Вы уж его простите, – шепнула Данилову хозяйка. – Он у меня так-то смирный. В честь самого Владимира Ленина назван.
– Деньги-то забирайте, Николай Архипович. Они вами честно заработаны, – встал с дивана загадочный тип. – Пойдемте, мы вас до дому проводим. Нынче ветрено. Не дай бог, еще простудитесь.
Так Данилов познакомился с Нехлюдовым и его подручным Кешкой-карманником – странной парочкой, работавшей на немецкую разведку.
Николай, конечно же, вначале немного покочевряжился, но потом дал себя завербовать. Сошлись на том, что Данилов будет давать отчеты о работах по объекту «Стрела», делать копии чертежей узлов нового самолета, интересных абверу, и передавать их Нехлюдову через Кешку. В свою очередь Нехлюдов через того же карманника будет снабжать Данилова деньгами.
Они немного поторговались насчет суммы вознаграждения и, в конце концов, сошлись на тысяче рублей в месяц.
– К вашему окладу в шестьсот рублей это будет неплохим приварком, – сказал на прощание Нехлюдов Николаю.
На том они и расстались.
Через три дня на конспиративной квартире Горыныч довольно потирал руки:
– Об операции доложено в Москву и получено добро на ее проведение. Сам замнаркома13 одобрил.
Ох и игра затеялась! Такая игра…
И эта большая игра затянулась на два с лишним года. И притом всем было интересно и хорошо. Нехлюдов отправлял данные в Германию. Данилов гнал ему хорошо подготовленную дезинформацию, Горыныч подсчитывал немецкие деньги, которые теперь можно было использовать против врагов Советского Союза.
Постепенно Николай все глубже проникал в структуру немецкой агентуры. Ему все больше доверяли и ценили. В итоге Данилов узнал, что воронежская сеть напрямую связана с московской, а ниточки ее тянутся в посольство Германии. К сожалению, ему так и не удалось подобраться к резиденту абвера. Даже имени его узнать не получилось.
Наконец, пришло время поставить все точки над «i». Тем более что для этого подвернулся весьма подходящий случай. После проведения серии испытательных подлетов, самолет решили переправить в Жуковский, чтобы там провести контрольные продувки в аэротрубе. «Стрелу» разобрали, загрузили на автомобиль и отправили в Москву. Сопровождал секретный груз Данилов.
Не без труда Николаю удалось подкинуть Нехлюдову мысль о возможности похищения самолета. Тот долго связывался с резидентом, взвешивал все «за» и «против», ведь для такой дерзкой акции нужно был задействовать германскую шпионскую сеть в обоих городах и на пути от Воронежа до Москвы. Данилов несколько раз думал, что ничего не получится, но резидент согласился с доводами Нехлюдова и сам решил возглавить операцию, о чем Кешка сообщил Николаю накануне его отъезда.
Все это время они с Горынычем разрабатывали план контроперации. Казалось, предусмотрели все. Но всего не предусмотришь… В результате Николай оказался в крошечной комнате дежурного на маленьком колхозном аэродроме, где-то между Сергиево и Кукуем, в пяти километрах от того места, где ждала засада НКВД. Вместе с Даниловым в той комнатенке оказались еще четверо. Кроме Нехлюдова с Кешкой там был еще резидент, который представился Иваном Степановичем, – роста среднего, возрастом за пятьдесят, без особых примет, если не считать черных кожаных перчаток, полувоенной фуражки и просторного прорезиненного плаща. С ним был телохранитель – здоровенный бугай совершенно бандитского вида. Рядом с громилой высокий и худой Нехлюдов казался еще худее.
Бугай держал в руках вальтер, который своим дулом упирался Данилову в лоб.
– Так что, товарищ Данилов, – сказал Иван Степанович спокойно и безразлично, – можете молиться своему пролетарскому богу, – скривился презрительно и кивнул бугаю: дескать, в расход.
Толстым, как свиная сосиска, большим пальцем бугай взвел курок, а указательным уже почти надавил на спусковой крючок… Почти… надавил…
Не успел.
Данилов резко отбил руку с направленным на него пистолетом, другой сгреб за шкирку коротышку-щипача и швырнул его на бугая. Пуля ударила в потолок, осыпав всех белой известкой. От выстрела у всех на секунду заложило уши. Николай врезал Нехлюдову носком сапога под коленку. Тот так и не смог достать наган из-за пояса бриджей, охнул и подломился. Удар локтем под дых и второй – ладонью в нос, окончательно вывели его из строя.
Иван Степанович запутался рукой в складках плаща и все никак не мог отыскать карман. Его глаза были полны ярости, а презрительная ухмылка превратилась в звериный оскал.
Данилов бросился к нему, но на пути встал шустрый Кешка. Карманник растопырил длиннющие пальцы и выкинул руку вперед, стараясь выколоть чекисту глаз. Данилов отшатнулся, но щипач все же достал его. Средний палец мазнул по щеке, оставив глубокую царапину на коже, и попал в полуоткрытый рот Николая. Тот машинально сжал челюсть и мотнул головой. Кешка на миг опешил, потом удивленно посмотрел на то, как кровь капнула на его лаковый штиблет, взглянул на руку, глаза его закатились, и он как куль обрушился вниз.
Вовремя.
Бугай прицелился в Данилова, но тот плюнул ему в лицо откушенным пальцем. Неожиданное падение Кешки и брызги кровавой слюны заставили бандюгу опустить глаза. Этого хватило, чтобы Николай успел схватить со стола тяжелый телефонный аппарат и двинуть им бугая промеж глаз. От удара тот отлетел к стене, врезался затылком в дверной косяк и ополз.
А немецкий резидент правой рукой легко подхватил тяжелый табурет, замахнулся и, чтобы сподручней было ударить, чуть вытянул вперед левую. Николай цепко схватился за прорезиненный рукав, ввернулся под ноги Ивану Степановичу, упал на колени и потянул шпиона вниз, пытаясь перебросить через себя. Рукав затрещал, и Данилов вдруг осознал, что отрывает этот рукав от плаща, а вместе с ним отрывает и руку. Он успел удивиться, прежде чем получил страшнейший удар по затылку.
Теряя сознание, Данилов услышал на улице шум, потом досадливый вздох, стук двери, и уже проваливаясь в пустоту, рефлекторно прижал к груди оторванную руку немецкого резидента.
Только через несколько дней в больнице, когда Николай немного пришел в себя, Горыныч рассказал ему, как догадался, что вражеские агенты изменили место посадки немецкого транспортного самолета. Как ребята лихорадочно соображали, куда вражины могут отогнать грузовик со «Стрелой». Как кто-то вспомнил про этот аэродромчик, и они мчались напрямую – сквозь перелесок и через колхозные поля. Как увидели трех шпионов, разбросанных по полу дежурной комнаты, а среди них бездыханного Николая.
– Немецкий самолет так и не сел, – рокотал Горыныч, – покружил и убрался. И эта сволочь однорукая ушла. Зато мы всю агентурную сеть от Воронежа до Москвы одним разом взяли. Нехлюдов уже на Лубянке показания дает. Так что вот, – протянул они Данилову синий картонный кубик-коробку. – Это тебе от нашего отдела, товарищ старший лейтенант госбезопасности. Всем коллективом… так сказать… Открывай.
Данилов открыл коробку.
В ней на синей бархатной подушке лежали часы.
– Настоящие! – расплылся в улыбке Горыныч. – Швейцарские. С самовзводом. Рукой машешь, а они заводятся. Прикинь! А еще дату показывают и месяц. Правда, месяц немецкими буквами, но, думаю, разберешься.
– Спасибо, – сказал Данилов, разглядывая подарок.
– Это тебе спасибо. На отдел благодарность пришла от самого наркома.
– А водитель как? – спросил Николай.
– Ты его не сильно… Оклемался уже и велел передать, что зла на тебя не держит. А вот двух ребят из охраны «Стрелы» мы потеряли.
И уже на выходе из палаты хитро подмигнул Николаю:
– Мы тебе ту руку протезную в подарок хотели, но нельзя, вещдок, – и рассмеялся.
А вечером врач сказал ему:
– Ваша черепно-мозговая травма оказалась несколько серьезнее, чем мы предполагали. Вот прочтите, что тут написано, – и листок с каким-то текстом протянул.
– Не могу, – сощурился Данилов. – Расплывается все.
– А вы поближе к глазам поднесите.
– Не вижу.
– А еще ближе.
– Да. Вижу.
И прочитал:
– «Два килограмма сахара на два килограмма малины». Что это?
– Проверка, – ответил доктор, листок забрал и в карман халата сунул. – Ну ничего. Мы вам очки выпишем. От очков еще никто не умирал.
Через месяц Данилов вышел из больницы. Уже в очках. Прав был доктор, от очков не умирают. Сперва непривычно было, потом освоился.
Горыныч его от оперативной работы отстранил, велел пока старые дела в архив подшивать. А чтобы скучно товарищу старшему лейтенанту не было, он ему в помощники сержанта Гришу прикомандировал. Веселый парень оказался. Разговорчивый. Так они с ним два месяца и проразговаривали.
А потом пришел вызов из Москвы…
И стоит теперь Данилов в служебном туалете известного на всю страну дома на Лубянской площади, смотрит на себя в зеркало, вспоминает свою прошлую жизнь и думает: «В чем тут подвох? Как всесильный нарком не сумел человека в стране найти? Да ему же только пальцами щелкни… Что-то тут не так… Что-то не так».
*****
Данилов сполоснул руки, умылся, утер лицо казенным полотенцем, тщательно протер очки, тронул карман, в котором талисман лежит, выдохнул резко, чтобы усталость стряхнуть, и вернулся к себе. В приемной попросил сержанта решить вопрос с расквартированием и довольствием и прикрыл за собой дверь кабинета. Стол уже был прибран.
«А и вправду малец далеко пойдет».
Отомкнул несгорайку, достал оттуда папку. Сел за стол, положил папку перед собой, снял надоевшие уже тесные сапоги и блаженно улыбнулся, шевеля пальцами ног: «У-у-у, хорошо…». Потом поправил очки: «Как же так? Зачем же он меня из Воронежа сюда перевел? Неужели здесь никого не нашлось? Чего он хочет?»
Раскрыл папку и посмотрел на фотографию, прикрепленную железной скрепкой к единственному листку дела, на котором было выписано несколько адресов. На не слишком четкой старой карточке, снятой где-то на лесной поляне, было четырнадцать человек. Двое мужчин в полувоенных френчах. Один из них бывший офицер – по выправке видно, и бинокль у него на груди висит командирский, и стоит обособлено, словно за взводом своим бдит. Второй – какой-то мешковатый, будто френч на нем с чужого плеча. Трое штатских: мужики не крупные и на вид приличные. Еще один, одет как будто в кухлянку… Так и есть – кочевник. В середине ребенок и несколько деревенских баб в странных нарядах. Левее явно городская – красивая женщина в светлом пальто, вязанном кашне в крупную полоску и большом смешном картузе. А чуть ниже и ближе, опершись головой на руку, полусидит-полулежит очень приятная лицом девушка, одетая в распахнутый тулуп: простоволосая, коротко стриженая, глаза посажены достаточно глубоко, брови красивые, лицо худое – но это ее не портит, нос прямой, подбородок острый. Ее изображение было обведено химическим карандашом, а рядом разместился маленький синий вопросительный знак.
И вот что интересно – все на снимке смотрят в объектив камеры, а она, задумчиво, куда-то в неведомые дальние дали…
– Так зачем же ты понадобилась наркому внутренних дел? – спросил Данилов, вглядываясь в лицо девушки, словно фотокарточка могла ему ответить.
Николай взглянул на листок, подшитый к делу. В самом верху было разборчиво и аккуратно выведено: «Юлия Вонифатьевна Струтинская».
Капитан закрыл дело, с тоскою посмотрел в окно и тихо прошептал:
– И кто ты вообще такая?
*****
– Ну? Вы так и не узнали, зачем на самом деле она ему понадобилась? Какой вы молодец. Если честно, то я не была уверена, что эту загадку вы отгадаете до конца. Потом поделитесь, хорошо?.. Кстати, вы не находите, что здесь немного душновато? Нет, прошу вас, не открывайте окно. Меня от сквозняка будет ужасно мучить насморк. А разве вам нужна шмыгающая носом соседка по купе? Но все же, не мешало бы немного освежиться. Вы не будете возражать, если я недолго постою у окна в коридоре? Я даже дверь в купе не буду закрывать. А может, и вы со мной? Тогда я вам расскажу одну занятную историю…
глава 3
…Свет… тьма… свет… тьма… свет… тьма… И уже потом она поняла, что это – день и ночь. И от осознания этого стало грустно…
*****
«Среди грохота, пены и шума,Словно пение наших сердец,Звонко-острые стрелы АмураМиру старому прочат конец…»Стишки были дрянные, да и сам поэт был каким-то ненастоящим: плюгавенький и скучный, он подвывал надрывно и протяжно. В такт своим виршам притоптывал затянутой в узкие клетчатые брюки-дудочки худой ножкой. И все время затравленно оглядывал зал, словно опасаясь получить оттуда по физиономии гнилым помидором.
Только помидоров в ту пору не было. А еще не было мяса, молока, масла, круп, да и хлеба оставалось в городе всего на три дня.
Зато была осень.
На улицах, в домах и в душах людей было холодно, голодно, слякотно и кроваво.
Восемнадцатый год. Петроград. Вечер.
В переполненном актовом зале бывшего собрания господ офицеров, а ныне клуба революционного Балтфлота, яблоку негде было упасть. Выпить нечего – сухой закон в Питере. Ежели кого пьяным заметят, тут же к стенке поставят и шлепнут. Нет, брат, шалишь, дураков в другом месте поищи.
А вот «кокосу» занюхнуть, это – пожалуйста. Властью не возбранялось, тем более что братва этого добра много по аптекам наэкспроприировала. Вот и растягивали революционные моряки длинные белые дорожки прямо по мраморному подоконнику курительной комнаты. В тяжелых портьерах, в красной бархатной занавеси над резными дверями, как теперь ее называли, «курилки» еще остался тонкий аромат дорогих кубинских сигар. И сколько не дымили морячки махрой, но дух навсегда ушедших времен вытравить оказалось не так уж и просто.
Но красных балтфлотцев это не сильно смущало. Они шумно втягивали носом «снежную пыль» и крякали смачно, точно стопку на грудь приняли. Раньше этой дурью заморской все больше господа офицеры развлекались, только господ уже год как нет. И офицеров пачками расстреливают и в заливе связками топят. Говорят, в Петропавловке весь двор штабелями из «бывших» завален. «Красный террор» называется.
А еще тут тепло и светло, да и пожрать дают ближе к полуночи. По селедке на нос и хлебца-черняшки пополам с отрубями, правда, только осьмушку в руки. Хлеб пекли прямо здесь, на кухне, и крепкий хлебный дух перемешивался с крепким моряцким табачным, щекотал ноздри и заставлял бурлить отощавшие животы революционного морского воинства. Потому каждый вечер набивался просторный дом на Литейном по самый шпиль.
– Слышь, Карась, а про товарища Урицкого ты все брешешь!
– Да я за что покупаю, за то и продаю! – взвился молодой морячок, громко хлопнув сиденьем кресла.
Поэт на сцене смешно подпрыгнул, словно услышал звук выстрела, оборвал стихи на полуслове и затравленно рванул за кулисы. Вслед ему засвистели, заулюлюкали и застучали ботинками по ножкам бархатных кресел.
– Селедки ему не давать! – гаркнул какой-то комендор из второго ряда. – Не заслужил, с-с-сука!
Этот выкрик был воспринят публикой весьма позитивно. Кто-то захлопал в ладоши, а кто-то пальнул из нагана в воздух, но тут же был усмирен товарищем – звонкий удар в ухо отрубил дебошира, тот выронил оружие и кулем осел между спинками кресел. Это вызвало еще большее оживление в зале. К тому же один из красногвардейцев, строго следящих за порядком в клубе, рванулся к месту происшествия, но споткнулся – то ли о складку замызганной ковровой дорожки, то ли о выставленную кем-то ногу – и с грохотом покатился по проходу.
Но молодой морячок, казалось, не заметил всей этой кутерьмы. Он был задет за живое и очень обиделся на неверие товарищей.
– Да, чтоб мне крабом подавиться! – рубанул он рукой воздух. – Вот ты, товарищ Кузминкин, сам рассуди, на кой ляд мне врать-то?! Человек, который мне про эти шуры-муры рассказал, надежный и проверенный. Мы с ним не один пуд соленой водицы вместе выпили…
– Ну… ты, ладно, угомонись, – Кузминкин потянул его за рукав. – А то как вон того рьяного сейчас выведут, – кивнул он на красногвардейцев, волочивших по проходу обмякшее тело бузотера.
– Ладно, – примирительно кивнул молодой и уселся на место.
– Ну? И че? – пихнул его в бок другой моряк.
– Да че… – махнул парень. – Вишь, Канегиссер этот вроде как в полюбовниках у Урицкого значился. А сам на другого, на Перельцвейга глаз положил…
– А теперь, товарищи! – На сцену вышел усатый боцман. – Известный куплетист, товарищ Амброзий Заливайло исполнит революционные частушки на злобу дня!
И тотчас из-за кулис выскочили двое музыкантов – один с аккордеоном, а другой с семиструнной гитарой, кивнули друг другу и резво вдарили «Яблочко».
Пропустив пару тактов, из противоположной кулисы сноровисто и вертко выкатился пузатенький здоровячек в широченных матросских клешах, в туго обтянувшей круглое пузо тельняшке и в маленькой, не по размеру, бескозырке, словно гвоздем прибитой к мясистому стриженному затылку. Казалось, еще мгновение, и бескозырка упадет, но она каким-то чудом оставалась на месте. А танцор, лихо выделывая кренделя ногами, подскочил к авансцене и запел приятным тенором:
«Эх, яблочко,Куды ты котисси?В ВЧК попадешь —Не воротисси!..»Этот выход произвел впечатление на зал. Моряки одобрительно зашумели и захлопали в ладоши.
– Ну? И че? – снова ткнул молодого сосед.
– Да че… – покосился Карась на сцену и продолжил: – Моисей Ленчика к Володьке приревновал и велел Перельцвейга к стеночке приставить, кирпичей понюхать. Ну а Ленчик от любовного томления в дорогого Моисей Соломоныча и пальнул. Так и не стало пламенного революционера товарища Урицкого.
– Вот ведь… – вздохнул любопытный сосед, – любовь… – и тихо хихикнул.
А товарищ Кузминкин сказал:
– Ты, это… помалкивал бы. А то язык длинный до добра не доведет, – и покосился на сидящего чуть поодаль молоденького мичмана с кроваво-красной атласной лентой, пришитой прямо на тулью фуражки.
Странным был тот мичман. Вроде годами не богат, а сидит, словно дед старый – скрючился весь, скукожился, то ли спина у него болит, то ли геморрой донимает. Вон и вместо кокарды у него на околыше дыра. Точно пулю мичману всадили промеж глаз. И взгляд у него какой-то скользкий. То ли ветром в глаза надуло, то ли заплакать хочет.
Кузминкин его вроде даже признал, а вот где они виделись и зачем, он никак вспомнить не мог. Это как слово, которое вертится на языке. Кажется, еще чуть-чуть и ухватишь его за шершавый хвост, и оно сорвется с губ, и станет сразу все так ясно и просто. Только не дается оно, никак его не вспомнишь и не прищемишь, и оттого все сложно вокруг и запутано. Так и лицо этого товарища: склизкое оно и потому – подозрительное.
Но напрасно переживал товарищ Кузминкин, мичману было не до бабских сплетен. Он не слышал, о чем там судачила матросня. Он и куплетиста-затейника, что залихватски резвился на сцене, практически не слышал. Не до того ему было.
В нем сидел страх.
Животный страх.
Так, со стороны, в глаза не бросалось, но на самом деле товарища мичмана била мелкая дрожь.
«Они меня убьют». Эта пакостная мыслишка никак не хотела убираться из его головы: «Они меня обязательно убьют».
И его действительно хотели убить. Всего три месяца тому назад в Киеве, прямо на Крещатике, в него всадили шесть пуль. Две, слава богу, по касательной, а одна – навылет. Но три пришлось доставать. Благо пистолетик был маленький, браунинг дамский. Пули – что твои дробинки, только местных громил пугать. Доктор смеялся, когда их выковыривал:
– Они бы еще солью в вас пальнули. Хохлы – как дети, право слово! Им только спички давать нельзя – обожгутся…
А когда уже пошел на поправку, в больничное окно бросили бомбу. Сиганул он тогда с кровати горным бараном да за дверь выскочил, оттого и в живых остался.
Вот тогда и пришлось ему в Рыбинске спрятаться да раны там потихоньку зализывать. Только в схороне долго сидеть стало скучно. А тут еще оказия подвернулась – путину закончили, он все дебеты с кредитами подогнал, и у молодого счетовода пара дней свободными оказались. Вот он в Питер и рванул.