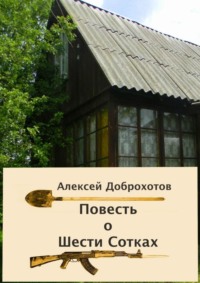Полная версия
Легенда о Пустошке
– Вдвоем на одну! – взревела обделенная наследством баба, – Ну я вам, гадины, покажу! – и бросив терзать волосенки обидчицы, сцепилась со второй, да так крепко, что обе кубарем покатились под стол, опрокидывая на пол посуду и прочую утварь.
Минут пять они неистово и зло валтузили друг друга, пока оправившаяся от шока Элеонора Григорьевна, не окатила их сверху ведром холодной воды.
– Ну, бабы, ну, вы даете! – патетически произнесла она, нервно поправляя растрепанные волосы. Села на стул возле стола, налила в стакан самогона и залпом выпила.
– Все равно – жулики, – тяжело выдохнула охлажденная доярка.
– Сама, черт лохматый, – коротко ответила самогонщица, громко хлюпая расквашенной картофелиной носа.
– Мокрая! Вся мокрая! Я мокрая вся! И кофту порвала, – заскулила разобиженная Тоська, – Зачем кофту порвала. У меня что, кофтов миллион? Почто кофту порвала. Новую. Дырка вот. И мокрая…
– Вот, черт лохматый, у тебя барахла сколько. Это вот мне переодеть нечего. С ума сошла, людей поливать? Себя полей, черт лохматый. Образованная еще, – Вера Сергеевна, встала, поправила на себе перевернутую задом наперед юбку, подошла к столу и хлопнула самогонки, – На, черт лохматый, выпей. Полегчает, – протянула стакан Тоське.
Та приняла и несколько успокоилась.
– Возьму у тебя ватник. Сухой. Завтра верну, – не стесняясь присутствующих, самогонщица стянула с себя мокрую одежду, развесила над печкой, запахнулась в перешедший по наследству к доярке ватник и села за стол.
Ее примеру последовала и вторая сторона потасовки. Тяжело пыхтя, она натянула на бесформенное тело обнаруженные в шкафу различные предметы пырьевского гардероба, уподобившись клоуну.
Воцарилась минутная пауза. Все глубоко переживали потрясение. Спиртное приятно согревало внутренности. Умиротворяло взбудораженную душу. В голове зашумело, повело…
Вот кто-то с горочки спустился…Завела Вера Сергеевна.
Наверно милый мой идет…Подхватила Анастасия Павловна.
Элеонора Григорьевна вынула из эмалированного таза большой кухонный нож и вышла из комнаты. Пока бабы допевали песню, она вернулась с обезглавленной спорной несушкой и бросила тушку на стол перед спорщицами.
– Вот, делите, – сухо хлестанула, поправляя окровавленной рукой очки на остром носу.
– Общипать надо, – с полным безразличием в голосе произнесла Вера Сергеевна.
– Ой, мамочки! – побледнела Анастасия Павловна, – Белушка… – слезы градом покатились по толстым щекам, и она стремительно выбежала из дома.
– Куда это она? – поинтересовалась бывшая учительница.
– Поревет и вернется. Барахло не бросит, – заметила самогонщица, – Однако, как деньги делить будем? Тут их сто двадцать пять рублей тридцать копеек.
– Конфет купим. И поделим, – предложили Элеонора Григорьевна.
– Умница, – оценила Вера Сергеевна, – Помянем Надюху. Мир праху ее…
Выпили. Прошел час. Каждая аккуратно поковала свою долю. Анастасия Павловна не возвращалась. На улице стало смеркаться.
Обеспокоенные старушки пошли к дому Тоськи, благо тот стоял рядом.
Темные окна, настежь распахнутая дверь. Рыжий пес жалостно скулит в сенях. Темно, безмолвно…
Поскрипывая половицами, осторожно прошли на кухню.
Анастасия Павловна сидела на полу возле опрокинутой табуретки, широко расставив короткие ноги. Покатые плечи мелко тряслись, с толстой шеи свисал обрывок гнилой веревки. Она тихо рыдала, закрыв ладонями круглое лицо.
– Ты что, Тоська! – в сердцах воскликнула Элеонора Григорьевна, бросаясь к ней на пол, – Ты что, милая!
– Вот, черт лохматый… – оценила ситуацию Вера Сергеевна и, тут же подцепив из ведра полный ковш холодной воды, сунула под нос рыдающей Анастасии, – На, выпей.
– Не жить мне без милой Белушки. Я ее так хотела. Я ее так любила… Она всю зиму кормила нас. Яйца несла. Никто больше не нес. Только она несла. Мы с Надеждой молились на нее. Это была такая курочка, такая курочка… Что вы, бабы, наделали!.. – причитала Анастасия Павловна.
– Прости. Прости меня, Тоська. Я же не знала. Я же не хотела. Я хотела, как лучше. Чтобы мы больше не ссорились. Чтобы мы жили дружно. Нас же так мало осталось, – целуя ее, говорила Элеонора Григорьевна, – Кто же знал, что она тебе так дорога. Если бы я знала, я ни за что… я бы ни когда так не сделала. Мы бы только тебе ее и отдали. Что же ты нам не сказала, Тоська. Мы же не знали…
– Зачем убили Белушку? За что зарезали? Лучше бы меня убили. Лучше бы меня зарезали. Не хочу больше жить. Все равно зимой сдохну, – ревела бывшая доярка.
– Не сдохнешь. Мы не дадим тебе сдохнуть. Мы поможем. Всем миром поможем. Мы теперь дружно жить будем. Будем беречь друг дружку, заботиться. Что нам делить? Сколько нас осталось: ты, я, да Верка, – успокаивала ее учительница, – Что нам на троих еды зимой мало будет? Все у нас будет хорошо, Тоська. Все у нас будет.
На улице стемнело. Вера Сергеевна зажгла свечу, закрыла дверь изнутри, растопила печь. Вскипятили чайник и долго пили чай, тихо беседуя. Далеко за полночь легли спать, все вместе на одной тоськиной широкой кровати. Прямо на покрывало, сверху, не раздеваясь, твердо решив, что утром всех оставшихся кур отдадут ей, и кроме того проигранные в жребий большой хрустальный кувшин, салатник и конфетницу.
* * *
Афанасий проснулся в залитой солнцем горнице. Вокруг ни души. Черный кот под столом куриными костями хрустит, зеленым злым глазом коситься. Какие-то узлы с вещами на полу лежат. Остатки вареной картошки на тарелках сохнут. Стопки недопитые поблескивают.
Слил дед остатки в один стакан, успокоил продукт, пошел на улицу. Дернул входную дверь – снаружи чем-то подперта. Поднавалился, оттащил в сторону деревянный чурбан, вышел во двор. И там пусто.
Тихо, птички в кустах щебечут, петух из соседнего огорода кукарекает.
Пошел дед пустынной улицей по деревне. Раньше на ней два грузовика свободно разъехаться могли. Теперь одна разбитая тракторная колея осталась, с обеих сторон кустарником подпертая. Не улица, а одно название. Тропа звериная, да и только. Прет лес со всех сторон, зарастает деревня.
Вошел на свой двор, кур с утками гулять выпустил. Странно, времени полдень, а птица в курятнике. Скотина в хлеву орет не кормленная. Пес скулит в доме запертый. Не проснулась еще Верка, или ушла куда?
Открыл старик дом, прошел на кухню. Зачерпнул кружкой воды из ведра, заглянул в комнату. Стоит кровать не тронутая. Нет жены в доме. Куда баба подевалась?
Снова во двор вышел. На лавочку сел.
В голове гудит, на душе тошно.
Жалко, конечно, Надюху. Красивая была баба. Видная. Не его правда, но все же… Зря Верка кривилась. Хороший гроб сделал. От души постарался. Доски, как следует выстругал. Друг к дружке пригнал плотно. Ручки крепкие привернул. Для себя хранил. Не гроб получился, загляденье. Хорошо ей будет в таком гробу лежать. Кто бы обо мне так позаботился…
Жмурится дед на солнышко, холодную водичку из кружечки попивает.
* * *
Участковый милиционер Василий Михайлович Донкин объявился ровно к полудню. Видный мужик средних лет, высокого роста, крепкого телосложения он имел круглое, розовое лицо, можно сказать, сытое и без особых примет. В милиции оттянул без малого пятнадцать лет службы, но за отсутствием заслуг перед Отечеством в звании сильно не продвинулся, надолго завис в капитанах, что сильно угнетало его впечатлительную натуру. Как человек недалекий он винил в этом кого угодно, только не свое разгильдяйство и природную лень.
Грязный, злой, уставший от долгой дороги он ввалился во двор Афанасия и с ходу выпалил:
– Наливай, дед, стакан, твою мать… Что смотришь? Знаю, у тебя есть.
Старик не любил милиционеров. Они сына родного ни за что посадили. Его самого в молодости за здорово живешь укатали в далекие лагеря. Он жил в лесу, наедине с дикими волками, ничего уже не боялся, и потому ответил прямо и просто, как ответил бы каждый очутись на его месте – обыкновенными словами, в переводе с просторечного означающими:
– Да пошел бы ты, нехороший человек, куда подальше, быть может там тебе и нальют…
Василий Михайлович грубого обращения со своей хрупкой особой не терпел, да и умонастроение имел в тот день мрачное, а потому сильно обиделся.
– Ах, мать твою… – взревел он, выхватывая из под промокшей, облепленной грязью шинели табельный пистолет, – Милицию не уважаешь? Сволочь!
– Я, итить твою макушку, сам тут милиция, и тебя в гробу видел, шарамыжник, – мягко парировал Афанасий, словно не замечая нависающий над ним опасности, – Будешь, итить твою макушку, шалить, собаку спущу.
Говорил дед, конечно, словами не литературными и потому весьма убедительными. Старый обленившийся пес, даже не гавкнул на страшное чучело, выкатившееся из леса. Единственная его забота заключалась в том, чтобы добыть где-нибудь пожрать, после чего спрятаться куда-нибудь от волков, чтобы самого не сожрали. Но милиционера это задело сильно.
– На меня, собаку!.. Встать, сволочь, – зычно скомандовал он.
Но на старика это не произвело ровно никакого впечатления. Что ему какой-то милиционер с пистолетом, когда на душе такая тоска, что помереть хочется. Неизвестно чем бы это все кончилось, если бы в этот момент с улицы не вошла Вера Сергеевна.
– Ах, Василий Михайлович, радость-то какая, – всплеснула она руками, быстро оценив ситуацию, – Какими судьбами? Никак к нам пожаловали! Да что это вы тут во дворе стоите, в дом не заходите? Или ворон пугать вздумали? Так их нету сегодня. Все в лес улетели. Одно чучело осталось, так его и пугать не надо. Оно пьяное.
– Тьфу, мать твою… – выругался милиционер, убирая оружие в кобуру, – В другой раз, дед, я тебя точно пристрелю, понял?
– А ну, тебя, к лешему, – в полном безразличии махнул на него рукой Афанасий и хлебнул холодной водички из жестяной кружечки.
– В дом пройдите, Василий Михайлович, – приветливо пригласила хозяйка, – Сколько лет, сколько зим… У меня настоечка свежая поспела. На березовых почках. Очень от утомления помогает. Усталости как рукой снимает. Не откажите попробовать.
* * *
– Налей, Верка, для сугреву, – скомандовал с ходу участковый, едва перевалив грязными сапогами через порог дома.
Выпил служивый залпом стакан, крякнул, на табурет сел и обмяк разом.
– Ну, и дорога, твою мать… – повело его, – Еле добрался. Мотоцикл на первом километре увяз. Пришлось бросить. Пешком пер. Лесом. Один. По грязи. К березе прислонил и пошел. Надеюсь, не сопрут. Реку так разлило, твою мать… Думал по мосту пройду, а и хрен тебе. Чуть не утоп. Как хряснет подо мной. Еле выплыл, твою мать… И когда только вы все сдохнете?
– Не дождешься. Сто лет будем жить, – срезала хозяйка, – Что расселся, ноги растопырил. Приберись. В дому чай, не в стойле. В сенях шинель скинь. Весь пол загваздал. Натоптал, черт лохматый. Влез весь грязный. Вечно одни неприятности от вас, от милиции.
Обменявшись дружескими любезностями, Вера Сергеевна заставила блюстителя порядка отнести шинель в сени и снять сапоги, после чего пригласила отобедать. Гость охотно согласился, разулся и долго фыркал возле рукомойника, оттирая грязь с различных частей тела и казенного обмундирования. Его мокрые носки хозяйка вывесила над горячей плитой, дав взамен стоптанные кожаные тапочки мужа.
Через окно кликнули Афанасия. Тот по-прежнему продолжать греться на солнышке и только махнул рукой. Без меня, мол, не хочу.
– А ведь мы тебя ждали, Василий Михайлович, – начала разговор хозяйка, ставя перед участковым тарелку горячих щей, – Марья сказала, что сегодня ты будешь.
– Так и сказала? Кто сказал? – удивился участковый, примеряясь алюминиевой ложкой к первому.
– Давеча Надежда наша померла. Посылать за тобой хотели. А кто пойдет? Сам говоришь, дорога плохая. Вот она и говорит, как поминки справим, так ты сам к нам и явишься. Сказала, и вот он ты. Поминки только вчера справили. Помянули, вот ты и пожаловал. Кушай, пока горячее.
– Вот как… Так и сказала? Вот ведьма. Постой. Кто, ты говоришь, помер?
– Надежда. Третьего дня. Похоронили вчера. Поминки, говорю, вчера справили. Вот ты и явился, – пояснила Вера Сергеевна.
– Как это померла? Как это схоронили? А труп где?
– На кладбище, как ему и положено. Где же ему еще быть?
– А кто освидетельствовал? А справка!
– Никто. Так никто же пройти не может. Распутица. Сам, говоришь, чуть не утоп. Не лежать же ей в избе до самого лета. Тебя не докличешься. Телефона у нас нет. Убивай нас тут всех, никто не услышит. Вот и похоронили. А ты как думал? Тебя ждать будем? Да, ты не думай чего. Она сама померла. Все видели. Как положено. Легла спать и померла. От старости. Не веришь, у людей спроси.
– Кто тело нашел?
– Соседка ее, Тоська. Прибежала, померла, кричит. Мы все пошли. Дед мой через окно в дом пролез, дверь открыл. Мы вошли. Она на кровати лежит, вся холодная. Мертвая совершенно. Мы обмыли ее, как положено, и вчера схоронили. Вот и все.
– Ну, вы тут даете?.. Я же пришел показания с нее снимать.
– Какие еще показания?
– Начальник послал показания снять по поводу вашего чертова кабеля, который у вас на хрен срезали. Она заявлениями всю прокуратуру замордовала. Вот меня и послали.
– Так ты бы еще лет через пять пришел. Мы бы тут как раз уже все перемерли. Проснулся. Здравствуйте. Кабель поди лет десять назад срезали. А ты когда явился?
– Когда положено, тогда и явился. Не твоего это ума дело. Явился, когда надо было явиться.
– Ну, так ты явился как раз вовремя. Иди, снимай с нее показания. Она ждет тебя на кладбище. Лопатку тебе дать или так с нею договоришься?
– Да, ну тебя, глупая баба. Тут дело серьезное. Что вы тут наделали? Что мне теперь делать?
– Ты супчику поешь. Да выпей еще немного. Там видно будет, – посоветовала Вера Сергеевна и налила озадаченному участковому еще один стакан янтарной самогонки.
Милиционер выпил. Потом еще раз, для шлифовки, под горячую картошечку. И под конец обеда ему стало хорошо.
– Черт с ней, что померла. Давно пора было, – бодро зарассуждал он, размахивая вилкой, – Нет заявителя, нет и Дела. Спишем в архив, и все. Правильно, что померла. Жаль, телефона у вас нет. Позвонили бы, так я бы и не приезжал. Насчет справки не беспокойся. Сам оформлю. В лучшем виде. В собес сообщу. С учета сниму. Свидетельство выпишу. Родственников у нее нет?
– Никого, – ответила хлебосольная хозяйка, порозовевшая от горячего обеда, – Одинокая была старушка.
– Помянем, по-человечески, – предложил участковый.
Помянули.
– С барахлом сами разбирайтесь. Но дом не трогайте. Дом государству отходит. Хотя деревни как бы и нет, но порядок соблюдать требуется. Чтобы дом стоял. Кто его знает, как все обернется. Потому, пускай стоит. Опять же проверка, вдруг, какая из района. А дома нет. Не порядок. С кого спросят? С меня. Я в другой раз приеду, проверю и все опишу, на протокол. Чтобы не разбирали. Знаю я вас. Быстро на дрова растащите. Прямо муравьи какие-то.
– А ты видел? Ты за руку ловил, черт лохматый? Чего говоришь? – возмутилась Вера Сергеевна.
– Ловил, не ловил, а знаю. Кому, кроме вас? Куда дома подевались? Целая деревня была. Где она? Где дрова берете? В лесу? А кто лес рубить разрешил? Что у вас в поленницах лежит? – явил гость служебное рвение.
– Да кому гнилушки твои нужны? – возразила собеседница, – Что ты за них беспокоишься? Списали деревню и ладно. Все, нет ее. Никаких домов нет. Чистое поле. Лес. Скажи еще спасибо, что за тебя работу твою делаем. Остаточки подбираем.
– Все равно. Не порядок. Ясно? Ну, ладно, засиделся я тут у тебя. Идти мне пора. Мотоцикл в лесу брошен, – Василий Михайлович встал и, пошатываясь, направился к выходу, – Где тут у тебя сортир, Верка? Налево? Хорошо. А суп у тебя, Верка, гадость. Ни хрена щи варить не умеешь. Что вылупилась? Ха! Да шучу я. Шучу. Жрать можно. Один раз, – громко рыгнул и вышел из кухни.
* * *
Однако указанного хозяйкой отхожего места незваный гость в сенях не нашел. Вместо этого он очутился во дворе. С наслаждением помочился на поленницу дров, слегка обрызгав спавшего возле нее старого сторожевого пса. Того, в принципе, это нисколько не потревожило и даже не удивило. Затем присел рядом с дедом на лавочку, положил ему пухлую руку на плечо и душевно произнес:
– Хороший ты мужик, дед.
На что тот с полным безразличием ответил:
– А ты, итить твою макушку, дерьмо полное.
– Совершенно верно, – охотно согласился милиционер, – Служба у меня такая. Потому как я есть из внутренних органов.
– Тогда, итить твою макушку, давай выпьем.
– С удовольствием.
Они выпили. Откуда там оказалась литровая бутылка самогонки, никто не знает. Не то участковый с собой прихватил со стола, не то дед загодя припрятал для хорошего человека, только откушали они из нее изрядно, по очереди прикладываясь к узкому горлышку. Исстрадалась душа Афанасия по мужицкому разговору. Накопилось внутри, выплеснуть некуда. Мент, хоть и не мужик, но все же не баба. Понятие о жизни имеет. В конце концов, сгодиться и он, если больше поговорить не с кем. Тем более, что сам лезет, на душевную беседу, напрашивается.
Голова у деда дурная, на душе тошно, выпил много и натощак. Вот и понесло неискушенного старика, так, что после второго захода на горлышко он совершенно расслабился, почти разрыдался и рассказал участковому, что по молодости лет любил Надюху безмерно, мечтал жениться на ней, но она него решительно отвергла по причине прошлой его судимости. В результате всю жить промаялся с Веркой, родившей ему трех сынов. Один сын за «Родину-уродину» головушку сложил, второго «менты-скоты» за хобот прихватили, третий пропал в «черной дыре – неизвестно где». Ни деревни нет больше, ни радости никакой. И виновата во всем Надюха, и все ее кругломордные коммуняки. Потому как отказала ему в любви, потому как сгубили, сволочи, деревню, удушили трудовое крестьянство, одно отребье на земле перекатывается. Нет больше крепких хозяйств, некому растить на полях хлеб, некому Родину кормить. Был отец – молодец, всю деревню в кулаке держал, никому без дела сидеть не давал, да и того в Сибири сгноили. Пропала последняя опора, некому стало учить правильной жизни, вот и прожил лодырем – лоботрясом все свои годы, так что и вспомнить теперь нечего. Кончилась пустая жизнь, будто и не начиналась вовсе. Одно остается упиться вусмерть, потому как все надоело. Для того, что ли, войну воевали, колхозы лепили, детей рожали, чтобы потом загибаться в лесу, вдали от всего прогрессивного человечества.
Давно не встречал дед такого внимательного собеседника, давно не проявлял Василий Михайлович такого искреннего интереса к беседе. Не то задело его мелкое самолюбие пренебрежительное отношение к себе простого мужика, не то сработала общая, выработанная годами профессиональная подозрительность, только захотелось ему сотворить в ответ, по своему обыкновению, какую-нибудь гадость. Вошла в пьяную голову мысль, что неспроста селяне так спешно схоронили покойницу. Подлую натуру имел милиционер, недалекую, мстительную. Работать не любил, зато халяву хорошо чуял и фантазией особенной не отличался. А тут дело вырисовывалось живое. Виновников и искать не нужно. Вот он, сидит перед ним, кается. Припугни, надави и признается. Уже сопли во всю мотает. Решил участковый, что именно этот старик и замочил старуху. Тюкнул ночью топором по черепу, быстренько схоронил и концы в воду.
«Почему никто не сообщили о смерти? Дороги, говорите, нет? Так я же проехал. Врете, гады, – размышлял он, пока дед самозабвенно откровенничал, – Ишь рожа какая хитрая. Милицию не любит. И Верка его – стерва. Покрывает мужа. Наверняка старуха за жизнь иного денег скопила. Эти оба жадные. Вот и притюкнули. В отместку за то, что старуха на них доносы строчила. Все требовала прижучить самогонщиков. Денежки прихапали, а теперь жалятся. Но меня не проведешь. Жаль, оборвалась последняя ниточка. Кто теперь будет доносы писать? Как мы узнаем, что в деревне делается?»
– Жалко старушку стало? – спросил милиционер, прихлебывая из бутылки.
– Жалко, итить твою макушку, у пчелки, – ответил дед, – Себя, итить твою макушку, жалко. Как стали Надьку закапывать, чуть не расплакался.
– Каешься, значит?
– Каюсь, – кивнул головой Афанасий.
– Вот и правильно. Тебе это зачтется. Чем ты ее тюкнул?
– Эх, тюкнул… Кабы, итить твою макушку, еще разок тюкнуть… Мало она жизнь мне спортила, так потом еще и гнобила. Коммунизму, итить твою макушку, захотела. Я говорю, выходи, за меня, а она мне во, – показал дед участковому красный кукиш – Хочу, говорит, верховодить. На красной макушке сидеть. Пошел вон от меня со своей ходкой.
– Сидел, стало быть. По второй пошел, – прикинул мент, – Ну, и что?
– Не пара, говорит, мы… Забудь. Я ей, итить твою макушку… а она мне, итить твою макушку. Упертая. Не перегнешь. Светлый путь, говорит. А ты меня к печке? Забрало меня, затрясло – страсть. Обидно! Размахнулся, как дам ей, итить твою макушку…
– Топором?
– В морду.
– Один? Два раза?
– Она иак, итить твою макушку, и в траву повалилась.
– Ага.
– После того все, как отрезало. А-а, все одно… – махнул дед рукой, принял бутылку, приложился, – Думал, все коммунизмом покроет. А хрен вышел. Все боком. Все зря. Зря батьку сгнобили, зря крестьян побили, зря жизнь прошла… Вот, кем бы я был, итить твою макушку? Вот, кем бы я был! – сунул кулак в нос участковому, – Хозяином. Мужиком, итить твою макушку. А кем стал? Вот кем я стал, – плюнул в грязь под ногами, – Итить твою макушку… Кому это надо?.. Тебе?.. Ей?..
– Стало быть, старое вспомнил? За старое того… да? – догадался участковый.
– Схоронили – беда. Места себе не найду. Как вспомню, итить твою макушку, – тоска. За что, спрашиваю? Куда годы делись? Ничего, итить твою макушку, не осталось. Впереди бездна, пустота, мрак, – философски заключил старик.
– Значит, не отрицаешь, что виноват? – потер ладошки милиционер.
Уронил дед голову на грудь и слил по щекам слезы.
– Значит, добровольно сдаешься?
Афанасий только кивнул.
– Молодец. Давай руки, я тебя арестовывать буду, – участковый достал из кармана наручники и повертел ими на пальце перед носом разоблаченного преступника.
– Ты кто? – уставился осоловевшими глазами старик на расплывчатую физиономию чужого человека, словно впервые его увидел.
– Кто? – не понял милиционер, обернулся. Но третьего рядом не обнаружил, – Я?
– Ты.
– Донкин. Участковый. Арестовывать тебя пришел. За убийство, – пояснил Василий Михайлович.
– Кого?
– Что кого?
– Кого, итить твою макушку, тебя звал? Уйди. Мне плохо, – отмахнулся дед.
– Ты, мужик, на меня не обижайся. У меня работа такая. Ты убиваешь. Я арестовываю. Давай ласты, клеить буду. Отдай бутылку. В принципе, я тебя уважаю. Ты молодец. Самогонку варить умеешь. Не то, что эти в Селках, губошлепы. Такое пойло… башка трещит, – участковый забрал бутыль, глотнул из горлышка, блаженно зажмурился, ощущая приток живительной влаги, – Забористая. Ценю… Эх, в баньку бы сейчас… – на этой фразе голова его тихо поехала в сторону и он медленно стек с неудобной лавочки на теплую мягкую землю.
Мысль медленно погасла в гулкой голове, и глубокий сон объял истомленное трудной дорогой тело работника милиции.
* * *
– Итить твою макушку, – оценил результат Афанасий, озирая блуждающим взглядом вокруг родной двор, – Был человек, нет человека. Куда делся? Вот он! Откинул тапочки. Итить твою макушку, это же мои тапочки. Верка! Верка! Это мои тапочки!
– Господи, Василий Михайлович! Что это с ним? – выбежала на крыльцо Вера Сергеевна.
– Это мои тапочки, – поднял с земли кожаные шлепки Афанасий, – Итить твою макушку! Он их спер. Верка, мент тапки спер.
– Да не спер. Я дала, – пояснила супруга, поспешно подбегая к участковому, – Василий Михайлович, что с вами? Вы меня слышите?
– Может это и Василий Михайлович… а тапочки мои, итить твою макушку, давать не надо. Зачем? Может он больной. У него может грибок. Как я одену?
– Дались тебе тапочки. Старые это тапочки. Ты их давно не носишь. Брось, пакость всякую, – завертелась вокруг хозяйка, – Давай, поднимай его. Опять нализался! Ну, что ты с ним будешь делать!? Вот что теперь делать? Вот, сволочи, же вы какие! Опять упились, черти лохматые! Одна морока мне с вами. Откуда бутыль взял? Она для тебя припасена, что ли?
– Давай жрать, Верка, итить твою макушку.
– Щас. Жрать тебе. Бери его, говорят.
– Кого? Этого. Кто это, итить твою макушку? – наклонился старик, чуть не падая следом, – Это он пистолетом махал? А если бы стрельнул? Если бы глаз выбил? Слепым ходить? Видала, какой о… – поднял старик вверх указательный палец, – Арестовывать, итить твою макушку, пришел.
– Тебя? За что? – встрепенулась супруга.
– За Надьку. Слыхала? Я ей, итить твою макушку, по морде дал.