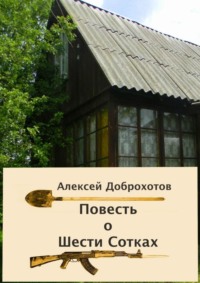Полная версия
Темное Дело
Чего нельзя было сказать о соседе напротив, слева от двери. Тот не упускал случая навязать каждому свое общение. Все в палате звали его не иначе как Афоня. Он относился к той части безработного населения, которая к труду особенно не стремится, промышляет случайными заработками и питает неискоренимую страсть к алкоголю, от коей, видимо, и пострадал, получив многочисленные ушибы внутренних органов и потеряв три передних зуба на нижней челюсти незадолго до поступления в больницу Ивана Моисеича.
Рядом с ним располагалась койка Степана, безголосого, тихого, по сути деревенского, прижимистого мужика, сорвавшегося с крыши своей дачи, где он осуществлял кровельные работы. Перлом голени левой ноги не мешал ему при помощи костылей довольно проворно перемешаться по палате и совершать более дальние вылазки к дежурному посту и в столовую.
Далее следовала койка Федора, а за ним лежал Михаил – еще один тяжело больной, уже довольно-таки давно обитающий в этой палате. Работая грузчиком, ему отдавало ступни ног слетевшим с такелажа контейнером. Себе на уме, немного угрюмый, явно ранее судимый он обладал большим влиянием на придурковатого молодого Федора. Запахи от Михаила исходили не менее приятные, чем от Василия, но это не ставилось ему в вину, и все охотно соглашались с тем, что отсутствие возможности умыться в жаркую погоду является недоработкой, прежде всего, лечебного учреждения. Правда, Михаил пытался преодолеть эту проблему при помощи дешевых дезодорантов. Но это только усугубляло ситуацию и усиливало парфюмерными примесями и без того сильные ароматы.
Иногда, не чаще одного-двух раз в неделю, не более чем на три-пять минут Михаила навещала его совершеннолетняя дочь Ольга, высокая стройная девица с огромными черными глазами и вольной прической. Каждый раз при её появлении Федор начинал нервно ерзать и почесываться, а нахальный Афоня без умолку отпускать плоские, пошлые шутки, естественно не в ее адрес, но по поводу, главным образом, своего грустного одиночества. Обтянутые джинсами длинные стройные ноги и выпирающая из-под кофточки упругая, пухлая грудь порождали такие волнительные фантазии на вечную тему, что невольно хотелось распушить хвост и проклокотать призывную песнь любви.
«Леша непременно бы на карачках за ней ползал», – почему-то подумал Иван Моисеич. Ему всего два раза не долее пяти минут удалось лицезреть это творение Природы, но и этого вполне хватило, чтобы в полной мере осознать собственную ущербность. Особенно при данных обстоятельствах, столь унизительных и недостойных, угнетающих душу и без того ущемленную холодной безучастностью казенной обстановки.
* * *
Иван Моисеич не любил больниц. От них веяло безысходностью и моргом. Он не любил людей в белых халатах, завешивающих ими свою индивидуальность. Закрывшись колпаками, очками и масками они расчленяли пульсирующую плоть и ставили странные химические опыты, пытаясь угадать, какой препарат вызовет меньше вреда при устранении обнаруженных симптомов заболевания.
Еще он не любил пролетариат. Он не понимал простых людей и никогда не знал о чем с ними можно поговорить. Они казались ему некими иностранцами, людьми с другой планеты, дикими аборигенами острова Тумба-Юмба, говорившими на ином языке и живущими по своими, не известным ему, правилам. В их присутствии он терялся, стесняясь проявить свои лучшие качества, опасался оказаться осмеянным, боялся нарваться на непонимание и животную грубость. Поэтому вынужденное пребывание в больничной обстановке и навязчивое присутствие в палате многочисленных представителей данного сословия с первого же дня сильно досаждало ему. И с каждым днем это тягостное ощущение только усиливалось.
В то же время соседи по палате, после активного вмешательства Сони в вопрос выдворения бомжа Василия, в большинстве своем прониклись определенным уважением к интеллигенту, случайно залетевшему в их общество. Они быстро пристроили к нему кличку «Ботаник» и особенно не прерывали его молчаливого уединения особенно в тех случаях, когда рядом не находилось деятельной супруги. Это позволило Ивану Моисеичу предаться некоторому осмыслению случившегося с ним странного происшествия, найти убедительное объяснение которому он так и не смог, несмотря на все прилагаемые к этому возможности своего потрясенного сознания.
Странная происшедшая на его глазах трансформация не укладывалась в рамки ни одного из известных ему законов природы. Несомненно, он находился под каким-то воздействием, но под каким? Если бы он хотя бы до этого пригубил налитый чай, то тогда можно было бы предположить, что имела место ответная реакция организма на некое подмешанное в напиток вещество, повлекшая за собой мощный выброс психической энергии, заслонивший обыденное сознание. Иначе просто не могло быть. Иначе никакая сила не заставила бы его накинуться на пожилую, незнакомую женщину и произвести с ней постыдное совокупление. Причем, вот так, неистово, без перерывов, подряд, что совершить в нормальном состоянии он ни за что не смог бы без известного окончания данного процесса, случавшегося с ним всякий раз, как только стоило ему произвести больше десятка энергичных движений.
Но такого вещества не было. Во всяком случае, с чаем оно не могло попасть в его организм, ибо чая выпить он так и не успел. Следовательно, можно предположить, что имелся иной способ воздействия или иное время. Он помнил, что сидел на диване напротив окна. Вошла Аня с подносом в руках. Он помнил эти фарфоровые чашки и вазочки с мелкими голубыми цветочками… Она села рядом. Он наклонился, убирая портфель на пол… Да, именно так. Портфель находился у него в руках и мешал. Поэтому он поставил его на пол, рядом с диваном. И тут, его охватило страшное желание.… Или это желание возникло раньше и он только ждал ее прихода?.. Конечно. Желание возникло значительно раньше. Именно поэтому он и держал портфель на коленях, прикрывая им свое страшное, неестественное возбуждение. А когда вошла Аня, то он просто больше не смог сдерживаться.… Но тогда, откуда возникло это желание? До того как он попал в эту комнату?.. А как он вообще туда попал?.. Этого он вспомнить не мог. Как не мог вспомнить, откуда появилась та, вторая женщина? Прямо под ним… Безумие…
«Неужели я превращаюсь с маньяка? – думал Иван Моисеич, – Неужели у меня проявляется раздвоение личности? Я становлюсь опасным для общества. Никогда не мог предположить, что со мной может подобное случиться. Значит, мне необходима психиатрическая помощь?»
Последнее предположение многое разъясняло в его странном поведении, и он стал постепенно склоняться в пользу данной версии, хотя признавать себя психически нездоровым сильно не хотелось. Против этого протестовал отточенный ум, привитое воспитание, взращенная культура и душа явно не соглашалась с несправедливым обвинением в своей ущербности. Не таков он был человек, чтобы опускаться до такого низкого состояния. Однако никакого иного вразумительного объяснения, пока, не находилось и этот феномен продолжал оставаться неразгаданным и мучить Ивана Моисеича своей фантастической нелепостью.
* * *
К четвертому дню пребывания в больнице Ивану Моисеичу стало значительно лучше. Мысли о странном происшествии постепенно сменились новыми сюжетами из больничной жизни, гораздо более близкими его избитому телу, чем отдаленные страдания потрясенной души. Тем более, что все темы разговоров в палате так или иначе вращались вокруг еды и здоровья, иногда перескакивая с вонючего бомжа на женщин, столь необходимых здоровому мужскому организму, по большей части, в своем прикладном значении. Обычно под конец этих бравад Иван Моисеич отмечал, что если бы не сомнительный возраст некоторых его партнерш, то он мог бы всем этим молодым жеребцам дать сто очков форы. Это даже забавляло. И все случившееся обретало некоторое юмористическое звучание.
Каждое утро около восьми часов с побудкой являлась медицинская сестра и рассовывала всем холодные мокрые градусники. Минут через десять забирала их, и начинался очередной больничный день с привычными процедурами, уколами, приемами лекарств, пищи и посетителей. Новый виток монотонного больничного бытия ненавязчиво засасывал трясиной глупых разговоров, пошлых шуток, плоских голосов телеведущих, агрессивных звуков рекламных роликов.
Иногда в палату случайно заходил доктор, в основном осведомиться относительно состояния здоровья Михаила. К его излечению он применил какой-то новый метод сращивания костей.
– Беспредел доктор, душилово, – тут же эмоционально восклицал Федор, указывая пальцем в сторону бомжа, на что доктор с неизменным спокойствием отвечал:
– Всему свое время. В морге запах значительно хуже, – и тем прекращал эту бесполезную дискуссию.
Обычно дольше одной-двух минут он в палате не задерживался, если конечно не приходил с утренним обходом в сопровождении стайки молоденьких практиканток. Это было самое любимое развлечение для большинства больных. Они с удовольствием демонстрировали молодым девушкам свои повреждения, лукаво подмигивая и недвусмысленно намекая на то, что главный орган совершенно не пострадал, и сейчас находится в отличном, работоспособном состоянии. После их ухода не меньше часа перемывались косточки каждой студентки, в деталях обсуждались все ее достоинства и недостатки. Если же какую-нибудь удавалось смутить, то это вызывало полный восторг и ее долго вспоминали, сопровождая скабрезными шутками и пошлыми фантазиями.
После завтрака все переключались на процедуры, обсуждение своих болячек и больничных новостей, услышанных в процедурных кабинетах. Затем снова следовала еда, подаваемая с обедом и плавно перетекающая в жвачку, выплескиваемую с экрана телевизора. Это техническое приспособление оказалось настолько незаменимым и универсальным, что позволяло не только заглушать стоны ненавистного бомжа, но и давало богатую пищу новым бессмысленным разговорам, где каждый имел возможность вынести собственное суждение, самоутвердиться, проявить свою значимость, осведомленность и культуру.
В беседах возле телевизора время медленно подползало к ужину.
Иван Моисеич по возможности в разговорах участия не принимал. В местной больничной публике он видел по большей части людей случайных, не своего круга и поддерживать с ними отношения в дальнейшем не намеревался. Со своей стороны, они также, практически, не стремились вовлечь его в свою компанию, воспринимая как человека чужого и замкнутого. Но и не стеснялись его присутствия, обсуждая иной раз сокровенные интимные подробности своей личной жизни. Их имена Иван Моисеич специально не запоминал, а если какое и оставалось в памяти, так без особого труда с его стороны, как необходимая дань кратковременному знакомству. К их разговорам он также особенно не прислушивался, так как в основном они вращались в различных вариациях вокруг собственных болячек, еды, женщин и политики. При этом особенно любимым сюжетом оказалась именно политика. Ивана Моисеича удивляла незлобивая простота этих людей и оценка любых политических событий через призму прямой кишки. Если какое-либо решение не увеличивало нагрузки на пищеварительный тракт, то, соответственно, кто-то непременно прикарманил себе бюджетные деньги. А так как практически ни одно решение не влекло за собой приращения кормовой базы, то это только укрепляло убеждение в том, что государство устроено несправедливо, что им управляют одни воры, которые всегда будут там заправлять, потому что политика сама по себе дело грязное, и честному человеку, радеющему о пользе простых людей, делать в ней нечего. Они даже не допускали возможности каких-либо перемен к лучшему и полагали, что так мир устроен и так всегда будет.
– Петрович, барбухайку переключи, базар фуфлометов замучил, – ворчал Федор, слушая очередной репортаж из Государственной Думы, – Народ обнесли, теребиловкой обложили, телегу гонят, уши вянут.
Петрович щелкнул пультом. На экране замаячила взлохмаченная дама, изливающая потоки благодарности некоему Василию Кузьмичу.
«Благодаря доброте и щедрости Василия Кузьмича, – скороговоркой вещала она, – Наш детский дом сможет приобрети необходимые детские вещи. Эти деньги так необходимы особенно сегодня, когда государство не имеет возможности в полной мере обеспечивать нас финансированием».
На экране показалась ведущая и смущенное лицо этого Василия Кузьмича.
«Скажите, Василий Кузьмич, – обратилась к нему ведущая, – Не жалко вам расставаться с вашим выигрышем? Что на это сказали ваши родственники?»
«Да что там, – махнул рукой Василий Кузьмич, – Сначала ругались, конечно. Но я так решил. Они все при деле. Денег хватает. А мне на что? А детишкам какая ни на есть помощь».
«Вот так, благодаря бескорыстности наших людей можно рассчитывать на то, что детские дома смогут выстоять в эти тяжелые для них дни. Мы благодарим пенсионера Василия Кузьмича пожертвовавшего детскому дому двести тысяч рублей, выигранные им в лотерею „Русское лото“».
– Во, бабахнутый бабай, – возмутился Федор, – Тут как Карло за каждый боб на трех балабузов горбатишься. Телке манто к зиме не отмазать. А он такие бабки скинул. И все похрен.
– Да, так деньгами швыряться… – вздохнул Егор Петрович, – Мне бы такое выпало.… На что я теперь гожусь, без трех пальцев? Они меня всю жизнь кормили. Какой я теперь мастеровой? Инвалид я теперь. На пенсию жить буду.
– Теперь ты, батя, нищий, с такой клешней, – поддержал его молодой рабочий.
– Ой, что делается на свете, – покачал головой Степан, – Мне бы эти денежки… Земли бы взял… Трактор купил… Сарайчик построил.… И на прицеп осталось бы…
– Я бы на них три года жил, – вздохнул Афоня.
– Это сколько можно было бы водки купить… – протянул Михаил.
– Ё, моё! – хлопнул себя по лбу беззубый тунеядец, – Вагон!
– Мозги парят. Бабай этот – безмена батон, верняк. – предположил Федор, – Лучше бы богадельню бичам замандрячил. Не пришлось бы всех в одной хате душить.
– Теперь все равны. Демократия, – съязвил Афоня.
– Дерьмократия, – поправил бывший уголовник с отдавленными стопами.
– Дерьма кругом столько ступить негде, – проворчал старый рабочий.
– Зафига всех в одну хату пихать, – взвился молодой, – Бичей отдельно держать надо – на зоне. Им тут не место. Я вот не могу жить на аске и ботлах, тусоваться с синяками и охотиться на бекасов. Для меня это театр карликов. Мне надо тачку, дачку, денег пачку. Вот это атас. Я воркаю как Карло, эксклюзив штампую. За мной три толстых балабуза ползают. Друг у друга переманивают. А он бич пустой, коцаный. Если я воркаю, хату имею, герлу с короедами, то у меня и прав должно быть больше, чем у него, который, шарится по помойкам. Если они живут за мой счет, то и зависеть должны от меня, а не решать вместе со мной, как равные мне, – выпалил Федор и сам удивился стройности своей мысли.
– Интересное суждение, я бы даже сказал оригинальное, – подколол Михаил, – Тебе Федор в депутаты идти надо. Ты бы произвел на общество большое впечатление.
– Сам иди в фуфломёты. У меня от их базара зубы сводит, – отмахнулся тот.
– Вот раньше, бомжей в тюрьму сажали. За тунеядство. И правильно делали, – заметил Егор Петрович.
– Это когда же? – оживился молодой пролетарий.
– При нормальной власти. При коммунистах, – пояснил Егор Петрович.
— Вэри клево, – согласился Федор.
– При коммунистах вообще все было правильно. Рабочий человек имел полное к себе уважение, получал за свой труд справедливо, – уточнил старый рабочий, – В больницах был порядок, надлежащий уход и питание. И вообще, общество было единым, целеустремленным, без всяких там опереточных партий и политических движений.
– А кто был не согласен со светлым будущим и не горбил на благо коммуняк, того шлепали, – поправил бывший уголовник, – Народу перегрохали больше, чем за все войны вместе взятые.
– Глупости и демократическое вранье, – возразил Егор Петрович и насупился, вперив взор в мерцающий квадрат телевизионного экрана.
– Заколбасить бича, клево, – мечтательно протянул Федор. – Достали, до блева. Утром продерешь глаза, а за окном бичи уже телевизоры свои из бачков наводят. Вечером наворкаешься, хиляешь до барака в тоске, в лабазе точива короедам нароешь, в коробочке весь аул едет, еле встиснешься, не продохнуть, а бич блевый притиснется и дует в торец. Так и заколбасил бы гада, да качуматор не позволяет. Бичей стало как грязи. – Федор в сердцах сплюнул на пол, но поймал на себе осуждающий взгляд Михаила и тут же извинился, нагнулся и стер ладонью плевок с линолеума, после чего грязно выругался и направился к умывальнику.
И словно вдогонку его мыслям бомж Василий громко застонал и произвел громкий и продолжительный звук, явно свидетельствующий о его нездоровом пищеварении.
– Простите, мужики… Не утерпел, – облегченно вздохнул он.
Едкие пары сероводорода накрыли разгоряченное сознание молодого рабочего и достигли даже самых отдаленных уголков палаты.
– Западло… – оценил Михаил возникшую ситуацию.
— Замочу падлу, – выпалил Федор, хрустнув сжатыми кулаками.
– Мужики, простите… Живот пучит… Сил нет… – извинился Василий.
— Няньку звать надо. Ща обгадиться, – сообразил Афоня.
– Не успеет, бичара, – сквозь зубы процедил пролетарий, угрожающе надвигаясь на Василия с явным намерением один ударом покончить с ненавистным соседством.
– Изнемогаю.… Разваливаюсь… Больно… – застонал Василий, – Жить больно… Терпеть больно… Хоть убей меня… Все одно – помирать… Простите, мужики… Доконали лепилы… Просил, не старайтесь.… Бросьте у дороги… Скорее бы помер… Так нет… Опыты стали ставить… Сволочи…
– Ишь распелся, бомжара. Нагадил, теперь извиняется. А нам нюхать, – подначил Афоня.
– Жизнь кончена… – продолжал бомж, – Говорить больно… Изломан весь… Гнию… Не мучай меня, Федя… Бей… Ты сможешь… Отпусти душу мою… Намучился я… Терпеть, сил больше нету… Так что… помирать больше не страшно… Совсем не страшно… Я хочу… А она медлит… Все ждет.… Поторопи ее, Федя…
Федор завис над Василием с занесенной над ним кувалдой рабочего кулака в полной нерешительности, что ему делать. Если бы проклятый бомжара визжал от страха и молил о пощаде, то он бы ни на минуту не задумываясь вломил бы ему по морде с полным своим наслаждением. А так, выходило, будто он идет у него на поводу, выполняет, можно сказать, его желания, делает ему одолжение, почти подарок, чего допустить со своей стороны он никак не мог. Эта оказывалась уже не победа, а вроде как, поражение, как признание его превосходства над собой, в общем полная ерунда.
– Что медлишь?.. – стонал Василий, – Не бойся.… Стукни разок… посильнее… Ты сможешь… Будь другом…
– Да, пошел ты… – выпалил окончательно обескураженный мужик и смущенный отошел от его койки.
– Больно, мужики, очень… – вздохнул переломанный, – Стой… На что бросил?.. Трус ты… Федя… Горлопан… Хуже Афони… Тот трезвонит, а ты обнадеживал…
– Да я тебя… – взвился снова молодой рабочий, но былой запал уже стух и он снова обвис, понимая, всю бесполезность дальнейшей дискуссии.
– Нянечку звать надо, – повел носом Афоня, явно улавливая новые нехорошие запахи, исходившие от койки больного.
– Не стерпел, мужики… обделался, – признался тот, – Не гожусь для жизни… Ни на что больше… не гожусь… По кускам склеен… Разваливаюсь… А этот… мучитель… трус… трепач… пустомеля…
– Заткни варежку, бичара, – огрызнулся молодой рабочий.
– Тошнот тощий… – напирал Василий, надеясь еще раз раззадорить противника, но авторитетный Михаил тихо срезал:
– Проглоти аскарбинку, сядь и усохни. Пускай треплется.
Федор опустился на койку и, сверкнув глазами, матерно выругался:
– Еще посчитаемся, – в завершении процедил сквозь зубы.
– Серьезные дела с наскока не делаются, – молвил бывший уголовник.
– И что делать будем? – выскочил вперед Афоня, – Нянечку звать будем?
– Ну, не рудой задыхаться? – ответил Михаил и тот поскакал по коридору в поисках медицинского персонала.
– Опять… день спортил, – простонал Василий и полностью обессиленный, ушел в очередную отключку.
– Оставьте мужика в покое. Не по-христиански это, – заключил Егор Петрович.
– Вот как? Коммуняки уже в Христа верить стали? С каких это пор? – съязвил бывший уголовник.
– Одно другому не помеха, – возразил старый рабочий, – Вся идея мирового коммунизма на христианстве основана. Одни корни имеет.
– Стало быть, конкурентов своих устраняли, когда попов к стенке ставили? – подколол Михаил.
– Перегибы во всяком деле случаются. Ошибки признали. И хватит об этом, – отрезал Егор Петрович. – А над человеком нечего измываться. И без того битый.
– Жалостливый какой. Доходягу жаль стало. Тебе бомжей на улице мало? – возразил бывший уголовник.
– Я ему не судья. Я ему и не палач. Сам жил как знал, сам пусть и помирает, как знает, – заключил Егор Петрович.
– Так, он, гад, воняет, – не выдержал Федор.
– Вонь – не огонь, терпеть можно, – поддержал Степан старого рабочего, – Раз дело такое, что без вони нельзя, то можно и потерпеть. Поди, не отравимся. Лично я человек не гордый. Раз он такой больной, что без вони никак ему не прожить. Не нарочно же он воняет. Болезнь такая. Значит, так надо. Человек без вони не может. Организм, понятное дело, воняет, если он не здоров. На то она и больница. Я так понимаю. Лично у меня других забот много. Мне дом ремонтировать надо. А я тут лежу, как дурак, без дела. У меня сад без ухода оставлен. Лето в разгаре. Поливать надо. Как без меня жена управиться? Дети помогут?.. Что им, до наших земельных пустяков.
Михаил не стал больше обсуждать этот вопрос, закрылся газетой и ушел в изучение криминальной хроники.
К Ивану Моисеичу в очередной раз пришла жена, изрядно взволнованная и с большой порцией свежих фруктов. Народ тут же воткнулся в телевизор.
– Представляешь, дядя Яков, брат жены дяди Бори, едва не сошел с ума, – выпалила она, едва переступив порог палаты, сразу переключив на себя внимание всей присутствующей публики, – Он был у нас три дня назад, проездом. Он, вообще, в последнее время, много ездит. Ты помнишь дядю Якова?
Она высыпала содержимое пакета прямо в раковину, пустила мощную струю холодной воды и села рядом на стул, отдышатся.
– Честно говоря, нет, – болезненно сморщился верный супруг, но получив дежурный поцелуй в щеку, вынужденно улыбнулся.
– Я тебе про него рассказывала. Он врач. У него своя клиника в Саратове. Вспомнил? – она встала к раковине и стала мыть фрукты.
– У тебя много родственников.
– Так вот, этот самый дядя Яков проездом остановился в нашем городе. И остановился, где бы ты думал?
– Видимо у дяди Бори.
– Нет. Совсем не у дяди Бори. Если бы он остановился у дяди Бори, то с ума сошла бы тетя Лиза. Он остановился в гостинце «Адмиралтейская».
– Какой удар родственникам.
– Ты напрасно смеешься. Ты еще ничего не знаешь. Так вот, дядя Яков остановился в гостинице «Адмиралтейская». Ты представляешь, какой это отель? Какой сервис, какой уровень. Какие цены! Ему дали роскошный номер. Не потому, что дяде Якову некуда девать деньги. Дядя Яков вынужден был так сделать потому, что он уважаемый человек. Он приехал на симпозиум. На какой-то важный симпозиум каких-то там врачей, который проходил в этом отеле. Он лег спать. А что ему еще ночью делать с дороги, как не лечь спать. И, вдруг, ночью к нему в номер врываются милиционеры. Много милиционеров. Десятка два милиционеров. Все с пистолетами. И все ищут дядю Якова. И где бы ты думал, они его находят?
– В кровати. А где же еще может быть ночью дядя Яков?
– Нет, совсем не в кровати. Они находят его на карнизе, за окном, на карнизе четвертого этажа этой самой гостиницы. И, представь себе, в одной пижаме. И это вовсе не шутка, – Соня вывалила на одеяло мокрую кисть красного винограда.
– Может быть, он получил счет из ресторана? – пошутил Иван Моисеич.
– Ты напрасно смеешься. Он был в одной пижаме, на карнизе четверного этажа и один Бог знает, как он оттуда не сорвался.
– Может быть, он решил прогуляться?
– Я вот тоже знаю один случай про лунатика… – попытался включиться в разговор тунеядец Афоня к этому времени вернувшийся в сопровождении двух санитарок с большой охапкой сомнительно чистого постельного белья. Соня, не любила когда ее перебивают, особенно посторонние, мало знаковые ей люди и потому сурово и бескомпромиссно отрезала:
– Если бы дядя Яков захотел прогуляться, то он вышел бы на улицу, как это делают все нормальные люди, – она сунула Афоне в руку здоровенное яблоко, дабы тот заткнулся и больше не прерывал ее, и продолжила, – Он вовсе не лунатик, как думают некоторые. Он совершенно нормальный человек. Он врач и все свои болезни знает лучше кого бы то ни было. У него своя клиника в Саратове. И вдруг такое… Он просто был вне себя. Он ничего не мог понять. Это было, как сон. Можно было подумать, что он сошел с ума.
– Видимо не все свои болезни он знает одинаково хорошо, – вставил Иван Моисеич, отщипнув очередную виноградинку и отправляя ее в рот.