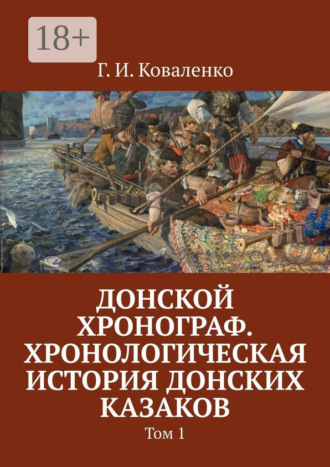
Полная версия
Донской хронограф. Хронологическая история донских казаков. Том 1
Для усмирения казаков, оставленных в прошлом году на Волге, для несения государевой службы, но ограбивших русских купцов, царь отправил из Казани, в район самарского устья, сильный отряд сына боярского Степана Кобелева. В район Переволоки был послан атаман Ляпун Филимонов, с наказом истреблять воров, нести сторожевую службу и сопровождать караваны судов. Однако это была капля в море. У Москвы просто не хватало служилых людей для того, чтобы контролировать 1500 вёрст великой реки, а развитие на Волге торговли, судоходства и рыбных промыслов, и влекли к себе как магнитом разбойные казачьи ватаги, которые объединяясь друг с другом, уже могли не бояться и государевых ратных людей. К тому же, как уже говорилось выше, казаки атамана Филимонова, отказались громить своих собратьев и сойдясь в Круг, расправились со своим предводителем.
Особенно сильно страдали от казачьих набегов перешедшие в русское подданство нагайские улусы: «нагаи пришли в ужас, не знали, где деваться, боялись потерять жён и детей своих, ожидая неминуемой гибели». (Сухоруков) Нагайские князья продолжали беспрестанно жаловаться царю и его служивым людям: « … Урус де князь не гораздо чинит: от государя отставает и хочет со государем завоеваться и послов государских переграбил, а только государь велит де казаком у нас Волгу и Самар, и Яик отняти, и нам де на сём от казаков пропасти, улусы наши и жён и детей поемлют, и нам гдеся дети (деться)». Впрочем, здесь следует отметить, что так называемые «мирные» нагаи, давшие шерть (клятву) на верность Москве, были таковыми номинально и при каждом удобном случае сами грабили русские украины, и уводили в полон население, обвиняя во всех грехах «не мирных нагаев».
После смерти князя Измаила, сдерживавшего своих подданных от разбоев на русской стороне, его приемник стал смотреть сквозь пальцы на их набеги. А потому, для удержания нагаев в повиновении и страхе перед Москвой, казаки были как нельзя кстати. На требование нагайских князей и мурз свести всех казаков с Волги, в посольском приказе жёстко отвечали: «Государь сыскав виноватых, с Волги казаков сбить велит и жить им вперёд не велит наВолге, а которые не виноватые, и тех с Волги за што сводить? А их (нагайских мурз) люди перевозившие за Волгу, да вместе с крымскими людьми ежегод приходят на государеву украину войною; да сего лета их нагайские люди, вместе скрымскими людьми и з Дивеевыми детьми и неодино приходили на государевы украины войною и многие убытки поделали, и они б вперёд своих людей уймали».
Жаловались на «мирных» нагаев, совершавших грабительские набеги, осёдлые жители поволжья и сами казаки, страдавшие от набегов степняков: «А то нам ведомо: украйны кодомские, и темниковские, и мацкие, и алаторские, и курмышские, и свияжские, и тетюшанские, все горние стороны, и казанские люди, и донские, и волжские, и астраханские казаки, за свои досады нам беспрестанно бьют челом, чтоб нам освободить ваши улусы, против воевать, что им от ваших нагайских людей и многие тесноты и убытки составляются, и мы, своих досад таких от ваших нагайских людей не помятуя, а помня к себе крепкую любовь и дружбу отца вашего Исмаила князя, тем всем людям заказ свой царской крепкой учинили».
***
1558 г. Начавшаяся война с Ливонией, требовала бесстрашной казачьей конницы, и Иван Грозный прислал на Дон грамоту, в которой призывал казачество на войну, суля донцам жалованье и долю в военной добыче. Несколько сотен «охочих» казаков, во главе с атаманом Заболоцким откликнулись на призыв царя, и ушли в далёкий поход. Прибыв на театр военных действий, они находились под командой князя А. Курбского и осаждали Дерпт. Кроме этого, они совершили несколько опустошительных рейдов по тылам противника, нарушая коммуникации и разоряя селения и хутора.
Между тем, на Дону, год выдался жаркий. Зимой 1558 г. хан Давлет Гирей, «умысля злое христианству», зализав старые раны и казнив мятежных мурз, собрав 100 тыс. войско из крымцов и нагаев, вновь двинулся на Русь. В поход хан послал своего сына Магмет Гирея, князей и мурз крымских, мурзу Дивея с братьями и пришедших к нему мурз Большого Нагая.
Разделив орду на три части, он стремительно двинулся вглубь государства. Сын его, Магмет Гирей пошёл на Рязань, уланы Магмеда к Туле, а нагаям и князьям ширинским к Кашире. Но у р. Мечи, узнав от пленников, что царь, вопреки ожиданиям, находится в Москве, гетман Вишневецкий в Билёве, а воевода Шереметьев в Рязани, с отборным войском готовится отразить татарское нашествие. Давлет Гирей приостановил движение своей конницы. Известие о сильных полках князя Воротынского, стоящих у Тулы, заставило хана вовсе оказаться от первоначальных планов. Видя, что его везде ждут и готовы сразиться, Давлет Гирей не дерзнул идти дальше и повернул орду назад, спешно отходя к Крыму. Князь Воротынский, истребляя и пленяя бегущих татар, «шёл по трупам».
Тем временем в Бахчисарае шли переговоры о заключении мира между Россией и Крымом. Давлет Гирей заверял русских послов в дружбе, ссылаясь на посылку своих войск в поход на Литву и предлагал заключить мирный договор. В обмен на это он требовал от России выплаты поминок. Но в Москве этим заверениям не верили и в начале 1558 года, царь Иван отправил князя Вишневецкого на Днепр с пятитысячным отрядом, приказавши черкесам и донским казакам, помогать ему с другой стороны.
Война в Ливонии продолжалась и в след атаману Заболотскому с Дона, в Прибалтику ушёл атаман Михайла Черкашенин с более чем двумя тысячами казаками. Их общая численность в Ливонии достигла 3000 человек. Появившись здесь, донские казаки покрыли себя славой в боях с немцами «оказывая чудеса храбрости». Так при осаде Шмильтена « … казаки наши разбили ломами каменную стену его и долго резались в улицах с отчаянным неприятелем». Россияне брали пушки, колокола, запасы; предавали огню всё, что не могли взять с собою, истребили, таким образом, одиннадцать городов; три дня стояли под Ригой, сожгли множество кораблей в устье Двины, опустошили её берега, приморскую землю, Курляндию до Пруссии и Литвы». Полк атамана Заболотского отличился при осаде Дерпта и в рейдах по Ливонии.
***
1559 г. Чтобы крымский хан не успел опомниться и собраться с силами для нового набега на Русь, Иван Грозный отправляет гетмана Вишневецкого на Дон, дав ему 5000 детей боярских, стрельцов и казаков, велев ему идти судами на Азов и оттуда воевать Крым, соединившись с черкасскими князьями. Со стороны Днепра, к Крыму, двинулся известный своим мужеством окольничий Данило Адашев.
Начиная большую войну с Крымом, царь хотел заручиться поддержкой нагаев, ещё не принявших чью либо сторону. Для склонения мурз к союзу с Москвой, царь отправил в Орду своего посла Елизара Мальцева. Предвидя, что мурзы будут упрекать посла в казачьих разбоях, Мальцеву было приказано отвечать: «А которые казаки (донские) воровали, послов и гостей грабили, и лошадей у вас крали, и людей били, и государь наш тех казаков казнил; а иные от государя нашего забежали в Азов и Крым». Однако, не смотря на это, ни где в русских источниках мы не находим сведений о том, что царь отправлял войска на Дон, для усмирения буйной вольницы. Скорее всего, царь только демонстрировал перед нагайскими князьями свою непричастность к воровству донцов и решимость с ними бороться.
Часть нагайских мурз, уцелевших после неудачного восстания против хана Давлет Гирея, вновь подняли свои головы, желая ему отомстить. Начав военные действия против Крыма, они отправили Ивану Грозному грамоту, в которой просили царя о помощи и союзе против общего врага. Желая помочь нагаям, царь отправил на Дон грамоту, призывая казаков действовать заодно с нагаями, отвлекая на себя часть сил Давлет Гирея.
В апреле донские казаки, соединившись с черкасами гетмана Дмитрия Вишнивецкого и черкесами князя Канокова осаждали и штурмовали Азов, но неудачно. Впрочем, турецкий султан так не считал, и в своей грамоте к нагайским мурзам писал, что казаки Ивана IV отняли у него «поле все, да и реки, да и Дон», блокировали торговый Азов и принудили город к оплате оброка.
Той же весной 1559 г. объединённые войска донцов и нагайских мурз двинулись к Перекопу, где кочевали отколовшиеся от Орды улусы и ставшие под руку Давлет Гирея. Однако те, уже знали о предстоящем походе от перебежчиков и сосредоточились у Перекопа, ожидая удара. Но казаки и ордынские нагаи на голову их разбили и обратили в бегство. Беглецы спаслись в Крыму, где сели в осаду за перекопским валом. Но донские казаки не собирались класть свои головы в кровавом штурме этого укрепления. Отбив 15 тыс. лошадей и множество другого скота, они двинулись с союзными им нагаями вдоль побережья, громя владения крымского хана, истребляя татар и освобождая русский полон в улусах по Ингулу и Бугу. Достигнув Белгорода и Очакова и взяв огромную добычу, толпы пленных; особенно женщин и детей, казаки и нагаи двинулись на Дон.
Они беспрепятственно миновали Перекоп, защитники которого, напуганные действиями казаков и их союзников, даже не предприняли попытки отбить угнанный скот и пленников. Вернувшись из набега, казаки и нагайские мурзы отправили в Москву своих послов, которые были благосклонно приняты царём и боярами, и одарены за свою службу богатыми подарками. Сверх этого, атаманам и казакам, государевым указом было позволено беспошлинно торговать в русских городах, а на Дон было отправлено государево жалованье, за верную службу. Нагаям же, согласно их просьбе, было позволено кочевать между Доном и Волгой.
Тем временем окольничий Данила Адашев с 8000 детей боярских, стрельцов и донских казаков, сев на суда вблизи Кременьчуга, беспрепятственно спустился в Чёрное море, где захватил 2 турецких корабля, и тот час устремился к берегам древней Таврии, и высадился на западном побережье. Там он в течении 2 недель «жёг юрты, хватал стада и людей, освобождал российских и литовских невольников». В Крыму началась паника; улусы пустели, а жители их убегали в горы, ища спасения в непреступных местах. Ни кто не откликнулся на призыв хана; он «звал воинов, видел только беглецов». Наполнив суда добычей, освобождённым полоном и татарским ясырём, Адашев со стрельцами и казаками, медленно двинулся к Очакову, где освободил захваченных в Крыму турок, и отправил их очаковскому паше со словами, что воюет не с турецким султаном, а со «злодеем Давлет Гиреем». Паша был удовлетворён объяснениями россиян, с честью проводил посла и отправил Адашеву дорогие подарки.
Тем временем, хан, узнав о малочисленности стрельцов и донских казаков, спешно собрал войско и бросился в след медленно поднимающемуся вверх по Днепру флоту россиян. Но те ни сколько не смутились, видя превосходящего врага. Казаки и стрельцы с успехом отбивались «огненным боем» от наседающего неприятеля, и устилая его трупами берега реки. Преодолев пороги, Адашев со своей дружиной стал у Монастырского острова, готовый к сражению, но Давлет Гирей так и не решился завязать бой и ушёл в Крым.
Успехи гетмана Вишневецкого, на этот раз, были не столь впечатляющи. Соединившись с донскими казаками, гетман на реке Айдар перехватил и истребил несколько сот крымских татар, стремившихся пробиться к Казани, чтобы поднять там новое восстание. После чего Вишневецкий начал громить приморские улусы нагаев. Тем временем, от черкеских князей в Москву пришла грамота, с просьбой прислать к ним смелого полководца, чтобы воевать Крым, а так же прислать «церковных пастырей, чтобы просветить всю их землю учением евангельским». Царь эту просьбу удовлетворил, отправив в черкеские земли отважного гетмана Вишневецкого с отрядом донских казаков.
В этом году война в Ливонии продолжалась. Казачьи полки, бывшие там, в 1558 г. сменились, и им на смену пришли полки атамана Петра Пронца и атамана Василия Янова. Казаки Пронца отличились при осаде и штурме крепости Смельтин и первыми ворвались в неё. Казаки атамана Янова были переброшены на территорию Литвы, где отличились под Могилёвом в боях с лучшей литовской конницей. На Дону, казаки М. Черкашенина разгромили в верховьях Сев. Донца большой отряд крымских татар, шедших в набег на Русь. О чём атаман сообщил в Москву отпиской, и прислал государю захваченных «языков». Казаки верили в удачу знаменитого атамана, считали его «характерником» – полагали, что он может заговаривать пули, и ядра.
Тем временем, не смотря на все предпринятые меры, осенью 1559 г. татары появились у Пронска, но были разбиты воеводой Бутурлиным. В ноябре, свыше 3000 татар мурзы Дивея и ширинских мурз «безвестно» пришли в Тульский уезд и Ростовскую волость, разорив и ограбив там ряд селений. Воевода князь Татев, не смог их преследовать, так как русские войска к этому времени были распущены по домам.
***
1560 г. Впервые в русской истории был зафиксирован факт массового и легального переселения городовых казаков на Дон. В этом году, Иван Грозный, своим указом отпустил на Дон «казаков многих» и «ослободил их во все свои города ездити торговати». (Синодальная летопись) Об этом так же говорится в трудах Татищева: «Одни жили в Месчере, по городам и главный их город был на Дону, называемый Донской, где нынче монастырь Донской, 16 вёрст ниже Тулучеевой, а когда Иван 4 Нагайских татар в Месчеру перевёл, тогда оные казаки из Месчеры все на Дон переведены». По всей видимости, эти казаки заняли среднее течение реки. Точное их число не известно, но очевидно их было от нескольких сот до нескольких тысяч. Иван Грозный не только удовлетворил желание казаков признать их права на Дон «до тех мест, как им надобно» (А.И.Ригельман), но и приказал написать в грамоте «кто, буде, дерзнет сих Донских Казаков с мест их сбивать, тот да будет проклят на веки веков».
Осенью этого года, предположительно в ноябре, восставшие против крымского хана черкесы жанеевцы, совершили набег на Крымское ханство и пытались взять штурмом Кафу, базу турецкого флота. Но потерпели жестокое поражение. Князь Каноков, давний союзник донцов, попал в плен и был казнён. О чём хан сообщил 22 ноября грамотой в Стамбул.
В этом же году ватага донских казаков переволоклась на Волгу за зипунами, где они промышляли разбоем в районе Жигулей.
***
1561 г. Весной донские казаки, соединившись с запорожцами под командой гетмана Вишневецкого, совершили морской поход на Кафу, где сожгли и ограбили городские предместья, и окрестные селения, взяв большую добычу и ясырь. Так же они освободили многих христианских пленников, отпущенных впоследствии на свою родину.
Однако вскоре обстоятельства переменились, и гетман стал тяготиться службой Ивану 4. Вернувшись из Кабарды, где он возглавлял горских черкесов в войне с крымцами и нагаями, он был заподозрен в измене. Так, по крайней мере считал Карамзин: «усердный ко славе нашего отечества и любив Ивана добродетельного. Он не хотел подвергать себя злобному своенравию тирана: из воинского стана в Южной России ущёл к Сигизмунду, который принял Дмитрия милостливо, как злодея Иванова и дал ему собственного медика, чтобы излечить сего славного воина от тяжкого недуга произведённого в нём отравою». Но, события, последовавшие за казнью князя в Стамбуле, ставят под сомнение верность этих выводов.
Летом 1561 г. Вишневецкий отправил с Монастырского острова письмо королю Сигизмунду-Августу с просьбой прислать ему глейтовый (охранный) лист для свободного проезда из Монастырища в Краков. Король охотно согласился принять Вишневецкого к себе на службу и 5 сентября того же года прислал ему глейтовый лист: «Памятуя верныя службы предков князя Димитрия Ивановича Вишневецкаго, мы приймаем его в нашу господарскую ласку и дозволяем ему ехать в государство нашей отчизны и во двор наш господарский». Получив охранную грамоту, Вишневецкий вместе с польским магнатом Альбрехтом Ласким приехал в Краков, где был с восторгом встречен горожанами. Король очень ласково принял князя и простил ему его вину. Вскоре после этого Вишневецкий сильно заболел.
Правда это или нет, неизвестно. Вслед за Дмитрием в Литву отъехали и два его брата: Алексей и Гаврила Черкаские. Всё это происходило в разгар войны с Речью Посполитой. Запорожские реестровые казаки, верные присяге данной королю Сигизмунду, вовсю грабили русских купцов, и посланников, шедших в Крым. Но уйдя от русского царя, Вишневецкий не изменил России, в отличие от князя Курбского, командовавшего польскими войсками в войне против своего Отечества.
***
1562 г. Война в Ливонии затягивалась и требовала всё новых войск. Царь отправляет на Дон очередную грамоту, с призывом к донцам идти на государеву службу в Литву и Ливонию, обещая им щедрое жалованье. На призыв Ивана Грозного откликнулось более 2000 бойцов, ушедших вскоре на соединение с полком походного атамана Черкашенина.
***
1563 г. Турецкий султан Сулейман, обеспокоенный усилением России, и завоеванием ею Казанского и Астраханского ханств, решил их возродить. Подстрекаемый астраханским князем Ярлыгашем и бежавшими мурзами, он собирался отправить свою армию в далёкий поход. Для того чтобы турецкий флот имел доступ через Дон в Волгу, Сулейман решил прорыть судоходный канал между этими реками, и построить крепость для его защиты. Ещё одну крепость планировалось построить у современного Волгограда, а третью у Каспийского моря. Эти турецкие твердыни, по замыслу султана, должны были способствовать взятию Казани и Астрахани и ослабить Россию на юге. Крымскому хану Давлет Гирею было велено идти степью к Астрахани, куда Сулейман обещал Доном прислать янычар, пушки и строителей, для возведения крепостей. Однако хан, опасавшийся в то время турок больше чем казаков, известил об этом русского царя, прекрасно понимая невыполнимость планов Сулеймана, ибо донские казаки, рано или поздно, могли прервать сообщение между Доном и Волгой.
Тем временем, походный атаман Черкашенин, поучив с Дона подкрепления, в составе русских войск вторгся в Литву, где участвовал в осаде и взятии богатого Полоцка, доблестно громя врагов России, и захватив добычу. На Дону же, вначале шестидесятых годов, казаки не проводили крупных операций против Азова, Крыма и нагаев, совершая лишь мелкие набеги на своих неспокойных соседей, и отражая их вторжения.
Князь же Курбский, не смотря на взятие им Полоцка, попадает в опалу. Связанно это было скорее всего с тем, что Иван Грозный заподозрил князя в измене. Так в 1563 году он оказывается всего лишь вторым воеводой сторожевого полка. Затем его еще понижают, сделав городовым воеводой в Юрьеве. В этом городе закончил жизнь Алексей Адашев. Мрачное совпадение.
Другой известнейший сподвижник царя Ивана Васильевича, князь Дмитрий Вишневецкий, в 1563 г., близко сойдясь в Кракове с паном Ольбрехтом Ласским, посадившим с помощью заподноевропейских наёмников, в 1562 г. на Валашский престол Якова Василида, был соблазнён им идеей, самому стать господарем Валахии. Тем более, мог это сделать не только по праву силы, но и по праву крови. Так как мачеха Вишнивецкого происходила из господарского рода Деспотов.
Будучи на Петраковском сейме, Вишневецкий и Ласской, договорились о совместных действиях против боярина Томши (Стефана 9), и начали вербовать наёмные войска: « … и зобрал зараз люду пан Ласской 6000, а князь Вишневецкий так же 6000 и тягнули до Волох; и мелися зайти тые войска обе спалечно (вместе). Однако, не смотря на договорённость, Вишневецкий выступил первый, надеясь на свою удачу. Сторонники боярина Томши, решили использовать тщеславие князя. Они отправили ему письмо, в котором предлагали, не дожидаясь пана Ласского, идти в Сучаву и занять по их приглашению Валашский трон.
Князь попался на эту уловку. Выслав вперёд главные силы, он, с небольшим отрядом, двинулся вслед за ними. Сторонники боярина Томши, устроили у одного из мостов засаду. Внезапно напав, они перебили княжескую охрану и взяли Вишневецкого в плен.
Узнав об этом, турецкий султан потребовал от господаря выдать заклятого врага Турции и Крыма. И вскоре волошский господарь выдал гетмана султану. Князь мог бы избежать казни, прими он мусульманство, но он предпочёл мучительную смерть позору и бесчестью.
23 октября 1563 г. князь Вишневецкий, вместе с его представителем паном Пясоцким, был повешен за ребро на мясницком крюке, и сброшен вниз с крепостной башни в порту Галата. В таком положении он провисел три дня, истекая кровью и не переставая при этом проклинать султана, его семейство, всех турок и мусульманскую веру. Взбешённые турки, не став дожидаться пока князь умрёт в муках, расстреляли его из луков. Так геройски умер один из самых известных казачьих предводителей.
Царь Иван 4, не смотря на уход князя Вишневецкого в Польшу, сохранил к нему тёплые чувства. И после его жестокой казни в Стамбуле, велел вечно поминать Дмитрия Вишневецкого в Новопечёрском Свято-Успенском Свенском монастыре, являвшимся подворьем Киево-Печерской Лавры. В результате, князь Дмитрий был поминаем, как при Рюриковичах, так и при династии Романовых. Так как главный храм монастыря – Успение Святой Богородицы, был посвящён памяти первой жены Ивана 4, Анастасии Романовны, происходящей из рода Романовых.
***
1564 г. Не смотря на прошлогоднюю опалу, Курбский, в этом году был вновь отправлен на войну с Польшей и Литвой. После нескольких успешных стычек с войсками Сигизмунда осенью 1564 года князь Курбский потерпел серьезное поражение под Невелем. Подробности сражения известны в основном по литовским источникам. Русские вроде бы имели подавляющее численное превосходство: 40 000 против 1500 человек. Иван 4 обвинял же Курбского в том, что он не устоял с 15 000 против 4000 неприятелей. И эти цифры, кажется более достоверными, так как царь не упустил бы случай попрекнуть неудачливого воеводу большей разницей в силах.. Узнав о силах неприятеля, литовцы ночью развели множество огней, чтобы скрыть свою малочисленность.
Наутро они построились, прикрыв фланги peчушками и ручьями, и стали ждать нападения. Вскоре показались московиты – «их было так много, что наши не могли окинуть их взором». Курбский вроде бы подивился смелости литовцев и пообещал одними нагайками загнать их в Москву, в плен. Сражение продолжалось до самого вечера. Литовцы устояли, перебив 7000 русских. Курбский был ранен, потерял часть артиллерии и поостерегся возобновлять бой; на следующий день он отступил.
Вскоре после этого Курбский тайно бежал в Литву, бросив жену и детей. Позднее князь писал, что спешка вынудила его бросить семью, оставить в Юрьеве все имущество, даже доспехи и книги, которыми он весьма дорожил: «всего лишен бых, и от земли Божия тобою (Иваном) туне отогнан бых». Однако гонимый страдалец лжет. Сегодня мы знаем, что его сопровождали двенадцать всадников, на три вьючные лошади была погружена дюжина сумок с добром и мешок золота, в котором лежало 300 злотых, 30 дукатов, 500 немецких таллеров и 44 московских рубля – огромная сумма по тем временам. Для слуг и золота лошади нашлись, для жены и ребенка – нет. Курбский брал с собой только то, что могло ему понадобиться; семья для него была не более чем ненужной обузой. Зная это, оценим по достоинству патетическую сцену прощания!
Иван оценил поступок князя по-своему, кратко и выpaзительно: «Собацким изменным обычаем преступил кpeстное целование и ко врагам христианства соединился еси». Курбский категорически отрицал наличие в своих действиях измены: по его словам, он не бежал, а отъехал, то есть просто реализовал свое святое боярское право на выбор гocподина. Царь, пишет он, «затворил еси царство Русское, сиречь свободное естество человеческое, яко во адовой твердыне; и кто бы из земли твоей поехал… до чужих земель… ты называешь того изменником; а если изымают на пределе, и ты казнишь различными смертями».
Позже Курбский сам разоблачил себя. Десятилетие спустя, отстаивая свои права на пожалованные ему в Литве имения, князь показывал королевскому суду два «закрытых листа» (секретные грамоты): один от литовского гeтмана Радзивилла, другой от короля Сигизмунда. В этих письмах, или охранных грамотах, король и гетман приглашали Курбского оставить царскую службу и выехать в Литву. У Курбского имелись и другие письма Радзивилла и Сигизмунда, с обещанием выдать ему приличное coдepжание и не оставить королевской милостью. Итак, Курбский торговался и требовал гарантий!
Предательство своего ближайшего сподвижника, входившего в «Царскую раду», ожесточило царя, обрушившего репрессии на своё окружение, даже при малейшем подозрении. Это вызвало бегство многих служилых людей на Дон и в другие украины. Но при всём этом, «жестокий» царь не стал преследовать семью изменника Курбского.
Тем временем, Иван Грозный, ведя ещё пока успешную войну с Польшей и Литвой, хотел мира на своих южных рубежах и предлагал его Давлет Гирею, через своего посла Афанасия Нагого, обещая ему всяческие выгоды. Но хан колебался, не зная на что решиться, потом, всё же обещал послу дать шерть о мире и союзе. И здесь вмешались послы короля Сигизмунда, 30000 золотых, данные поляками решили исход дела. Подписав грамоту о союзе с Россией, он тут же вероломно вторгся в Рязанскую землю, рассчитывая на безнаказанный грабёж. Однако донские казаки, узнав о выходе из Крыма 60000 татарской конницы, не медля донесли о том в Москву.

