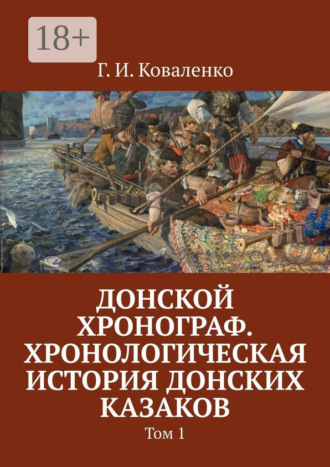
Полная версия
Донской хронограф. Хронологическая история донских казаков. Том 1
1503 г. Азовские турки, соединившись с азовскими казаками, подстерегли в степи и ограбили русское посольство великого князя Ивана 3. Тот, узнав об этом, отправил хану Менгли Гирею грамоту с жалобой на бесчинства казаков: «от казаков на поле страх», и потребовал покарать их. Хан в свою очередь уведомил об этом турецкого султана: «ныне гораздо отведал есьми в князя Ивановых послов и гостей, и водою и полем дорог стерегли и грабили наши азовские люди с казаками одиначившись». Узнав об этом, султан велел крымскому хану и своему сыну – кафинскому султану Магмету навести в Азове порядок: «чтобы они всех неблагонамеренных в Азове пашей, турок и казаков переловили и главнейших казнили бы».
Из донесения посла Заболоцкого становиться известно, что во исполнение воли султана «Менгли Гирей отпускает в Азов своего сына, Бурнаша и с ним 1000 человек, чтобы переловить всех казаков, какие бы в Азове не были». Прибыв в Азов Бурнаш, выбил из города своевольных казаков, частью их истребив. Но, не смотря на постигший их разгром, азовские и ордынские казаки не утратили своего значения и вскоре даже усилились, подстерегая на сакмах и бродах посольства и торговых людей. Их беспрестанные нападения вынудили султана, крымского хана, и великого князя отправлять свои посольства под сильным прикрытием от 100 и более воинов и идти без задержек в пути.
Так в 1505 г. Великий князь сообщал Менгли Гирею, чтобы тот не мешкал и высылал в Путивль свой сильный отряд для охраны «поминок» и послов, «ибо Путивль город пограничный, чтобы на поле о них не проведали, на поле же великий страх от казаков». После усиления военной охраны посольств, азовские казаки, лишённые лёгкой добычи, стали совершать набеги на русские украины, что вызвало нарекания и жалобы Москвы к мусульманским владыкам. В 1514 г. Великий князь просил турецкого посла Камала, бывшего в Москве, передать султану: «Если (султан) желает быть с нами в дружбе и любви братской, то пусть запретит азовским казакам, чтобы они украинам нашим ни какого зла не причиняли». Султан обещал пресечь разбои, но азовские казаки не слишком считались с его волей.
В следующем 1515 г. они по приглашению польского короля поступили на службу к великому князю Литовскому, недругу Москвы. Это известие вызвало раздражение Василия 3, который велел послу Коробову, едущему в Константинополь с посольством, в числе прочего сказать: «если султан хочет быть с царём в любви и дружбе, то пусть запретит казакам ходить из Азова и из Белгорода к литовскому нашему недругу на помощь, и на наём». На что в последствии, Коробову было сказано: «Те казаки ходили в Литовскую землю без салтанова ведома, а салтан того не ведает». На своём пути в Азов, Коробов увидел на Северском Донце, в близи устья речки Калитвы, казачий отряд, о чём и донёс Василию 3 отпиской: «а выше, государь, Донца видели есьмя перевоз, с Ногайская стороны, на Крымскую сторону перевозилися как бы человек с 100, а того, государь не ведаем, которые люди».
Кем были эти казаки сказать трудно. Е. Савельев полагал что это: « … были ни кто иные, как казаки запорожские или севрюки, двигавшиеся в то время на Дон». «Пока Москва была слаба, – писал Соловьёв – и всей Волгой, начиная от Казани, владели татары, движение казацких партий на Дон было незначительно, и казачество не могло ещё представлять в «Поле» правильно организованной силы для борьбы с мусульманством». Можно ли согласиться с этим утверждением? На первый взгляд всё логично и закономерно. Но у того же Савельева есть упоминание грамоты русского посла Голохвастого, который из Азова и Кафы сообщал великому князю Московскому Василию 3, что: «нагаи теснимые казаками, хотели перейти Волгу, но астраханский царь их не пустил».
Кто же тогда были эти казаки? Пришлые черкасы-запорожцы? Но тогда бы они ограничились ограблением нагаев и не преследовали их упорно и безжалостно, вытесняя за пределы Дона. Если это были казаки астраханские или казанские, то нагаи навряд ли бы стали уходить от своих притеснителей под сабли покровителей этих самых казаков – астраханского и казанского ханов. Тогда остаются только донские казаки, издревле обитавшие во временных городках полукочевым обычаем в дремучих лесах по Хопру, Медведице, Бузулуку и Верхнему Дону.
Судя по всему, это была не малочисленная ватага лихих удальцов, а весьма крупный казачий отряд, начавший выбивать с Дона своих старых врагов и конкурентов – нагаев. И очень скоро казакам удалось сбить со стойбищ многочисленные нагайские улусы. Вынудив их тем самым искать спасения в поволжских и прикубанских степях. Это предположение подтверждает российский историк 18 века Татищев, который в своей «Истории» писал, что Войско Донское было образованно в 1520 г., на 50 лет раньше, чем это принято считать. К сожалению, все исторические документы, на которые ссылался Татищев, были утрачены.
Однако в низовьях Дона ещё господствовали азовские казаки, беспрестанно тревожащие и разорявшие русские украины. Видя, что их нельзя унять силой оружия, Василий 3 обратился к Крымскому князю Аппаку, настроенному дружески к Москве с просьбой, предложить им служить ему, великому князю, за корма и жалованье. Аппак пошёл на встречу просьбе, и склонил было азовских и белгородских казаков перекочевать к Путивлю и служить России, но те вскоре изменили своё решение под давлением крымского хана, изменившего своё отношение к Москве. Он опасался её усиления. В результате чего татары прекратили междуусобную резню, подогреваемую Россией. Заключив союз и объединив силы, степняки стали готовиться к набегу в московские пределы.
В 1521 г. крымский хан Мухаммед Гирей заключил союз с казанским ханом Сахиб Гиреем и совершил опустошительный набег на Русь, угнав многие тысячи пленников. С этого времени отношения Москвы к донским казакам стало постепенно меняться и на степных удальцов, царь и бояре перестали смотреть только как на воров и разбойников, увидев в них зарождающийся щит России.
Утверждению Татищева об образовании Войска Донского в 1520 г., казалось бы, противоречит государев наказ, данный в 1521 г. русскому послу в Турции Тредьяку Губину, из которого следует, что ни каких селений по Дону нет. Скорее всего, на Дону, в то время, действительно не было постоянных казачьих городков. Так как их сил не хватало для основания городков на большой реке, куда был доступ турецкого флота, взявшего в 1471 г. генуэзский город-крепость Азов. Обосновавшись на мелководных, а потому малодоступных притоках Дона, казаки совершали стремительные набеги на турок и татар ниже по течению и не давали им закрепиться на реке. Третьяк Губин, отправившись для переговоров в Константинополь, кроме всего прочего, должен был предложить туркам: « … как послам и гостям от обеих сторон по Дону бесстрашно ходить», и « … устроить России и Турции суда по Дону с военными людьми в нужном числе», с тем, чтобы турецкие суда плавали от Азова, а русские от украин до назначенной заставы на Дону, где посольства должны были пересаживаться для дальнейшего пути.
Первоначально местом обмена посольствами была предложена Переволока между Волгой и Доном, но рязанские городовые казаки, у которых просили совета по этому делу, заявили, что сходиться на Переволоке опасно из-за действий в этом районе астраханских татар и нагаев. Они предложили обмениваться послами на Медведице или лучше на Хопре, которые, судя по всему, контролировались донскими казаками. Однако этим планам не суждено было осуществиться из-за, совместного крымско-казанского похода на Россию, при активном участвии турецких янычар. Кроме того, утверждение Турции на Дону было крайне не выгодно для Москвы в подобных обстоятельствах.
Турецкий же султан заинтересовался этим предложением великого князя, так как оно давало возможность закрепиться на реке, не смотря на противодействие донских казаков. И вскоре в Москву был отправлен турецкий посол Скандер. На переговорах в Посольском приказе он передал согласие султана на обмен послами на Дону, и объявил, что Турция построит в месте обмена город и он, Скандер, на обратном пути в Константинополь, выберет место его закладки. Однако Москва, крайне недовольная турецкой экспансией на своих рубежах, не была в том заинтересована и отправила турецкого посла не Доном, а через Путивль, степью.
Здесь следует отметить, что в уже упомянутом набеге на Россию крымского хана Магмет Гирея и азовских турок султана Сулеймана, по приказу польского короля принимали участвие запорожские казаки гетмана Дашковича. Однако этот противоестественный союз продолжался не долго. Уже на следующий 1522 год черкасы гетмана Дашковича погромили крымские улусы, и Магмет Гирей жаловался на них польскому королю.
В последующие годы донские казаки усилили своё давление на нагаев, разоряя их улусы и отгоняя скот. Отношения между ними обострились до крайности, вызывая многочисленные жалобы нагайских властителей. В тоже время в 1523 г. активизировались азовские казаки, бесчинствовавшие в Подонье, грабившие купцов, посланников и русские украины. Обеспокоенный этим великий князь Василий Иванович, отправил с дворянином Иваном Морозовым грамоту турецкому султану с жалобой на этих воров и просьбой, указать азовскому паше, усмирить казаков: «Наши украинные люди ходять но украине, иные по своей воле, иных наместники посылают в поле для соглядания злых людей, а твои азовские казаки емлют наших людей на Поле, отводят в Азов и продают, окупы же берут с них великие, и вообще твои азовские, людям нашим много зла причинили».
В 1527 г. запорожские казаки, не смотря на союз польского короля с крымским ханом, соединившись с российскими казаками, совершили набег на крымские улусы, в то время когда хан со своей конницей ушёл в поход на Москву. Хан жаловался польскому королю: «Приходят к нам каневские и черкасские казаки, становятся под улусами нашими на Днепре и вред наносят нашим людям»; «Черкасские и каневкие властители пускают казаков вместе с казаками неприятеля твоего и моего (Московского князя) под наши улусы, и что только в нашем панстве узнают, дают знать в Москву».
В 1535 г. московское правительство отправило посольство к нагайскому князю Исламу, во главе с дворянином Наумовым и в сопровождении казаков. Но как только посольство вступило на нагайские земли, мурзы и уланы, натерпевшиеся много бед и лишений от казаков, ограбили его и подвергли избиению, а казаков хотели продать в рабство. Положение спасло вмешательство князя Ислама: «Приехали к Исламу твои казаки, и вот князья и уланы начали с них платье срывать, просят соболей; я послал сказать об этом Исламу, а князья и уланы пришли на Ислама с бранью; … и они все хотят казаков твоих продать». Конфликт, с трудом был улажен. В том же 1535 г. казаки сообщили в Москву о дворцовом перевороте в Казани: «В Москву приехали казаки, городецкие татары и сказывали, что к ним на остров приезжали казанские князья, мурзы и казаки, человек 60, объявили об убийстве царя Еналея и просили московского государя простить хана Шиг Алея, находящегося в русском плену, вернуть его из заточения с Белоозера и поставить его правителем Казани.
1537 г. Крымский хан Саип Гирей вновь жаловался польскому королю на казаков малороссийских, побивавших татар и состоящих в союзе с русскими казаками: «Приходят казаки Черкасские и Каневские, становятся под улусами нашими на Днепре и вред наносят нашим людям, я много раз посылал к вашей милости, чтоб вы их остановили, но вы их остановить не хотели; я шёл на московского (князя): 30 человек за болезнею вернулись от моего войска, казаки поранили их и коней побрали. Хорошо ли это: я иду на твоего непреятеля, а твои казаки из моего войска коней уводят? Я приязни братской и присяги сломать не хочу, но на те замки, Черкасы и Канев, хочу послать свою рать. А это знак ли доброй приязни братской? Черкасские и каневские властители пускают казаков с казаками непреятеля твоего и моего (великого князя московского), вместе с казаками путивльскими по Днепру, под наши улусы, и что только в вашем панстве узнают, дают весть в Москву; в Черкасах старосты ваши путивльских людей у себя держат; так как на Москву из, Черкас пришла весть за 15 дней перед нашим приходом». Но, не смотря на все меры, предпринимаемые польским королём, связь запорожцев с донцами и городовыми казаками не прерывалась.
В 1538 г. мурза приволжской орды нагаев Кель Магмет вновь жаловался малолетнему Ивану 4 на обиды и разорение, чинимые ему и его народу русскими казаками. На это последовала уклончивая отписка Посольского приказа и Боярской думы: «На Поле ходят казаки многие-казанцы, азовцы, крымцы и иные баловни казаки, а и с наших украин казаки с ними смешавшись ходят. И не люди, как нам, так и вам тати и разбойники, а на лихо их ни кто не учит: сделав какое лихо разъезжаются по своим землям».
***
В сороковых годах 16 века донские казаки резко усиливаются и окончательно вытесняют с Дона и его окрестностей нагаев, татар и казаков мусульман. Об этом можно судить из отписки в Москву в 1546 г. путивльского воеводы Михайлы Троекурова, доносившего, что на Дону появились из «разных украин» многие казаки из «черкасцев и киян», в том числе «твоих государевых». По всей видимости, донские казаки снеслись с запорожскими черкасами и, соединившись, очистили Дон по всему течению от татар и нагаев, установив полный контроль над всей рекой, вплоть до Азова. Казаки тюрки, до того беспрепятственно кочевавшие по Дону и окрестностям, и контролировавшие Подонье, по большей части были истреблены и рассеяны по степям. Вскоре совсем исчезли со страниц истории. Меж тем, утвердившись на реке, донские казаки стали устанавливать свои порядки, облагая данью проходящие мимо торговые караваны или попросту грабя их. В «крепких местах» появляются первые укреплённые казачьи городки, чьи обитатели с успехом отражали натиск степняков.
***
1548 г. После неудачного похода Ивана 4 на Казань, часть казаков бывших с ним в походе осело в украинных русских городах по Волге, « … дабы не допускать к Казани крымцов и нагаев, и кои после присоединения Казани и Астрахани, стояли на Волге, охраняя переправы большею частию у Переволоки и делая разъезды по степям для разведывания о предприятиях крымских». Так в 1548 г. посольство крымского хана к астраханскому царю (хану) Ямгурчею наткнулось на Дону, вблизи Переволоки на «острогу» – укреплённый деревянным тыном казачий городок. Все попытки татар взять «острогу» приступом были отражены её защитниками. По некоторым данным, это был городок атамана Михаила Черкашенина и мелкого путивльского помещика Истомы Извольского, одного из самых известных казачьих атаманов, решившего контролировать важнейший торговый путь. Крымский хан Сахиб Гирей послал для его уничтожения мурзу Елбузука, но тот был разбит и отступил.
Казаки к этому времени настолько усилились, что не только с успехом отражали татар на Дону, но и сами с успехом совершали набеги на логово своего врага – Крым. В том же 1548 г. Иван 4 получил грамоту от нагайского князя Юсуфа с жалобой, из которой становиться известно об успешном набеге на Крым, а второй их отряд ограбил нагайский торговый караван, шедший с товарами из Москвы в Заволжье. Московский самодержец обещал посланцам Юсуфа унять казаков, но, по всей видимости, сделать это было не так просто.
***
В 1549 г. Юсуф вновь жалуется московскому государю: «В нынешнем (1549 г.), наши люди шли в Москву для торгу, а осенью, как шли назад, ваши казаки севрюки, что на Дону стоят, пришли на них… и куны (деньги) их взяли». Вскоре вслед за первой грамотой приходит вторая, где князь пеняет Ивану 4 на не выполненное обещание обеспечить свободный и безопасный путь в Москву и назад: « … которые на Дону стоят русь, наших гостей в Москву едущих и возвращающихся оттоль, забирают. Если ты тех разбойников, что на Дону живут, к нам пришлёшь или изведёшь, то будет знаком дружбы, а нет, то не будешь союзник». На это московский государь уклончиво ответил Юсуфу: «Те разбойники, что гостей ваших забирают, живут по Дону без нашего ведома, от нас бегают. Мы не один раз посылали чтобы их переловить, а наши люди добыть их не могут. Вы бы сами велели их переловить и к нам прислали, а мы приказали бы их показнить… Тебе известно, что на Поле всегда лихих людей много разных государств».
Такой уклончиво-дипломатичный ответ, с течением времени стал стандартной отпиской русских государей на все жалобы татар, нагаев, турок и персов, ведь это в большой мере перекладывало ответственность на плечи донских казаков. Только де эти воры и разбойники во всём виноваты, а Россия здесь не причём и позволяло смягчить гнев сопредельных государей. Историк С. Соловьёв в своей «Истории России», говоря о 1549 г. пишет: «Видим, что казаки городовые, находящиеся под ближним надзором государства, сделавши что ни будь противное его интересам, уходили на Дон; так путивльские казаки, замешанные в деле ограбления крымского гонца, Левон Бут с товарищами, сказывали: было их на Поле 6 человек и весновали они на Днепре, потом пошли было в Путивль, но на Муромском шляху встретились с ними черкасские казаки, 90 человек, взяли их с собой и крымского гонца пограбили; после грабежа Левон Бут сам – четверт пришёл в Путивль, а двое товарищей его отстали, пошли на Дон».
Впрочем, казаковали на Дону и Волге не только черкасы и русская буйная вольница, но и мелкие русские удельные князья. Так в том же 1549 г. русский гонец к астраханскому хану доносил в Москву: «Шли мы Волгой из Казани в Астрахань, и, как поравнялись с… устьем, пришёл на нас в стругах князь Василий Мещерский, да казак Лючига Хромой, путивлец, и взяли у нас судно царя Ямгурчея; я у них просил его назад, но они мне его не отдали и меня позорили».
Однако нагайские князья и мурзы, жалуясь на казачьи разбои и бесчинство казаков, сами вовсю грабили и разоряли русские украины. Так князь Юсуф отправил в Москву своих послов Сары Мурзу, Ельбулдая и Довляткозя для того, чтобы свободно сообщаться с Россией, не боясь воровства. Иван 4 приветливо встретил мурз и обещал, что если нагаи не будут грабить и убивать русских посланников и торговых людей, то и оно со своей стороны не велит трогать нагаев. В результате переговоров, послы подписали шерть, по которой, обе стороны обязались « … тех послов и гостей на Дону не стеречь, и не имати тех послов и гостей, и не грабити, и лиха ни какого не чинити». В свою очередь Иван Васильевич, желая склонить нагайскую Орду и её князя Юсуфа к союзу против Крыма, велел своему послу в Орде, передать князю следующие слова: «Дошёл до меня слух, что крымский царь недоброжелательствует вам… Астраханскому царю пушки и людей прислал на помощь. Я же, по дружбе вашей ко мне, повелел моим Путивльским и донским казакам крымские улусы воевать». Впрочем, донские казаки продолжали грабить и разорять не только крымцов, но и нагаев, ставя царя в неловкое положение.
В этом же 1549 г. на Дону появляется ещё несколько укреплённых казачьих городков, о чём в «Истории Государства Российского» упоминает Карамзин: «Казаки гнушались зависимостью от магометанского царства и в 1549 г. вождь Сарыазман, именуясь подданным Иоана, строил крепости по Дону». Более подробно, о первом упоминаемом казачьем атамане говориться в очередной грамоте к московскому государю нагайского князя Юсуфа, датированной 1550 г.: «Холопи твои нехто Сарыазман словёт, на Дону в трёх или четырёх местах городы поделали, да наших послов и людей наших которые ходят к тебе и назад, стерегут, да забирают, иных до смерти бьют. … Этого же году люди наши исторговав на Руси, назад шли, и на Воронеже твои люди – Сарыазманом зовут – разбойник твой пришёл и взял их. … Дружба ли то, что на Дону твои холопи, Сарыазманом зовут, наших послов и гостей побивают и грабят?»
На это царь отвечал Юсуфу: «те холопи наши, Сарыазман и в нашей земле многое лихо сделали и убежали в Поле. Мы посылаем их добывать, а вы б от себя велели их добывать, к нам бы прислали».
Кто же такой Сарыазман? Где располагались его первые городки? Ростовские историки Н. С. Коршников и В. Н. Королёв считали его татарином мещерским или азовским, однако он мог быть и русским, носившим татарское прозвище. Что ж первый и третий варианты вполне возможны. Сомнение вызывает второй, азовский вариант, так как азовские и донские казаки жестоко враждовали друг с другом и до Сарыазмана, и после него. Так в начале второй половины 16 века эта вражда была зафиксирована в русских документах. Московский посол писал государю, что ему нельзя послать вовремя вести в Москву « … потому, что азовские казаки твоими государевыми казаками не в миру». Впрочем, вполне возможно, что Сарыазман и упоминаемый позже Сусар Фёдоров, одно и то же лицо, а имя Сарыазман, не имя собственное, а прозвище атамана, что было характерно для казаков 16 – 17 веков. Вполне вероятно, что это имя на Дону не употреблялось.
Городки же его, по предположению тех же историков, располагались по Верхнему Дону, откуда казакам Сарыазмана удобнее всего было перехватывать нагайских послов и торговые караваны на реке Воронеж. Благодаря татарским источникам, говорящим об «остроге» вблизи Переволоки, по крайней мере, можно сравнительно точно указать расположение одного городка. Очевидно, он находился в устье р. Иловли или вблизи её. Это вполне согласуется с указанными выше выводами о первоначальном расположении казачьих городков по Хопру, Медведице, Бузулуку, Иловле. С этого времени начинается стремительное расселение казаков вниз по Дону.
***
Уже в следующем, 1551 г. об этом становится известно из грамоты турецкого султана Сулеймана к нагайскому мурзе Измаилу, о которой нам стало известно благодаря отписке дворянина Петра Тургенева, бывшего послом у нагайских князей: «В наших магометанских книгах пишется, что пришли времена Русского царя Ивана, рука его над правоверными высока. Уж и мне от него обида велика: Поле всё и реки у меня поотымал, даже Азов – город доспел, до пустоты поотымал всю волю в Азове. Казаки его с Азова оброк берут и не дают ему воды пить из Дона. Крымскому хану казаки Ивановы делают беду великую, и какую срамоту нанесли! Пришли Перекоп воевали, и у вас оба берега отняли и ваши улусы воюют. И то вам не срамота ли? – как за себя стать не умеете? Казань ныне тоже воюют. Ведь это всё наша вера магометанская. Станем же от Ивана обороняться за один. Вы ведаете, что теперь в Крыму мой посажен хан, как ему велено так он и сделает. По просьбе Астрахани тоже пошлю царя; да и казанцы ко мне присылали же просить царя; и я из Крыма непременно посылаю его. Ты б Измаил мурза, большую мне дружбу свою показал: помог бы Казани людьми своими и пособил бы моему городу Азову от царя Ивана казаков. Станешь пособлять, – и я тебя царём в Азове поставлю, мне же помочь городу неудобно, находиться далече».
Из этой, весьма выразительной грамоты Сулеймана, мы узнаём о грандиозных событиях, разворачивающихся на просторах Дикого Поля, от Азова до Казани и Астрахани. О событиях ни как ни отражённых в русских летописях того времени. В течение 1550 – 1551 г. донские казаки совершили четыре больших и успешных похода против многочисленного и хорошо вооружённого противника. Одержанные ими победы вызвали тревогу и опасения даже у турецкого султана, владыки одной из самых могущественных европейских держав, ставшего поспешно объединять весь мусульманский мир, от Черного моря до Волги и Каспия, для отражения стремительно усиливающегося, но немногочисленного казачества.
Несколько иначе и в другом свете, представлял в своих трудах зарождение казачества Е. Савельев. По его мнению, Дон в конце сороковых, в начале пятидесятых годов только начал заселяться городовыми казаками: северскими, путивльскими, рязанскими, а так же запорожцами. Но тогда возникает вопрос, почему же ни один русский источник тех лет не упоминает о столь массовом исходе украинных городовых казаков на Дон. Ведь для захвата Астрахани, Азова, разорения казанских и перекопских улусов, требовались сотни и тысячи отборных воинов. По самым скромным подсчётам, исход такого количества городовых казаков, поставил бы украинные города в отчаянное положение. Но этого не произошло.
Быть может, донское казачество пополнялось за счёт бросивших свои поместья дворян и детей борских, ушедших в Поле казаковать? Опять же нет, лишь начиная с 60 – 70 г. 16 века можно обнаружить во многих приграничных степных уездах записи о детях боярских и дворянах, бросивших свои поместья и службу, и ушедших на Дон: «сбрёл в степь, сошёл в казаки». Но и эти беглецы, в подавляющем своём числе возвращались назад на Русь, где их «воровство» обычно прощалось после принесения повинной. Из всего этого следует, что на Дону действовали не пришлые «варяги», а в подавляющем большинстве своём коренные донцы, скрывавшиеся дотоле в неприступных местах в верховьях рек. Накопив достаточно сил, они выплеснулись в буйном потоке пассионарного толчка в бескрайние степные просторы Подонья, сметая всё на своём пути и сея ужас в сердцах своих врагов, ослабленных внутренними распрями.
***
1552 г. Крымский хан Давлет Гирей, собрав огромное войско и получив от турецкого султана пушки и янычар, стремительно двинулся на Россию, грабя и разоряя приграничные сёла и города. Осадил Тулу, но был разгромлен подошедшими полками царских воевод. Он бежал преследуемый казаками вплоть до древней Тавриды, ставшей прибежищем степных хищников. Большая часть добычи и полона, захваченной татарами, в ходе преследования была отбита. Тем временем Иван 4, не ставший ещё Грозным, не смотря на исход лета, двинулся в Казанский поход, стремясь, раз и навсегда покончить с разорительными набегами казанцев, союзников турок и крымцов, и тем самым, и тем самым обеспечить себе тыл в борьбе с ними.

