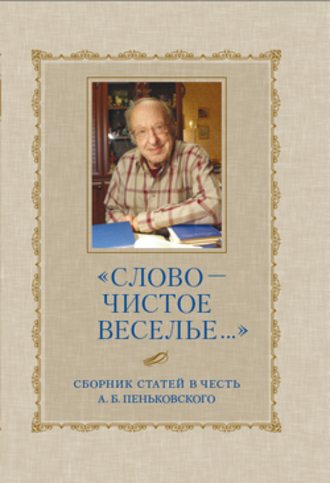
Полная версия
«Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского
В отношении языка Пушкинской поры имеет место именно такое положение вещей: у нас есть полное ощущение его понятности и близости нашему языковому сознанию. Верно, что иногда – даже нередко – это ощущение нас подводит, и мы не видим некоторых нюансов, совершенно явных для читателей Пушкинского времени. Многое изменилось, однако если поставить мысленный эксперимент и переместить среднего современного россиянина на полтора-два века назад, вряд ли можно усомниться, что он легко установит языковой контакт с предками– соотечественниками. Если все же настаивать на том, что литературный язык Пушкинской поры и современный литературный язык – это разные языки, тогда нужно пересмотреть очень многое в нашем обыденном представлении о тождестве языка. По моим представлениям, язык, скажем, Андрея Платонова отличается от современного общелитературного языка едва ли не в большей степени, чем язык Пушкина и многих его современников.
Мне представляется, что не следует отказываться, как к этому призывает А. Б. Пеньковский в заключительном разделе книги (с. 472/580), от традиционного понимания современного русского литературного языка в соответствии с формулой «от Пушкина до наших дней». На мой взгляд, это хорошая и справедливая формула: при всех существенных изменениях современный русский литературный язык таков, каков он есть, именно благодаря уникальной языкотворческой деятельности «первенствующего поэта русского» (из дневниковой записи А. Н. Вульфа 1827 г.). И мне думается, что современные толковые словари русского языка должны были бы в большей мере отражать смысловые особенности языка русской старины, в том числе и те, которые обнаружены А. Б. Пеньковским (как в опубликованных работах, так и в его публичных выступлениях). Язык, взятый в синхронном состоянии, сохраняет историческую память на всех уровнях; он не является монолитным, не отделен преградами от своих предшествующих состояний.[24] Многие значения слов, представляющиеся архаическими, устаревшими ит. п., могут в определенных контекстах актуализироваться, всплывать на поверхность, причем так, что носители языка не замечают ни налета архаики, ни языковой игры. Так, по поводу многих примеров, отмеченных выше в «лексикографической» части данной статьи, я полностью согласен с А. Б. Пеньковским: современному языку чужды упомянутые выше «архаические» значения таких слов, как преданье «воспоминание», сказка, повесть «поток жизненных событий, хранящийся в чьей-либо памяти», «тоскливые» значения слов скука, зевота, лень… Однако не во всех случаях дело обстоит с такой полной очевидностью. Скажем, слово старина в значении «давно прошедшее для кого-либо время» присутствует, думается, и в современном языке: вполне нормально, например, такое высказывание — Какая же это старина! – в применении к воспоминаниям о давнем для собеседников прошлом или при взгляде на фотографию, относящуюся к давнему для них времени. Не кажутся мне особенно архаичными и такие фразы: В старину я неплохо играл в шахматы. Посидели, старину вспомнили; Зачем старину ворошить? Ясно, что это значение занимает в слове СТАРИНА не такое место, как полтора-два столетия назад, – сейчас оно маргинально и несколько архаизировано (в современных словарях оно должно было бы помечаться каким-то особым образом, чего нет, например, в Малом академическом словаре).
Помимо «Нины», А. Б. Пеньковский опубликовал и другие интересные этюды, посвященные «загадкам пушкинского текста и словаря» [Пеньковский 19996; 1999в; 1999 г; 2000], в которых замечательно продемонстрированы лексические значения и культурный ореол целого ряда слов; часть таких этюдов вошла в книгу [Пеньковский 2005].[25] В некоторых его публичных выступлениях подробно рассматривались лексические расхождения между Пушкинским и современным языком, не отмеченные в публикациях. В частности, он сделал ценные наблюдения и обобщения, касающиеся «большей масштабности» (точнее – более широкого диапазона применимости) в Пушкинское время целого пласта русских слов, которые могли применяться к ситуациям и малого, и большого масштаба, и к любым промежуточным в соответствующем диапазоне. Одно из таких слов — старина, но, как следует из замечаний непосредственно выше, для современного языка, по-видимому, не чужд его «малый масштаб» – применимость к событиям одной человеческой жизни. Во многих же случаях с Пеньковским трудно не согласиться. Слово гостить раньше могло обозначать «малый масштаб» пребывания в гостях — Он два часа у нас гостил, – а сейчас такая фраза звучит несколько необычно: нужно провести в гостях достаточно много времени – как правило, хоть раз переночевать, – чтобы можно было обозначить соответствующую ситуацию глаголом гостить. Или слово восвояси, в современном языке значащее примерно «к себе домой – откуда-то достаточно издалека», а в Пушкинское время, согласно предъявленному Пеньковским материалу, могущее относиться и к перемещению в место постоянного пребывания из близкой точки (тогда можно было сказать Князь ушел восвояси и в случае ухода князя в кабинет или спальню из гостиной). Или слово повсеместно, ныне предполагающее достаточно обширную сферу распространения чего-либо, а в давние времена допускающее и «малый» масштаб (сейчас странновато звучит фраза типа У нее на спине повсеместно сыпь, а в Пушкинское время – вполне нормально).
Хотелось бы надеяться, что разыскания автора «Нины» рано или поздно найдут своё воплощение в словаре, который достаточно полно отразит лексическую семантику Пушкинского времени, ее культурный ореол, ее расхождения с современным языком. О проекте и предварительных материалах такого словаря А. Б. Пеньковский рассказал в феврале 2000 г. в своем ярком докладе на IV Шмелевских чтениях, назвав его «дифференциальным словарем языка Пушкинской эпохи». Значение словаря такого рода для русской филологии и русской культуры в целом трудно переоценить.[26]
P. S. Книга А. Б. Пеньковского, его лингвистические наблюдения и его опыт объяснения некоторых неясных мест Пушкинского романа нуждаются в длительном осмыслении и освоении в нашей филологии и культуре. Требуется немалый труд и внимание, чтобы по достоинству оценить незаурядные лингвистические и историко-литературные достижения этой замечательной книги, по-настоящему разобраться в ее противоречиях, ее слишком категорическим суждениям придать статус гипотез, ее спорные построения трезво квалифицировать соответствующим образом. Здесь неуместна как безоговорочная некритическая хвала, так и огульная хула. Хотелось бы надеяться, что предложенный в данной работе разбор лишь один из первых шагов на пути осмысления «Нины». Ему предшествовали еще два отзыва на «Нину» – [Либерман 2000] и [Булкина 2000], – о которых мне хотелось бы сказать несколько слов.[27]
Оба они достаточно кратки по сравнению с настоящей статьей; отзыв А. С. Либермана ориентирован сугубо положительно, можно сказать – хвалебно, а отзыв И. С. Булкиной – отрицательно. Ограниченность объема отзывов не позволила авторам провести подробного разбора книги. В отзыве Либермана существенной критики нет, отзыв же Булкиной сосредоточен в основном на слабостях книги. Удивляет менторски снисходительный тон И. С. Булкиной по отношению к незаурядному труду, который она высокомерно называет «отнюдь не бесполезной книгой» [Булкина 2000: 383], а всё достоинство которого видит лишь в «замечательно интересных антропонимических наблюдениях» [Там же: 385] и в некоторых существенных дополнениях к «Словарю языка Пушкина». Зато критики, преимущественно необъективной и порой профессионально несостоятельной, на трех неполных журнальных страницах у Булкиной предостаточно. Коснусь некоторых ее нападок.
• Не верно, что А. Б. Пеньковский «в примечаниях впадает в полемику (…) с А. С. Немзером и А. Л. Зориным» [Булкина 2000: 383], – автор «Нины» их дополняет, см. примеч. 90 к Части первой: «А. Л. Зорин и А. С. Немзер увидели в этом ответе «очевидную» "проекцию на карамзинскую повесть" (…) Не исключая такой возможности, следует учитывать (…)» (с. 404).
• Булкина, утверждающая, что она «вовсе не травестирует исследовательский сюжет Пеньковского, а близко к тексту пересказывает главы 3.3 (…) и 3.4» [Там же: 385], на самом деле занимается именно травестированием – переиначивает упомянутые главы книги, сводит интересные размышления автора «Нины» о действительно немалой роли куплета Трике в сюжете романа к превращению Пушкина в мосье Трике, а всего романа – в его куплет.
• Глубокие лингвистические наблюдения автора в связи со словом дева (см. выше в настоящей статье) Булкина называет «лингвистическими эмпиреями», а вполне законное привлечение, помимо Пушкинских текстов, также и произведений других авторов Пушкинской поры (например, Бенедиктова) для уяснения смысла слова в Пушкинское время аттестует «свидетельство ванием за Пушкина» [Там же].
• Приписывая автору «Нины» «невероятные умозаключения, вроде того, что "Граф Нулин" и «Бал» вышли под одной обложкой потому, что оба автора "были жертвами одной общей для них Нины" (с. 342)» [Там же: 386], Булкина (впрочем, может быть, ненамеренно и незлостно) опускает скобки, охватывающие вставное предложение, которое она делает главным в своем пересказе. Вот соответствующая цитата, взятая со стр. 342 «Нины»: «(…) он (Пушкин) мысленно обращается (…) к Баратынскому, (…) будущему автору «Бала» (…). Пушкин опередил его со своей Ниной ("Бал" выйдет только через два года и под одной обложкой с "Графом Нулиным"), поскольку оба они были жертвами одной общей для них Нины и оба жили «страстями» по А. Ф. Закревской». Стало быть, следствием является не выход поэм под одной обложкой, а нечто другое – общий характер взаимоотношений поэтов.
При чтении таких «критик» мне обычно вспоминается восклицание Чаадаева «Какие они все шалуны!», воспроизводимое в главе XXXIII Части четвертой «Былого и дум» по поводу общения автора с петербургским обер-полицмейстером Кокошкиным («Кокошкин держит в руках бумагу, в достоверности которой не сомневается, на которой стоит № и число для легкой справки, в которой написано, что мне разрешается приезд в Петербург, и говорит: "А так как вы приехали без позволения, то отправляйтесь назад", и бумагу кладет в карман»).
Список литературы
Бродский 1950 —Бродский Н. Л. Евгений Онегин: роман А. С. Пушкина. М., 1950.
Булкина 2000 — Булкина II. [С.] [Рец. на кн.:] Пеньковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999 // Новое литературное обозрение. 2000. № 44.
Еськова 1999 —ЕсъковаН. А. Хорошо ли мы знаем Пушкина? М., 1999.
Зализняк 2000 — Зализняк А. А. Лингвистика по А. Т. Фоменко // История и антиистория: Критика «новой хронологии» академика А. Т. Фоменко. М., 2000.
Зализняк 2004 — Зализняк А. А. Древненовшродский диалект. 2-е изд., перераб. М., 2004.
Кобозева 2000 —КобозеваII. AI Лингвистическая семантика: Учебн. пос. М., 2000.
Кравченко 1999 — Кравченко Н. П. Семантический синкретизм в языке А. С. Пушкина // Научный и образовательный журнал (Изд. Кубанского гос. ун-та). 1999. 15/99.
Лермонтов 1935 —Лермонтов AI. Ю. Полное собрание сочинений: В 5 т. T. IV / Ред. текста и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1935.
Лермонтов 1956 —Лермонтов AI Ю. Сочинения: В 6 т. Т. 5: Драмы / Под ред. Н. Ф. Бельчикова, Б. П. Городецкого, Б. В. Томашевского; ред.?тома – Б. П. Городецкий. М.; Л., 1956.
Либерман 2000 — Ли берм ан А. [С.] [Рец. на кн.:] Пеньковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999 // New York Review. 2000. № 217.
Лотман 1980 — Лотман Ю. AI Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1980.
Николаева 1996 —Николаева T. AI «Бусый волк» Игорь и «оборотничество» пушкинских персонажей//Русистика. Славистика. Индоевропеистика. М., 1996.
Пеньковский 1999 — Пеньковский А. Б. Об «антипоэтическом характере» Онегина, или Как читать Пушкина // Пушкин и теоретико-литературная мысль. М., 1999.
Пеньковский 1999а — Пеньковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999.
Пеньковский 19996 — Пеньковский А. Б. Загадки пушкинского текста и словаря. «Нет… ни балов, ни стихов». М., 1999.
Пеньковский 1999в — Пеньковский А. Б. Загадки пушкинского текста и словаря. 1. Квакер // Художественный текст и культура. Владимир, 1999.
Пеньковский 2000 — Пеньковский А. Б. Пушкинский текст и текст культуры. Котильон // Поэтический текст и текст культуры: Междунар. сб. науч. трудов. Владимир, 2000.
Пеньковский 2003 — Пеньковский А. Б. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. 2-е изд., испр. и доп. М., 2003.
Пеньковский 2005 — Пеньковский А. Б. Загадки пушкинского текста и словаря: Опыт филологической герменевтики / Под ред. И. А. Пилыцикова, М. И. Шапира. М.: Языки славянских культур, 2005.
Перцов 2000а — Перг^ов Н. В. О неоднозначности в поэтическом языке // Вопр. языкознания. 2000. № 3.
Перцов 20006 — Перг^ов Н. В. Загадка начала «Евгения Онегина» //ИАН СЛЯ. Т. 59. 2000. № 3. С. 25–30.
Перцов 2001 —nepifoe Н. В. Инварианты в русском словоизменении. М., 2001.
Перцов 2008 — Перцов H. В. О соотношении письменной и устной форм поэтического языка: (К вопросу о функциональной нагруженности старого русского правописания) //Вопр. языкознания. 2008. № 2. С. 30–56. Проскурин 1999 — Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999.
Соловей 1977 — Соловей Н. Я. Из истории работы А. С. Пушкина над сюжетом «Евгения
Онегина» (Альбом Онегина) // Замысел, труд, воплощение… М., 1977. СЯП – Словарь языка Пушкина: В 4 т.: М., 1956–1961.
Тынянов 1965 — Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка: Статьи. М., 1965. Хализев 1987 —Хализев В. Е. Завершение действия «Евгения Онегина» // А. С. Пушкин.
Проблемы творчества. Калинин, 1987. Шапир 2002 — Шапир М. ЕІ. Пушкин и Баратынский: (Поэтические контексты «Медного Всадника») // К 200-летию Боратынского: Сб. мат-лов междунар. науч. конф., сост. 21–23 февраля 2000 г. (Москва—Мураново). М., 2002. Элиаде 2000 — ЭлиадеМ. Аспекты мифа / Пер. с франц. М., 2000. Эмерсон 1996 — Эмерсон К. Татьяна // Вестник МГУ Сер. 9. Филология. 1996. № 6.
Анна А. Зализняк
Об эволюции концепта отдыхать в русском языке[28]
Дорогому, Александру Борисовичу Пенъковскому
к юбилеюВ своем обширном и блестящем исследовании «Загадки пушкинского текста и словаря» А. Б. Пеньковский выявил множество смысловых отличий словоупотребления той эпохи от современного – от «тонких и тончайших» (если воспользоваться выражением А. В. Исаченко) до таких, незнание которых весьма существенно искажает смысл пушкинского текста. Продолжая эту линию исследования, приведу еще один такой пример (который как раз в книге не обсуждается). Тысячи русских школьников и школьниц, читающих письмо Татьяны, понимают фразу Но так и быть! Судьбу мою / Отныне я тебе вручаю («Евгений Онегин», гл. 3, XXXI) как содержащую идиому так и быть, употребляя которую говорящий дает понять, что упомянутое действие он совершает, уступая желанию адресата. Современный читатель (в особенности молодой и филологически неискушенный, каковым является средний школьник) обычно не сомневается в том, что он правильно понимает данную фразу – несмотря на несообразность результирующего смысла: ведь Онегин к тому моменту ни о чем Татьяну не просил. Действительно, чуть более внимательное отношение к тексту заставляет в этом месте задуматься и искать причину этой видимой смысловой несогласованности, которая состоит в том, что выражение так и быть обозначает здесь вовсе не уступку желанию адресата речи, а решимость покориться судьбе (ср. Так тому и быть!).
1. Дышать и отдыхать
В статье, посвященной анализу глагола вздохнуть, А. Б. Пеньковский демонстрирует, что этот глагол имел особое, не фиксированное словарями значение «преодолеть состояние задыхания; восстановить дыхание, отдышаться»; в частности, именно это значение представлено в строках Но наконец она вздохнула / И встала со скамьи своей («Евгений Онегин», гл. 3, XLI) [Пеньковский 2005: 88–89]). Далее отмечается, что то же значение восстановления нормального дыхания имел глагол отдохнуть, ср.:
(1) Наконец Степан Петрович умолк, приподнялся, отдохнул и начал ходить по комнате [Тургенев. Два приятеля, 1853].
Данное значение не сохранилось в современном языке, и тем самым нынешний читатель либо понимает такие предложения неправильно (приписывая глаголу современное значение и в той или иной степени удивляясь его неуместности в данном контексте), либо вообще не может приписать им никакого смысла; таковы примеры (1)—(6), (8)—(11).
Между тем, глагол отдохнуть в языке XIX в. имел даже не одно, а несколько значений, впоследствии утраченных. Исследованию этого вопроса и посвящена настоящая статья.
Надо сказать, что процесс дыхания и, соответственно, описывающие его слова (образованные от основы дых-/дох-/дух-) уникальны в том отношении, что они принадлежат одновременно сферам «души» и «тела» – ср., например, структуру полисемии слова дух [Урысон 2003: 59–72]. Действительно, в языковой картине мира дыхание является важнейшей, обеспечивающей жизнь (ср. еле дышит; бездыханный = «мертвый») физиологической функцией организма, т. е. тела, – и одновременно формой репрезентации и эманацией души (связи души с дыханием многообразны и подробно описаны, здесь нет нужды на этом останавливаться). В частности, дыхание является признаком жизни именно потому, что свидетельствует о присутствии души в теле. Поэтому обозначение душевных состояний при помощи слов с основой дых-/дох-/дух- (таких как вдохновение)[29] исходно не содержит метафорического переноса «тело»→"душа", характерного для большинства обозначений эмоциональных и психических состояний (ср. душа болит; жар душщ душевные раны и т. п.),[30] а апеллирует непосредственно к образу человека в языковой картине мира. Тем не менее вопрос о направлении семантической производности между значениями «отдохнуть телом» и «отдохнуть душой» представляет определенные трудности; мы вернемся к нему после обсуждения всего списка значений.
А. Б. Пеньковский выделяет у глагола отдохнуть два значения:
(І) «преодолеть состояние задыхания; восстановить дыхание, отдышаться» (это же значение имеется у вздохнуть) [Пеньковский 2005: 80];
(Іа) "восстановить душевные силы, успокоиться" [Там же: 88–89].
Оба эти значения при более детальном анализе оказываются неоднородны. Рассмотрим следующий пример из указанной работы (с. 88):
(2) Для шутки камешек лукнул / И так его зашиб, что чуть он отдохнул [И. Дмитриев. Два голубя].
Это предложение призвано иллюстрировать значение I; однако здесь, очевидно, речь идет не от том, что голубь отдышался после состояния задыхания, а о том, что он чуть не умер – причем не от удушья, а от удара. Тем самым здесь связь с дыханием состоит только в том, что дыхание есть непременное условие жизни, а прекращение дыхания означает смерть. Эту идею выражает, например, глагол издохнуть (букв, «испустить дух»), при этом его современное значение, как и значение глагола отдохнуть в примерах (2)—(6), не связано с дыханием. Таким образом, отдохнуть в приведенном примере означает что-то вроде «(снова начав дышать) вернуться к жизни (из состояния, пограничного между жизнью и смертью)»; будем называть это значением II.
Заметим, что говорить о восстановлении нормального дыхания можно в двух разных случаях: когда этому предшествует слишком интенсивное дыхание (как в случае быстрого бега или возбужденной речи – значение I) и, наоборот, задержка дыхания – как в случае обморока или другого пограничного состояния (значение II), а также страха и напряженного ожидания (значение III, см. ниже).
Приведем другие примеры реализации значения II:
(3)…с одним нахалом казаком, которого за насмешки я хватил неловко по голове нагайкою… да, к счастию, он отдохнул [M. Н. Загоскин. Юрий Милославский, или русские в 1612 году (1829), ruscorpora];
(4) Лжедмитрий. Мой бедный конь! (…) / Послушай, может быть, / От раны он лишь только заморился / И отдохнет. Пушкин. Куда! он издыхает. [Пушкин. Борис Годунов];
(5) Я подумал, что дедушка умер; пораженный и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как взлез на тетушкину кровать и забился в угол за подушки. Параша, оставя нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее; но Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал было томиться, но опять отдохнул [С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука (1858), ruscorpora].
Глагол отдохнуть в этом значении встречается также и в несов. виде (отдыхать) – но лишь в тривиальном (итеративном) значении, ср.:
(6) Итак, из всего мною сказанного следует заключить, что есть какие-нибудь другие условия, при содействии которых дохнет рыба под льдом, но что независимо от этих причин рыба оmдыхаеm, если будет увеличено сообщение воды с атмосферическим воздухом [С. Т. Аксаков. Записки об уженье рыбы].
Значение, которое толкуется А. Б. Пеньковским как «восстановить душевные силы, успокоиться», также распадается на два. Действительно, приводимые им примеры типа (7) демонстрируют значение «восстановить душевные силы», оставшееся практически неизменным (см. значение V ниже).
(7) Но угорел в чаду большого света / И отдохнуmь убрался я домой [Пушкин. Послание к Горчакову].
Однако другие примеры А. Б. Пеньковского соответствуют лишь второй части толкования («успокоиться»), и при этом его можно было бы сформулировать несколько точнее: что-то вроде «успокоиться, убедившись в том, что опасность миновала» (значение III), ср.:
(8) Целое утро провел он в волнении, чуть было не принял приезжего купца за секунданта и отдохнул только тогда, когда лакей принес ему письмо от Стельчинского [Тургенев. Затишье];
(9) Эй, смотри, сын! ей богу отделаю тебя батогом так, что до представления света будет болеть спина (…). Сказавши это, Бульба (…) поворотился на другую сторону и заснул. Андрий отдохнул [Гоголь. Тарас Бульба, ред. 1835 г.].
Здесь описывается ситуация, когда человек чего-то боится и при этом как бы «затаил дыхание», напряженно ожидая развязки. Когда он узнает, что опасность миновала, он как бы делает выдох, ср. вздох облегчения. Существует даже междометие уф-фф или фу-уу, имитирующее звук выдоха и выражающее в точности это значение («Пронесло!»). Ср.:
(10) – Фу, братец, как ты меня напугал, – проговорил Заруцкий, садясь на канапе, – насилу могу от дохнут ъ! [M. Н. Загоскин. Вечер на Хопре (1834), ruscorpora];
(11) «Ей, может быть, нравятся цветы, верховая езда, невинные развлечения, а не сам граф? Да положим даже, что тут есть немного и кокетства: разве это не простительно? другие и старше, да бог знает что делают». Он отдохнул, луч радости блеснул в душе [И. А. Гончаров. Обыкновенная история (1847), ruscorpora].
Отличие употреблений типа (8)—(11) от (7) состоит еще и в том, что в (7) глагол отдохнуть описывает предельный процесс, а в (8)—(11) – моментальное событие; к аспектуальным свойствам этого глагола мы еще вернемся.
Близкое значение представлено и в следующей группе примеров с собирательным субъектом:
(12) Дума сделала для них то же, что Василий сделал для новошродцев: возвратила им судное право. Целовальники, или присяжные, избираемые гражданами, начали судить все уголовные дела независимо от наместников, к великой досаде сих последних, лишенных тем способа беззаконствовать и наживаться. Народ отдохнул во Пскове; славил милость великого князя и добродетель бояр [H. М. Карамзин. История государства Российского: Т. 8 (1815–1820), ruscorpora];
(13) Москва была освобождена Пожарским, польское войско удалялось, король шведский думал о замирении, последняя опора Марины, Заруцкий, злодействовал в отдаленном краю России. Отечество отдохнуло и стало думать об избрании себе нового царя [Пушкин. Конспект предисловия Ф. Н. Глинки к поэме «Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой»].









