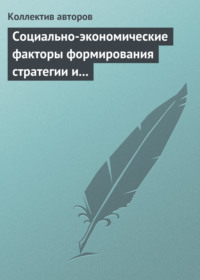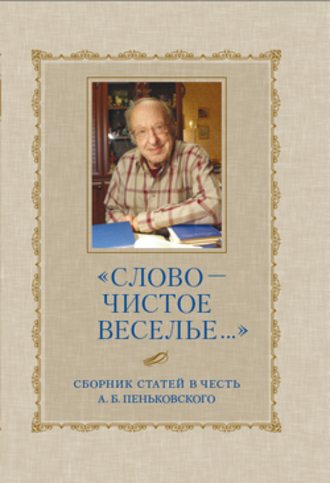
Полная версия
«Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского
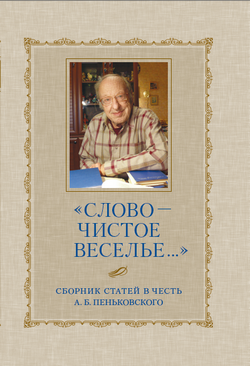
Коллектив Авторов
«Слово – чистое веселье…»: Сб. статей в честь Александра Борисовича Пеньковского
Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для тайны и через слюду обыденного смысла просвечивает их второй смысл…
В. ХлебниковВведение
А. Ф. Журавлев
Степень качества
Профессору Александру Борисовичу Пеньковскому за восемьдесят.
Не стану всплескивать руками, мол, не верится.
Верится – ведь знаю я его уже не один десяток лет. Восьмидесятилетний его рубеж хоть и был новостью, но вычислимою, ожиданною.
Каждый раз неожиданным, вопреки времени и копящемуся опыту контактов с Александром Борисовичем – житейских, приятельских или же ученых, академических, – оказывается он сам.

Человека, не знающего Пеньковского, могут удивить уже некоторые рубежные вехи в его интеллектуальной биографии. Студентом (сначала авиационного института в Казани) он становится необычно рано, в 16 лет: последние три класса средней школы он ужал в один год. При таком старте естественно предположить быстрый карьерный рост в науке. Но нет, кандидатская диссертация (по фонетике брянских говоров) защищена им была поздно – только в 40 лет. Но зато официальный оппонент Варвара Георгиевна Орлова, авторитетнейший и строгий судия, отдавая должное исключительной добросовестности и требовательности соискателя к самому себе, оценила ее соответствующей по уровню докторскому сочинению. Нынче кандидатская диссертация рассматривается как квалификационная работа, едва ли не как письменный экзамен, и мы привыкли к стремительной инфляции суперлативов, а тогда (1967) такой высокой оценки могло заслужить только выдающееся по своим научным достоинствам разыскание.
Пеньковский – замечательный вузовский преподаватель, блистательный лектор. Этот талант Александра Борисовича я мог оценить, несколько лет подряд исполняя обязанности председателя государственной экзаменационной комиссии на филологическом факультете Владимирского педагогического института (теперь университета). Заглянув в соседнюю аудиторию, где Пеньковский давал заочникам предзачетную консультацию, заслушивался разинув рот. Лингвистические вещи, относящиеся к педвузовскому безусловному тривиуму и которые я с некоторым самомнением считал скучноватыми и понятными как облупленное яйцо, представали вдруг в новом свете, с неочевидными связями и вовсе не такими тривиальными, как казалось еще полчаса назад. Я не знаю, записывались ли студентами институтские лекции Александра Борисовича на магнитофон или диктофон (теперь эта практичная манера повсюду в большом ходу), но думаю, что если бы такие записи нашлись, их, перенеся на бумагу, можно издавать в неправленом виде: настолько хороша и логически безупречно выстроена устная, лекторская речь Пеньковского. Его доклады на конференциях и симпозиумах собирают ценителей виртуозного красноречия и великолепной логики.
Пеньковский – превосходный исследователь. Александр Борисович написал, наверное, меньше, чем мог бы: перечень его трудов включает около полутора сотен названий. Это сейчас, оставив преподавательскую деятельность (и развязав себе руки компьютером, что тоже немаловажно), он наконец расписался и выпустил за семь лет, с 1999 по 2005 год, три книги (одна из которых – двумя изданиями), а прежде педагогическая каторга отнимала пропасть сил и времени, не говоря уже о шести годах, проведенных в общей сложности на полях страны родной (ежегодная преподавательская повинность надзора за студентами на сельхозработах). Писать приходилось выкраивая немногие свободные вечера, в лучшем случае каникулярные недели. Но ведь вовсе, мы знаем, не длиною списка публикаций измеряется значимость ученого.
Уже по самой принадлежности в прошлом к преподавателям педагогического учреждения Александру Борисовичу приходилось иметь дело буквально со всем циклом лингвистической русистики – от диалектологии и исторической грамматики до анализа поэтической речи и современной коммуникации. Наверное, и эта отчасти вынужденная экстенсивность не могла не сказаться благотворно на качестве наблюдений и идей Пеньковского, которые, при любой конкретности разбираемой задачи, всегда вписаны в объемный контекст более общих интересов и фундаментальных установок. Они не замыкаются в узких схемах, а замешены на умении улавливать перекличку далеких проблем, видеть единство в разном и, наоборот, неповторимость каждой составляющей в однородном ряду фактов и явлений. Диалектология, история языка, современный литературный язык, теория нормы; фонетика, фонология, орфоэпия; морфология, синтаксис, грамматическая семантика, теория текста, пунктуация; лексика и лексическая семантика, терминология, фразеология, ономастика (антропонимия), теоретическая лексикография; язык фольклора, язык художественной литературы; герменевтика, литературоведение (прежде всего пушкинистика), культурология… – вряд ли этот список областей русской филологии, к которым прикасался своим пером Александр Борисович, можно найти исчерпывающим.
Перечислять интеллектуальные достижения крупного исследователя, не только беглым очерком, но и в подробном изложении, – дело не очень благодарное: всегда есть опасность что-то упустить, какую-то мысль недооценить, о чем-то для автора существенно важном, но не развившемся в пространный текст, не вспомнить. Десять лет назад попытку – в перечислительной манере – очертить круг основных идей Пеньковского и научных прорывов, им осуществленных, предпринял проф. Владимир Иванович Фурашов в сборнике «Филология» (Владимир, 1998), посвященном Александру Борисовичу. Увы, вступительной статьи в половину печатного листа для этого оказалось явно недостаточно. Более или менее полно представить конструктивные идеи, убедительные теоретические построения, открытия, находки, существенные уточнения, сделанные или намеченные в трудах Пеньковского, можно лишь внимательно прокомментировав чуть ли не все его публикации. Каждая его статья, не говоря о книгах, несет в себе острый момент научной оригинальности: это может быть выдвижение совершенно нового предмета для исследования (скажем, семантической «категории чуждости» в русском языке или семантической «категории масштаба», описываемой в его последних работах) либо предложение принципиально нового взгляда на предмет, понимание которого, казалось бы, пересмотру уже не подлежит (типология переходных говоров, фонологическая интерпретация фонетических долгот гласных, степени качества прилагательных, семантика наречий как особой языковой подсистемы, интерпретация системы сочинительных союзов, генезис безличных предложений, функциональная системность русской пунктуации, «сверхтропеический» статус собственных имен в художественном тексте… – продолжать можно долго). Многие посеянные им идеи могли бы стать основой особенных научных направлений.
Пеньковский – необыкновенный читатель. Александр Борисович прочитал, с карандашом в руках, постоянно делая выписки, кажется, всю русскую литературу девятнадцатого столетия и его окрестностей. Не только всю так называемую классику, от Державина и Карамзина до Чехова и, прости господи, Боборыкина, но и чуть не всю мемуаристику, «толстую» журналистику, политические, исторические, эстетические сочинения, изданную частную переписку заметных людей и проч. и уж во всяком случае всё без исключений, что было издано в пушкинскую эпоху. Будучи при этом, замечу, лингвистом – не литературоведом и не историком идеологических эволюций России, а именно лингвистом, исследователем языка. Вооруженный какой-то необычной лингвистической оптикой, умея вчитываться в бесконечно вроде бы знакомые строки, он предъявляет нам другого Пушкина – заставляя понимать его иначе, показывая текстуальные и смысловые бездны, о которых мы не подозревали, рисуя его положение в истории литературы и его роль в истории литературного русского языка в неожиданном, спорном, но от этого еще более интересном ракурсе.
В новейшем пушкиноведении А. Б. Пеньковский стал основоположником целого направления – лингвистической (или филологической) герменевтики, то есть такого подхода к текстам художественной литературы, при котором лингвистические данные используются не для построения истории языка и даже не для изучения языка писателя, а для истолкования «темных мест», которыми, как выясняется, изобилуют классические произведения. Опираясь на обширный, тщательно собранный языковой материал, Пеньковский показывает, как следует понимать тот или иной пушкинский фрагмент и откуда происходят ошибки интерпретации, свойственные нашим современникам. Вот здесь-то и пригождаются экстраординарные способности Пеньковского-лингвиста, которого отличает необычайная чуткость к малейшим, обычно не замечаемым расхождениям между нашими языковыми нормами и нормами пушкинской эпохи, к принципиальным, но не улавливаемым большинством читателей (в том числе читателей-профессионалов) категориальным различиям между нашим языком и языком Пушкина.
Пеньковский – увлекательный собеседник: умный, тонкий, с редчайшим чувством юмора, с непредсказуемыми ассоциациями и репликами «по поводу», деликатный по отношению к иному мнению, умеющий слушать и слышать. Это подтвердят все, кому доводилось вступать с ним в разговор. Я с огромным удовольствием вспоминаю долгие наши беседы – в прокуренном ли купе ночного вагона, везущего нас в Тамбов, на конференцию по грамматической семантике; на пахнущей ли тыквами и сухими травами «пеньковской» кухне, под довольное урчание дородного кота Мироши, который уткнулся в колени Александра Борисовича; во время ли прогулок по зеленому Козлову Валу во Владимире; по млеющим ли от нежного сентябрьского зноя улочкам Ужгорода… Но тут речь, кажется, начинает приобретать личные интонации, и я умолкаю.
Лежащий перед читателем сборник – дань уважения его авторов к Александру Борисовичу Пеньковскому, замечательному ученому, талантливому учителю и притягивающему к себе человеку.
А. А. Шунейко (.Комсомольск-на-Амуре)
Просветительский пафос в упаковке мажорной шутки. Речевой портрет А. Б. Пеньковского, созданный его учениками-филологами
Живое обаяние неповторимой и милой в своей дивной индивидуальности речи Александра Борисовича Пеньковского известно всем, кто с ним знаком. А знакомых много. И их количество (что важно в рамках темы) определяется не только научным авторитетом, глубиной аналитических прозрений, впечатляющим объемом сделанного и позитивными человеческими качествами, но и характером самой речи Александра Борисовича, которая притягивает и запоминается, создает вокруг себя особое коммуникативное пространство, мягко, но властно подчиняющее себе каждого, кто с ним соприкасается или оказывается в него вовлечен.
Чтобы объективировать настоящий портрет, я (форма автономинации продиктована сказанной однажды А. Б. фразой «до мы надо дорасти») решил не ограничиваться собственными эскизными набросками и обратился к людям из круга живого общения А. Б. с вопросами о приоритетных сторонах его речи. В ответ получил достаточно большую совокупность оценок речи (в терминологии Б. С. Шварцкопфа) и сконструировал из них инвариантные идеостилевые характеристики (в терминологии В. П. Григорьева), снабдив их прагматическими комментариями и выявив доминанту (она в заглавии).
Семантика (тематика) и синтагматика речи
С точки зрения широты или узости (А. Б. любит называть обязательно оба члена оппозиции, в чем реализуется его, столь редкое теперь, стремление к буквальной точности) количества затрагиваемых в процессе разговора тем существует два типа собеседников (повествователей): монотематические и политематические. Первые в любой ситуации неофициального бытового (и не только) общения всегда стремятся инициировать какую-либо одну тему или свести любой разговор к ней (о рыбалке, о машинах или о детях, о покупках). Таких людей настолько много, что языковое сознание выработало для них специальную характеристику: у кого что болит, тот о том и говорит. Вторые практически никогда одной темой не ограничиваются, одна тема ими не переносится из ситуации в ситуацию. Например, в размышлениях о поэтике бытового поведения В. М. Живов довольно четко сформулировал доминантные темы разговоров двух значительных филологов: Ю. М. Лотман повествовал преимущественно о военных годах, Л. Я. Гинзбург – о человеческих слабостях. Очевидно, что Ю. М. Лотман говорил не только о войне, а Л. Я. Гинзбург – не только о слабостях, но именно это, по авторитетному свидетельству, были для них предпочтительные темы разговора, следовательно, их можно отнести к числу монотематических повествователей.
В речи А. Б. аналогичного семантического центра (или повествовательной доминанты) выявить нельзя. Это существенный признак, раскрывающий особенности организации языкового материала, за которыми особенности языкового сознания. Практика многолетнего (благодарного и часто восторженного) общения с А. Б. не позволяет определить единой тематической сферы, любимого предмета разговора. У А. Б. доминирующая тема попросту отсутствует, он повествователь политематический, в речи которого представлена совокупность равнозначно важных по частотности упоминаний, степени заинтересованности и иным параметрам
Кстати отмечу, чтобы портрет помещался пусть и в пунктирно намеченной, но все же галерее, что, скажем, Б. С. Шварцкопф, В. П. Григорьев и Н. А. Кожевникова тоже, безусловно, относились к числу политематических повествователей с частично сходными и существенно разнящимися с А. Б. темами, но также без единой главной.
Бытовая речь А. Б. – веер (калейдоскоп или пасьянс) тем, равномерно и прихотливо соединяющихся между собой и раскрывающихся в зависимости от самых разных коммуникативных причин. Дробить их можно с различной степенью детализации, а на наиболее абстрактном уровне определить так: ситуации из жизни, гастрономические и застольные дела, в глубины истории, филология (и две факультативные – дача и поездки за рубеж). В реальном повествовании эти темы оказываются во взаимодействии и часто чередуются по принципу семантической соположенности.
Про жизнь свою и близких людей А. Б. (в этом он очень похож на Б. С. Шварцкопфа и В. П. Григорьева) говорит постоянно. Как правило, в центре повествования не сегодняшний день и не ближайшее прошлое, а уже некий отстоявшийся опыт. Это жизнь, ставшая историей или запечатленная в ней; это реальная история через действия ее участников. С тем же постоянством, с каким, например. Н. А. Кожевникова обращалась к двум темам – истории Института русского языка в лицах и архитектуре Москвы в персоналиях, А. Б. воспроизводит разнообразные случаи из жизни. Эти случаи всегда информационно полноценны, в них есть много поучительного, обязательно смешного и часто таинственного.
Они устойчиво совмещают в себе несколько модальных планов, так что в зависимости от интонации акцентируется какой-нибудь один. А все остальные его поддерживают. Все эти бытовые зарисовки погружают в эпоху и дают живое ощущение времени. Таких замечательных и ориентированных на бытовой колорит рассказов множество, например: О том, как на послевоенном рынке его учили выбирать и покупать махорку. О студенте из первого выпуска, который так и не понял, почему он должен называть меня на Вы. О родственнике, ученом из академического института, и ведре вареной картошки. О старой цыганке с когтистой лапой совы на иссохшей груди, о том, что она ему посулила и как это сбылось. Об общении с продавцами в магазинах.
Во всех этих рассказах делается неявный, но обязательный акцент на подробности, которые усиливают достоверность, а перечисление деталей и воссоздание общего антуража при частных вставках погружают собеседника в воспроизводимую среду. В силу этого рассказы приобретают особый вид документированных исторических свидетельств, которые одновременно поражают своей достоверностью и привлекают отсутствием научной сухости и лобовой фактографичности. Они, будучи по природе документальными, напоминают сценарии игрового кино, где визуализация жеста и копирования играют очень существенную роль. Собеседник становится зрителем, на время погружающимся в описываемую среду.
Внешне все эти рассказы ориентированы на украшение речи, поддержание разговора или концентрацию внимания собеседника; они имеют вид легких иллюстраций, вставленных между делом (среди прочего). Но при этом наделены очень высокой мерой поучительности, которая оказывается чрезвычайно разнородной. Это и поучительность факта, и собственно нравственная поучительность, которой А. Б. не чужд, и поучительность языкового материала. С одинаковым успехом примеривая различные языковые маски, рассказчик дает собеседнику объемное представление о широте и разнообразии речевых впечатлений, погружает его в стихию речи в ее самых различных (в том числе и экзотических) проявлениях.
Совокупность рассказов можно сравнить с усовершенствованной фонохрестоматией, куда собраны (где бережно сохранены) показательные формы индивидуальной речи; знакомство с ней развивает набор речевых представлений и навыков собеседника. Возникает впечатление, что живая русская речь, сказанная когда-то в иной среде, продолжает свою трансляцию, звучит не слабым эхом, а проходит сквозь время в своей первозданной четкости и колоритности. Языки сельской базарной площади и городского магазина, университетской аудитории и академического коридора, шумной улицы и тихой деревенской избы обретают в огласовке А. Б. вид структурированного как гипертекст полилога.
Очевидно, что для создания такого полилога недостаточно одной хорошей языковой памяти. Необходим еще постоянный интерес к речевым формам, совмещенный с целостным представлением о речевой стихии, то есть качества, которыми А. Б. наделен в полной мере.
При этом такие рассказы предполагают еще один эффект: диктуют собеседнику особый тип восприятия рассказчика – приподнимают фигуру самого автора как соучастника или живого участника, как человека с очень богатым и значительным жизненным опытом, мудрого в житейском смысле, много повидавшего и живо воспринявшего события. Опыт истории ассимилируется с опытом человека, в результате трансформирующегося в лицо историческое.
Думаю, если бы у А. Б. было желание, эти рассказы вполне можно издать отдельной книгой.
Кулинарные темы, как правило, локализуются застольными и дачными беседами. Интересно в этой связи, что А. Б., считая себя кухонным человеком, любит подчеркивать творческий характер работы на кухне, где для приготовления блюд нужны вдохновение и озарение не в меньшей мере, чем в науке. Это также одно из проявлений его неформатности.
Примеры реализации темы: Рецепт знаменитой сосновой настойки, в основе которой слои свежих сосновых побегов и сахара, с описаниями ее цвета. Рассказы о том, как приготовить французский луковый суп или фаршированную рыбу. Рассуждения о том, что овощное ассорти необходимо закатывать так, чтобы можно было поставить на стол прямо в банке и все это выглядело красиво. Экскурсы в проблему качества самогона. Восхваление варенья из жимолости и из ранета. Общие размышления о том, что мужчина должен уметь готовить сам. Нормативные указания – нельзя пить коньяк как водку и т. д.
В этих рассказах голос А. Б. не совмещается с речевыми масками и демонстрирует повествователя напрямую. Поэтому очень интересно, что в них доминируют слова из семантических полей цвета, запаха и качества. Соединяясь между собой, они создают особые вербализованные кушанья. Не только возбуждающие аппетит, но и насыщающие.
Примечательно в этой связи, что одна из слушательниц лекций А. Б., никогда не сталкивавшаяся с ним в быту (и далекая от гастрономических изысков), так оценила его публичную речь, оговорив, что восприятие базируется на двух метафорических рядах:
Первая метафора – гастрономическая. А. Б. говорил со вкусом: неспешно, обстоятельно, с удовольствием. Он наслаждался, смаковал слова, приправлял их самыми неожиданными контекстами, извлекал из них самые изысканные семантические ноты. Добавлю к этому, что слушать А. Б. было очень вкусно и питательно. А. Б. был щедр, он всех приглашал к пиршественному лекционному столу, надеясь, что публика сможет оценить по достоинству красоту и тонкий вкус подаваемых блюд.
Конкретный тематический план перешел в модальность речи, наложился на несвязанное с ним повествование, воплотился в ее смысловой и интонационной плоти, создал эффект пиршественного наслаждения. Вероятно, это возможно только в том случае, когда сам процесс речи начинает восприниматься как наслаждение. Осуществляется перенос семантики в паралингвистические сферы или конкретная семантика замещается таким способом ее воплощения, ассоциативный план которого оказывается тесно с ней связан. Эта любопытная трансформация возможна только в случае смены сегментного способа выражения на суперсегментный.
Исторические экскурсы, то есть обращения не к личной, а к общей истории, в речи А. Б. формально реализуются в двух типах сообщений: свидетельства из мемуарной литературы и исторические анекдоты. Мемуарная литература – едва ли не самый любимый круг чтения А. Б. (для сравнения – Б. С. Шварцкопф больше всего любил приключения и детективы); есть здесь предпочтительные авторы, в основном конца XVIII – начала XIX века, например А. Т. Болотов.
Такие сообщения, как правило, носят актуальный характер и связаны с более широкой темой какого-либо разговора. Благодаря упоминаниям исторических фактов, лиц и событий, проявленных через исторические анекдоты или мемуарные свидетельства, рассказчик актуализирует различные времена (как правило, российской истории), выступая как составная часть их всех, уверенно ориентирующийся в них субъект. К российской истории прибавляется библейская.
Примеры реализации темы: анекдоты времен царствования Екатерины II и Александра I, случаи из жизни московских купцов, история цензуры, жизнь литераторов, анекдоты про М. Светлова и т. д.
Обращения к сюжетам этого тематического плана могут выполнять еще две специфические функции: собственно просветительскую и ориентационную. Озвучивая поучительные страницы истории, А. Б. расширяет круг знаний собеседника. В тех же случаях (что бывает нечасто), когда этот круг соизмерим с объемом знаний самого А. Б., упоминания выступают в качестве метединства уровня компетентности или единиц некоего общего языка, знаменующего сходные характеристики в способе мировидения и восприятия реальности.
Если рассказы из жизни создают облик мудрого и знающего в житейском смысле человека, то анекдоты добавляют к этому образу эрудицию и общие знания компетентного ученого. В результате возникает многогранная фигура, совмещающая в себе бытовую мудрость с мудростью исторической.
Филологические размышления (А. Б., как и В. П. Григорьев, не приветствует формального подразделения единого филологического знания на лингвистику и литературоведение) – также одна из доминирующих тем, не локализованная пространственными или временными условиями. Они включают в себя оценки ученых и идей, концепций и взглядов, фактов и способов их подачи, интерпретаций и мнений, сложившихся стереотипов и новаций в самом широком диапазоне, отражающем характер научных поисков и смежные с ним области.
В разговоре о филологии преобладает стремление поделиться не только фактическими знаниями, но и собственными наблюдениями. Щедрость активного и постоянного собирателя материала – одна из характеристик А. Б., делающая его своеобразным культурным антонимом скупого рыцаря. В арсенал обязательных умений университетского преподавателя входит способность (далеко не у всех присутствующая) придумывать новые исследовательские темы. По тому, какие именно темы наставник дает своим ученикам, без труда можно определить его квалификацию: степень разнообразия и мера оригинальности – прямой показатель его исследовательских потенций и широты взгляда. В этом смысле А. Б. – явление уникальное, и не только потому, что предлагаемые им темы всегда интересны, но и потому, что это предложение он осуществляет не только в рамках формальных образовательных процедур (когда необходимо по должности), но и вне их.
Он и в свои уже достаточно высокие годы сохраняет живость умного восторженного юноши, который говорит: посмотри, как это интересно. Пространство языка перед его глазами (на его слух) выступает как область, требующая исследования по необходимости своего существования. И А. Б. в это исследование стремится вовлечь как можно больше народу. Он не просто умеет изредка замечать, а постоянно видит то, что нуждается в исследовании. Думаю, что при желании можно даже сформулировать какой-либо коэффициент генерирования идей. У А. Б. показатель этого коэффициента будет самым высоким; отмечу, что высоким коэффициентом генерирования идей отличались также В. П. Григорьев и Б. С. Шварцкопф, у последнего были даже специальные тетради, куда он записывал только темы.