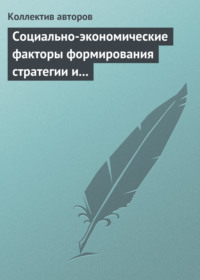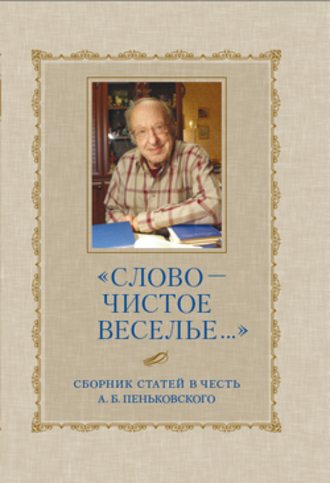
Полная версия
«Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского
Сам же он при реализации контакта или при его организации демонстрирует постоянную расположенность к общению, отсутствие коммуникативной преграды в любой ситуации и реализует стратегию контактного взаимодействия. Он всегда продуцирует открытую речь – не «между нами», не «на ушко», а прямо и открыто, то есть ведет себя как человек, которому нечего и не перед кем скрывать. При этом открытую речь часто сопровождает эффект рождения мысли, установка на выявление, а не на начетничество. Отметим, что эта установка парадоксально связана с доминированием в речи констатаций.
Связанные с координацией с собеседником вопросы находятся в сфере размышлений А. Б., например один из его рассказов воспроизводит разговор директора академического института с рабочими. Уже отмеченное выше умение ранжировать свою речь в функциональном плане очевидно предполагает способность координировать свое поведение в зависимости от типа собеседника. Способы координации располагаются между двумя противоположными точками: абсолютное дистанцирование (разговор с пьедестала) и полная подстройка (принятие манеры собеседника). А. Б. всегда находится в центре, ему одинаково чуждо и первое и второе. Он подстраивается дистанцируясь и дистанцируется подстраиваясь.
Он не навязывает, а предлагает тип совместного коммуникативного поведения, который оказывается комфортным и приемлемым для обеих сторон. А уже вслед за этим в рамках и тональности разговора на равных организует речь так, что в ней главенствующим является именно предмет разговора, а не характеристики собеседников. То есть он умеет отстранить личные амбиции, такое понятное многим людям желание быть первым, а сконцентрироваться на сути речи. Здесь и происходит органичное втягивание в предмет разговора:
Мыслил вслух, втягивал в процесс размышлений.
А все это подкрепляется тем, что мера его личностной заинтересованности передается собеседнику, заражает его и ко многому собеседника обязывает. Она не оставляет ему выбора или возможности уклониться. Собеседник буквально оказывается в мягком плену предложенных обстоятельств. И не может выйти из этого плена и потому что он приятен, и потому что он полезен, и потому что нет причин выходить, а сам выход может обернуться проигрышем для собеседника.
Создание особого кооперативного или конвенционального (внешне равноправного) взаимодействия, в рамках которого главным определяющим фактором оказывается нечто большее, чем реальные собеседники (мысль, идея, поступок, чувство, в принципе, – любой обсуждаемый вопрос), – редкое искусство, которым А. Б. владеет в совершенстве. И умеет его передавать не через формальный метод, а через конкретный пример, через сам процесс, разговор, в длительности которого осуществляется трансляция не только предметного, но и коммуникативного (методологического и практического) знания. Поэтому разговоры с А. Б. для любого собеседника практически всегда значительнее традиционно понимаемых бесед даже с очень осведомленным человеком. Именно этим во многом определяется магия речи А. Б. Не затрачивая видимых усилий для того, чтобы приподнять собеседника до своего уровня, и, одновременно, не играя с ним в поддавки (не приседая), он говорит: давай поразмыслим над тем, что важнее нас. И это важное обязывает ко многому, во всяком случае гарантирует благодарную реакцию собеседника.
Аналогичный эффект наблюдается и в лекционной практике.
Думается, что речь А. Б. обращена к идеальному адресату. Он предполагает в слушателе способность полного понимания, и потому лекционный монолог в его исполнении звучит как диалог с равным и интересным ему собеседником. А посему самооценка моя во время лекций А. Б. стремительно повышалась, и лишь некоторое время спустя, когда чары рассеивались, и я выходила из-под власти обаяния речи А. Б., приходило грустное осознание своего несовершенства;
Обращаясь ко всей студенческой аудитории, он видел в ней именно собеседника. Мы ему были интересны как собеседники, пусть и пассивные, жадно поглощавшие всё, о чем он говорил;
Когда я слушала его, то мне казалось, что он предугадывает мои мысли, но выстраивает их логично и оформляет красиво.
Думаю, что в данном случае речь идет не столько о предугадывании, сколько о внушении, о специфической способности говорить так, что собеседник сказанное другим воспринимает как свое. Для реализации подобного эффекта нужно обладать не только большой мерой убедительности, но и способностью органично проникнуть в языковое сознание собеседника, не разрушив его целостности.
В разговоре А. Б. постоянно стремится к уменьшению или сокращению дистанции при осуществлении коммуникативного контакта. Об этом говорят варианты продолжения предложенного разным людям начала фразы: «Собеседник для него…» «человек, причем уважаемый»; «зеркало, в котором он ищет отражение своих мыслей». Но при этом коммуникативная дистанция остается: «В разговоре с ним я чувствую себя, словно…» «одновременно как уважаемый коллега и послушная ученица»; «казалась себе иногда абсолютной дурой, а иногда по Левидову: "Как это мы с Толстым!"»; «естественно, как ученица». Сохраняющуюся дистанцию продуцирует рефлексия собеседника, соотношение характера речевого поведения А. Б. со своим собственным и выводы на этой базе.
При этом А. Б. всегда беспокоит, как и в каком качестве его воспринимают. Заботит не в том смысле, в каком выпендрежника беспокоит, произведено ли на публику необходимое впечатление, или женщину беспокоит, произведет ли должный эффект ее новый наряд. Беспокойство А. Б. – это беспокойство быть понятным и доступным, это беспокойство не за себя, а за сообщаемую мысль, за интеллектуальный или эмоциональный посыл и за собеседника. Всё по формуле Честертона: «Сам я никогда не относился всерьез к себе, но я всегда всерьез относился к своим мнениям».
Коммуникативная установка, устойчиво реализуемая А. Б., в целевом плане характеризуется исключительно перспективной направленностью. Речь ориентирована на здесь и сейчас только как на базу для того, что будет там и потом. Это особым образом реализованная в речи позиция, в соответствии с которой то, что говорится сейчас, будет иметь значение в грядущем и значение самой речи, её эффективность определится наличием или отсутствием некоторого, не обязательно вербализуемого, результата в будущем. Такая особая темпоральная установка на будущее проявляется самыми различными способами: от прямых указаний до прогнозирования некоторых необходимых действий для достижения результата. Примеров того и другого множество. Шутливое замечание во время лекции: «Шумите, шумите, у меня впереди вечность». Размышления о том, какие поколения будут воспитывать нынешние студенты, неоднократно озвученная им и Б. С. Шварцкопфом принципиальная перспективная нравственная установка: передашь другому.
Если я спрашивала о чем-то во время консультаций по диплому, то никогда не давал готовый ответ, говорил: «Ищи, думай». И находила, и думала. Даже если возникали какие-нибудь сомнительные или просто завиральные идеи, никогда не было снисходительно-высокомерной оценки, резкой отповеди.
Собеседник (студент) для него был не пустым сосудом, который он наполнял (причем до положенного программой уровня), а, скорее, растением, ростком, за которым нужен уход, внимание, забота, который нужно удобрять, а там, глядишь, и толк будет.
Эта перспективная темпоральная направленность в совокупности с ретроспективными темами создает особое коммуникативное поле растянутого времени. Получается динамичное актуальное «всегда». В нем находится А. Б., и в него же он незаметно комфортно помещает собеседника, продуцируя у него тем самым подсознательное понимание того, что жизнь не исчерпывается и не ограничивается «здесь и сейчас» (они второстепенны), и стремление соответствовать высокому доверию собеседника. В содержательном плане все это совмещено с проявлениями модальной полярности.
Все перечисленные характеристики в комплексе создают легкую значительность или значительную легкость, соединение основательного и подкрепленного имплицитно присутствующим объемом информации пафоса с шуткой. А. Б. умудряется умело балансировать на грани двух взаимоисключающих модальных планов (пафосного и ироничного), актуализируя их наиболее выигрышные стороны для компоновки некоего нового единства. Его речь – живой анализ мира и языка, ориентированный на собеседника, с актуализацией значимых категорий в их естественном речевом преломлении. Он умудряется осуществлять симультанную биполярную концентрацию: на предмете речи и ее форме, с одной стороны, и на собеседнике – с другой. Каждый думающий лингвист знает, насколько сложно это сделать. А. Б. это удается. И да способствуют ему Высшие силы в продлении его благородного служения.
I
Слово и смысл
Н. В. Перцов. Размышление о лексической семантике пушкинской поры и об одном ее «культурном мифе»
(над книгой А. Б. Пеньковского «Нина…»)[1]
Настоящая работа представляет собой исправленный текст статьи, в основном писавшейся восемь лет назад, осенью 2000-го и в начале 2001 года. Я предложил её тогда в «Вопросы языкознания», и хотя внутренние рецензии на работу были положительны, редколлегия сочла её не соответствующей тематике, освещавшейся в журнале. С тех пор работа покоилась в электронном виде, кочуя от одного моего компьютера к другому. Приношу читателям и юбиляру свои извинения за то, что я был не в силах по-настоящему учесть в новом тексте то, что произошло в отечественной филологии за прошедшие восемь лет – в частности, новые незаурядные достижения А. Б. Пеньковского на ниве изучения языка Пушкинской эпохи, а среди них – второе издание «Нины…» [Пеньковский 2003] и книгу [Пеньковский 2005]. [Второе издание, правда, присутствует здесь в виде постраничных ссылок, оформляемых в виде выражений «с. т/т), где с. – сокращение для слова «страница(-ы)», m – номер(-а) страниц(-ы) по первому изданию, а и – по второму; так же даются ссылки на примечания. ] Я всё же надеюсь, что основное содержание этой работы не утратило актуальности.
Еще одно предварительное замечание относится к режиму воспроизведения текстов, созданных в старом правописании. Я являюсь решительным сторонником аутентичности при таком воспроизведении в работах, обращенных к филологам (а не к массовому читателю): правописание несет значимую, функциональную нагрузку, оно не является чем-то посторонним, внешним для текста (вроде упаковки для товара), как утверждают иные филологи. (Этой проблеме посвящена моя статья [Перцов 2008]). Так следовало бы давать цитаты и в настоящей работе в случае доступности соответствующих источников, не боясь расхождений со случаями их недоступности. Не сделал я этого не только из-за нехватки времени: меня смущало смешение разных режимов воспроизведения текстов при моем собственном их цитировании и при вхождении их в цитаты из «Нины…». Поэтому в предлагаемой работе мне пришлось смириться с обычным режимом цитирования старых текстов в современном правописании, распространенным в нашей филологии и, с моей точки зрения, непринципиальным и некорректным в филологическом исследовании.
Наконец, последнее предуведомление. Я позволяю себе одну орфографическую вольность, отвечающую моему орфографическому вкусу: именно, отступая от принятого правила, я пишу относительные прилагательные, производные от личных собственных имен, всегда с прописной буквы — Пушкинский, Лермонтовский и т. п. (оставляя, разумеется, в цитатах написание источника).
Декабрь 2008 г.
На исходе прошлого столетия, в конце юбилейного Пушкинского года, на книжных прилавках Москвы появилась книга А. Б. Пеньковского с необыкновенно интригующим названием – «Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении» [Пеньковский 1999а] (далее – просто «Нина»). Небольшой тираж книги (1000 экземпляров) был раскуплен в течение трех-четырех месяцев, что нечасто бывает с филологическими изданиями. Таким образом, интерес к книге был очевиден; очевидно было и то, что она вызывала у читателей в высшей степени неоднозначное отношение. Через четыре года в том же издательстве «Индрик» вышло второе издание [Пеньковский 2003], превосходящее по объему первое более чем на семь авторских листов (на 119 страниц).
Книга А. Б. Пеньковского, состоящая из двух неравных частей (соотносящихся приблизительно в пропорции 1: 4), повествует о двух великих произведениях русской литературы – Лермонтовском «Маскараде» и Пушкинском «Евгении Онегине».[2] Среди имен, в них встречающихся, есть имя Нина. В «Маскараде» Нина – имя главного действующего лица. Вес этого имени в «Онегине» иной; во франкоязычном и русскоязычном облике оно встречается в двух местах, и оба раза это беглые упоминания: в пятой главе «Трике (…) смело – вместо belle Nina – / Поставил belle Tatiana» (строфа XXVII), в восьмой главе «(…) Она (Татьяна) сидела у стола / С блестящей Ниной Воронскою, / Сей Клеопатрою Невы; / И верно б согласились вы, / Что Нина мраморной красою / Затмить соседку не могла, / Хоть ослепительна была» (строфа XVI). Концепция А. Б. Пеньковского состоит в том, что за именем Нина стоит могущественный женский образ. Процитирую слова автора из заключительного раздела книги (с. 475/583), вынесенные также в качестве текстовой заставки перед титульным листом:
Решение загадки этого имени (…) сделало возможным открытие и реконструкцию сложившегося в русском культурном сознании на рубеже веков и сохранявшего власть над умами до середины XIX века «мифа о Нине». (…) Нина этого мифа – роковая женщина, которая, соединяя в себе рай и ад, небо и землю, ангела и демона, Мадонну и Содом, живет высокими, сжигающими ее страстями. Она богиня любви и служительница в собственном храме, «жертвенник, жертва и палач» одновременно. Неся гибель своим избранникам, эта новая Клеопатра готова погибнуть и сама.
Предупреждая возможное неправильное понимание и рискуя навлечь на себя недовольство некоторых читателей, я хотел бы сразу сказать, что считаю эту книгу значительным и ярким событием в филологической науке. Я думаю, что значение этого труда будет в должной мере оценено очень нескоро, что многие исследователи и люди, профессионально далекие от филологии, но испытывающие понятный интерес к Золотому веку русской литературы, воспримут это мое заявление как сильное преувеличение. Мне довелось столкнуться с резко отрицательным мнением о «Нине»; другие коллеги, находя в ней большие достоинства, в общении со мной отмечали ошибки и эмоциональное давление автора на читателя, захваченность автора собственной концепцией, фантастичность и недостаточную обоснованность некоторых его построений, категоричность ряда утверждений и отсутствие в ряде случаев необходимых показателей предположительной модальности, резкость по отношению к оппонентам, покойным и ныне здравствующим. Нередко я вынужден был соглашаться со справедливостью подобного рода упреков (о чем мне еще придется говорить). И все же общая оценка научного сочинения должна акцентировать не частные неудачи (как это нередко делается в нашей критике; см., в частности, постскриптум к настоящей работе), а тот вклад, который оно вносит в науку и культуру. В настоящей работе основное внимание я обращу не на слабости, а на достоинства «Нины», ибо в случае обсуждаемого труда этот вклад, как я постараюсь показать, весьма значителен.
В чем же он состоит? На мой взгляд, в выявлении семантических глубин языка Золотого века русской литературы. Это главное достижение А. Б. Пеньковского. Он демонстрирует существенные различия в семантике русской лексики Пушкинского и нынешнего времени, после чего становится ясно, сколь часто современный читатель, будучи заворожен прелестью поэтического повествования, впадая в иллюзию его полной понятности, скользит по строкам, «как дамы (…) по лаковым доскам», и не воспринимает те смыслы, которые имел в виду автор и которые были очевидны многим его современникам. Именно с лексико-семантических штудий, богато представленных в книге А. Б. Пеньковского, а не с разбора его концепции «мифа о Нине», мне – филологу-лингвисту – хотелось бы начать разбор этой книги.
Мы легко воспринимаем литературный язык Пушкинской поры. Для современного читателя нет заметных, осознаваемых затруднений при понимании не только выдающейся в отношении внешней прозрачности Пушкинской речи, но и вообще любых художественных или публицистических текстов Пушкинского времени. С некоторым не слишком серьезным преувеличением можно сказать, что мы осознаем сложности такого понимания не больше, чем сложности восприятия старой орфографии: в обоих случаях сохраняется весьма стойкое ощущение близости и понятности как языковой, так и графической системы. «Что-то слышится родное» многим современным читателям в старинном русском слоге, и порой мы его непринужденно присваиваем, не видя различий между нынешней поверхностной интерпретацией того или иного отрывка и тем содержанием, которое вложил в свои слова наш далекий предок. А. Б. Пеньковский обстоятельно и глубоко вскрывает семантическую специфику лексики Пушкинской поры. Обратимся к конкретным примерам лексико-семантического анализа слов, семантика или культурный ореол которых в определенных контекстах, как убедительно показывает автор книги, расходится с современным языком. «Нина» изобилует такими примерами.[3] Я представлю их в виде сжатых нестрогих описаний – с цитатами из «Нины», примерами или комментариями.[4]
СТРАСТИ. Это слово в ряде употреблений выступает не «как стандартная форма множественного числа к страсть «сильное напряженное, но не (обязательно) любовное чувство»» (с. 97/108), а как «специализированное любовное значение слова страсти» (с. 98/109), т. е. как plurale taiitum – обозначение «рокового, не внемлющего голосу разума и преступающего все границы (…) чувства к одному объекту, соединенное с душевными терзаниями, болью сердца (…)» (с. 100/112). «Страстей игру мы знали оба» (1-XLV). «Но чаще занимали страсти / Умы пустынников моих» (2-ХVІІ).
Следующие шесть слов – из концовки XXXVI строфы восьмой главы «Онегина»: «То были тайные преданья / Сердечной, темной старины, / Ни с чем не связанные сны, / Угрозы, толки, предсказанья, / Иль длинной сказки вздор живой, / Иль письма девы молодой».[5] Анализируя приводимые ниже абрисы словарных статей, читатель, можно надеяться, убедится, насколько превратно может быть проинтерпретирован этот отрывок современным языковым сознанием (что нередко наблюдалось в литературе).
ПРЕДАНЬЕ: в данном контексте «воспоминание» (с. 110/123, 416/481—482), а отнюдь не «устный рассказ, история…». «Приди; огнем волшебного рассказа / Сердечные преданья оживи» («19 октября», 1825). «Прилежно в памяти храня / Измен печальные преданья, / Ты без участья и вниманья / Уныло слушаешь меня» («Когда в объятия мои…», 1830).
ТЕМНЫЙ: «скрытый, тайный» – а не только «тяжелый, тяжкий, мрачный» (с. 110/ 122–123).
СТАРИНА: «прошедшее для кого-нибудь время, былое» (с. 109) [СЯП, т. IV: 346] – а не «старинные обычаи, нравы, привычки» (с. 108–109/121—122).[6]
СОН: «создание воображения» [СЯП, т. IV: 283], «поток бессодержательных, бессвязных, текучих мыслеобразов, беспорядочно сменяющих друг друга и чередующихся с живыми картинами, которые встают перед внутренним взором Онегина» (с. 111/124). Ясно, что Пушкин здесь имеет в виду не сон в его основном значении («физиологическое состояние покоя и отдыха…»), а нечто другое. В Пушкинскую эпоху слово сон начинает употребляться как франц. rêve «сновидение; мечта, греза» и приоборетает его двузначность (указание И. А. Пилыцикова); приведенное несколько вольное истолкование А. Б. Пеньковского можно рассматривать как развертывание его второго смысла («мечта, греза»).
СКАЗКА, а также ПОВЕСТЬ: «поток жизненных событий, хранящийся в чьей-либо памяти» – а не какие-либо другие значения этих слов (с. 112–114/125—127); в примечании 32/44 (с. 416–417/482—483) приводятся цитаты из Вяземского, К. Павловой, Пушкина, Лермонтова, убедительно иллюстрирующие такое словоупотребление, а также упоминаются употребления слова роман с тем же регулярным переносом и образ «книги жизни», восходящий к «Апокалипсису»; даются цитаты из Лермонтова и А. Григорьева с близкими образами — страницы прошлого, свиток прошлого и др.
ДЕВА: "молодая прекрасная женщина (в том числе замужняя)" (с. 136/151 и сл., 424/494). Этюд, посвященный слову дева, носит проблемный характер, и здесь мне не избежать обширного цитирования (с. 138/153):
(…) семантическая структура слова дева, как и у других таксономических терминов, обслуживающих поло-возрастную сферу (девочка, девушка, мальчик, юноша, отрок, женщина, мужчина…), представляет собой комплекс или пучок семантических признаков-компонентов, каждый из которых – один или в той или иной связке – может при определенных условиях, выдвигаясь на передний план, подавлять и погружать в тень все или некоторые другие. Так, в слове женщина в зависимости от контекста может актуализироваться только «пол», заслоняющий все остальные возможные признаки, включая и возраст, (…) или «пол + возраст» {женщины и дети), или, например, «пол + обусловленные им (…) те или иные типичные сущностные признаки „женскости“». Так, отвечая Вяземскому на его сомнения по поводу письма Татьяны, Пушкин писал: «… если, впрочем, смысл и не вполне точен, то тем более истины в письме; письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!» (…)/ Таким же образом в слове дева в пушкинскую эпоху на передний план либо выдвигались компоненты «пол» + «девственность» (…), либо, как это характерно для поэтического языка, все компоненты его значения, кроме «пола» и «возраста», оттеснялись на периферию, причем «женскость» была претворена в «женственность», а поэтические коннотации введены in media res семантической структуры и предстают нашему сознанию как «красота», «прекрасное», «прелесть», «очарование».
Эта цитата возвращает нас к плодотворным понятиям Ю. Н. Тынянова – лексическому единству и колеблющимся семантическим признакам слова [Тынянов 1965: 78 сл., 87 сл., 114 сл. ], – основательно забытым современной отечественной лексической семантикой, преимущественно занимающейся жестким членением слова-вокабулы на отдельные значения-лексемы и мало заботящейся об отражении их единства в рамках целого. В соответствии с семантической концепцией Тынянова слово предстает не только как совокупность отдельных лексических значений, но и как набор семантических признаков, из которых одни необходимы, актуализируются при любом употреблении слова, а другие могут выступать на передний план или, наоборот, подавляться. Так, если взять обсуждаемое слово дева, для него – в духе анализа А. Б. Пеньковского – можно выделить следующие признаки: «женский пол», «молодой возраст (условно – от 15 до 25 лет)», «незамужняя», «девственность», «красота». Первый признак необходим, а остальные четыре могут – в зависимости от языкового или ситуационного контекста употребления слова – актуализироваться или отсутствовать. Удивительным образом даже такой, казалось бы, неоспоримый признак, как «молодой возраст», может вытесняться контекстом; приведу пример такого вытеснения.
«Старец-колдун» в конце первой песни «Руслана и Людмилы», рассказывая Руслану о своей последней встрече с Наиной – «старушкой дряхлой» и «седой», – называет ее девой:
(…) «Скажи, давно ль, оставя свет, / Расстался я с душой и с милой? / Давно ли?..» – «Ровно сорок лет, – / Был девы роковой ответ: – / Сегодня семьдесят мне било (…)».[7]
А вскоре это наименование повторяет и сама колдунья, крича вослед убегающему финну: «О, недостойный! / Ты возмутил мой век спокойный, / Невинной девы ясны дни!» Тем самым, становится ясно, что, с одной стороны, здесь вытеснен признак «молодой возраст», а с другой – удержан признак «девственность» (в конце своей гневной тирады Наина усиливает упреки, называя беглеца «изменником», «извергом» и «девичьим вором»).
Таким образом, речь идет не о стандартном представлении слова в виде совокупности лексических значений, с возможной их иерархизацией, а о выделении в слове обязательных и факультативных компонентов. В некотором смысле существует единое слово дева, а различия между его частными употреблениями, имеющими разное содержание, описываются не в виде разных словарных значений, как это практикуется в обычных словарях и в большинстве семантических исследований, а посредством указания разных наборов актуализируемых семантических компонентов.
Я отдаю себе отчет в том, что в данном случае, возможно, выхожу за рамки реальных теоретических установок автора обсуждаемой книги, однако предлагаемые им примеры анализа лексических значений находятся в русле именно такого – инвариантного – подхода к описанию лексической семантики, за которым, как мне представляется, будущее.[8]