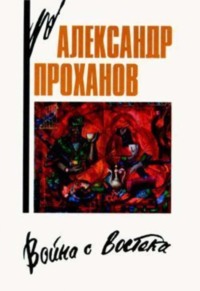Полная версия
Вознесение (сборник)
– Карманные расходы на локальный конфликт? – засмеялся Бернер, любуясь своим темпераментным собеседником, его пунцовым бутоном, черной кружевной рубахой, сияющими от восторга глазами.
– Согласись, любая война прекрасна! Нормальные люди ждут, когда она разразится, и стремятся на нее! Ибо есть эстетика войны, эстетика разрушения и крови! Я сделаю фильм об этой войне, и это будет метафора нашего времени! Дай денег на кино!
Бернер чувствовал яростную больную страсть этого красивого неуравновешенного человека. Мир, в котором они оба жили, был распадающимся миром, похожим на огромного, выброшенного на берег кита. Этот кит сгнивал, в нем открывались зловонные провалы, из которых изливались яды и зловонья гниения, выпучивались разбухшие внутренности, обнажались скользкие белые ребра. На туше дохлого гиганта сидели маленькие крепкие хищники – зверьки, насекомые, птицы. Вонзали свои клювы, зубы и хоботки в рыхлую падаль. Питались ее гнилыми соками. Бернер и этот красавец с черным жабо и розой были из числа этих хищников. Они нашли друг друга, нуждались друг в друге. Вместе, каждый по-своему, рвали рыхлые истлевшие волокна кита.
– Видишь ли, эта война – как булыжник, брошенный в наше политическое болото, – сказал Бернер. – Сразу возникнут волны и всплески, общество разделится на «за» и «против». Возникнет страшная путаница, сбой, нелепые союзы и расслоения. Мы должны воспользоваться этими всплесками, оседлать общественное мнение и повести его в нужном направлении. В этом твоя задача! Я дам тебе денег на «твою войну», но ты на эти деньги выполнишь «мою работу»!
Оба засмеялись, глядя друг на друга с наслаждением. Понимали, ценили друг друга, видели свое сходство и подобие, общность своих целей и совпадение путей до той неизбежной точки, когда один из них блистательно и вероломно предаст другого. Они разлетятся, обмениваясь проклятиями, в глубине души благодарные за этот временный великолепный союз.
– Поверь, – журналист приобнял Бернера за талию своей крепкой эластичной рукой, – то, что ты сделал для меня, я никогда не забуду. Я недавно купил еще одну лошадь, великолепную ганноверскую кобылку! Приезжай, посмотри!
– Приеду в твой манеж, покатаемся…
Они разошлись, провожаемые восхищенными взорами гостей. Теперь был черед Бернера подойти к тем столикам, где его поджидали. И первым, к кому он направился, не спуская взгляд с золотистых свечей, двигаясь по лучу, соединявшему его с сидящим в отдалении человеком, был его друг, закадычный и сердечный, Лев Вершацкий, банкир, богач, меценат, любитель утонченных развлечений и мастер крупнейших финансовых авантюр, создававших внезапные плотины и запруды на пути финансовых рек. Эти реки по его воле меняли русла, останавливались, взбухали, разрушали и опустошали обширные экономические пространства. Обрекали на засуху и вымирание зоны Севера, Сибири, Среднерусской равнины и, напротив, устремляясь на засохшие ландшафты, порождали цветение и бурный рост на Урале, в Тюмени, в портовых городах и окраинах. Несметно обогащали его банки и корпорации, создавая на руинах конкурентов банковскую империю Вершацкого.
Вершацкий был богаче и удачливей Бернера. Их дружба, длившаяся издавна, когда оба, скромные советские инженеры, осваивали системы компьютерного управления отраслью, – их нынешняя дружба была сложным сплетением симпатий, взаимной поддержки, ревностной зависти и соперничества. Причиняла Бернеру мучительное, непереносимое страдание, желание уничтожить друга.
Он и будет через несколько дней уничтожен. Ибо Ахмет, начальник безопасности Бернера, уже тайно следит за Вершацким. Наружка отслеживает места его пребывания, ищет щели и скважины в его обороне, просчеты и промахи его охраны, чтобы улучить несколько кратких минут и послать в него пулю снайпера.
Бернер подсел к столику, который занимали Вершацкий и его молодая жена, третья по счету, как и у самого Бернера. Красавица Натали была топ-моделью, чье очаровательное лицо, длинные ноги и высокая грудь прошелестели, промерцали по лакированным страницам модных журналов, загорались в аметистовых лучах уличных рекламных щитов.
Он подсел к столику, на котором красовался букет белых роз, посланных Бернером, – знак того, что он их видит, любит, непременно подойдет.
– Яша, сегодня ты просто в ударе! Эта мулатка, эта птица феникс! Ты превзошел себя самого! Дай мне ее напрокат, всего на два дня! – Вершацкий смеялся, радостно встречая друга. Протянул ему длинную смуглую ладонь. На его матовом бледном лице переливались нежностью и радостью миндалевидные глаза. Черные, отливающие стеклом волосы были расчесаны на косой пробор. Над красивым с горбинкой носом срослись густые синеватые брови.
– Не давайте ему, Яша, вашу птицу. Он ее вернет без перьев и в жареном виде, – томно, подставляя под поцелуй белую руку, произнесла Натали.
– Ни в чем не могу отказать Левушке! Птицу, рыбу, бегемота – все отдам! – ответил Бернер, целуя теплые, пахнущие духами пальцы.
Их интересы схлестнулись на чеченском нефтекомплексе. Империя Вершацкого пожелала проглотить нефтеперегонные заводы Грозного. Во многом преуспела, вложила огромные средства в подкуп чиновников, министров, мятежных чеченцев. Подготовила сложную политическую и финансовую схему, по которой группа чеченских нефтезаводов, месторождений и труб должна перейти к Вершацкому. Эта схема включала в себя возможность войны, однако предпочтительным выглядел вариант политический, с привлечением Грузии, Азербайджана и Турции. Огромная мощь, состоящая из денег, интеллекта, политической поддержки и работы спецслужб, казалась непреодолимой для Бернера. И он решил направить в их сплетение, в их нервный фокус просветленную оптику снайперской винтовки.
Отпуская теплую, плавно отлетающую руку Натали, Бернер смотрел на белый высокий лоб друга и видел на этом лбу маленькое, вырезанное пулей отверстие. Ему мучительно хотелось тронуть пальцем это место на лбу Вершацкого.
– Вот ты сказал – птица феникс! – Бернер запрещал себе думать о выстреле, который был ключевым элементом его стратегии и, подобно вторжению войск в Чечню, решал силовыми методами задачу, непосильную для политиков и финансистов. Он запрещал себе думать об этом, ибо знал сверхчеловеческую интуицию Вершацкого, который пользовался ей, как экстрасенс, в борьбе с конкурентами. – Ты сказал птица феникс! – отвлекающе сентиментально произнес Бернер. – А сколько раз мы с тобой, Левушка, сгорали и вновь возрождались из пепла!
– Да уж, пепла хватало! Этот первый провал, когда затеяли это чертово авторемонтное дело и нас накрыли менты. Не забуду следователя-бедолагу, брал деньги трясущимися руками с наколкой «СССР», – Вершацкий захохотал, и его сильное дыхание нагнуло пламя свечи.
– А когда мы тащили из Малайзии контейнер с компьютерами! Я закапал в глаза начальнику таможни бриллиантовые капли. Не знал, пропустит груз или поведет меня к прокурору. – Бернер обманывал интуицию Вершацкого, отвлекал его в сторону, как птица, прикидываясь раненой, припадая на крыло, отвлекает охотника от гнезда. – Это были, как говорят комсомольцы, «огненные годы»!
– А тот взрыв, который разнес на клочки нашу «Вольво»! Представляешь, Натали, мы должны были ехать вместе и вместе задержались на пару минут, зайдя в туалет. – Вершацкий взял руку жены и играл ее длинными, в перстнях, пальцами, словно это были четки. – До сих пор не могу понять, была ли это солнцевская группировка, которая боролась за недвижимость, или чеченцы, которые лезли в Москву.
– Кто бы там ни был, но через неделю хоронили двух солнцевских, а Казбека – чеченца – больше никто никогда не видел, будто он вдруг превратился в бетонный блок для фундамента на Юго-Западе, – хмыкнул Бернер.
– Знаешь, Натали, – Вершацкий поцеловал жену в белую длинную шею с тончайшей ниткой жемчуга, – никогда, покуда жив, не забуду поступка Яши. В девяносто первом, в августе, когда красные кретины ввели в Москву бронетехнику, Яша приехал за мной, за моими детьми и увез нас в Белоруссию, к знакомому егерю. Сам за рулем, а навстречу броневики, танки! Яшечка, этого я не забуду!
– Сколько пережито, Левушка, сколько уроков! Видно, бог благоволит нам. В девяносто третьем, когда Руцкого из Кремля турнули и этот чеченский спикер щелкнул себя пальцем по кадыку, показал, как киряет Ельцин, помнишь, ты мне сказал: «Собираемся, черт с ней, с собственностью. Жизнь дороже!» Мы, Натали, вдвоем улетели в Лондон, сидим в отеле, смотрим, как танки палят по красно-коричневым, и надираемся вусмерть! Такое, Левушка, не забывается! Это навечно! Сильнее всяких пуль!
Бернер сказал и испугался. Чуткие ноздри Вершацкого могли уловить тончайший аромат вероломства, исходивший от этих слов. Он закрыл глаза, как бы вспоминая тот номер в лондонском отеле, огромный экран телевизора, на котором горел, исходил жирной сажей Белый дом. На столе стояла недопитая бутыль виски, разбитый стакан блестел на полу. Он закрыл глаза, чтобы Вершацкий не разглядел в глубине зрачков тусклую вороненую точку – нацеленный ствол винтовки.
Но Вершацкий не заметил винтовки.
– Знаю, Яша, нелегко тебе далось решение по грозненскому нефтекомплексу. Ты, естественно, уступаешь его мне с тяжелым сердцем. Поверь, я это ценю. Я расцениваю это как высшее проявление дружбы! Моя служба безопасности доложила, что ты прекращаешь все свои действия против меня в правительстве. Было бы дико нам с тобой ссориться! Мы накопили такой опыт, такую мощь и не станем ее тратить на борьбу друг с другом. Нам нужно не соперничать, а распределять влияние. Тебе вполне хватит твоих сибирских дел, красноярского алюминия и норильского никеля. А я займусь Кавказом. У меня отличные позиции в Баку и Тбилиси, друзья в Турции. Я смогу освоить кавказский узел, стянуть его трубой. Эти красные идиоты хотят вернуть Советский Союз, день и ночь митингуют на площади! – Вершацкий ткнул куда-то в готический стеклянный витраж, за которым, как ему казалось, бушуют краснознаменные демонстранты. – Это мы, банкиры, восстановим Советский Союз, но не с помощью партии и политбюро, а с помощью финансовых потоков, нефти и Интернета!
Вершацкий разглагольствовал вдохновенно на свою излюбленную тему. Смысл его философии, которую разделял и Бернер, сводился к тому, что банкиры, соединившись в тесную группу, должны разделить зоны влияния. Сглаживая противоречия, стать новой и единственной властью в России, выдвинуть своего президента, лидера нового типа, молодого, блестящего, с глобальным мышлением, способного сформулировать новую доктрину России. Сменить на президентском посту уродливого и больного старца, непредсказуемого и опасного в своих безумных капризах. Этим новым лидером – так иногда казалось Бернеру – Вершацкий видел себя. С себя писал привлекательный портрет будущего Президента России.
– Послушай. – Вершацкий твердо и сильно своей сухой смуглой ладонью сжал руку Бернера. – Мы должны встретиться в ближайшие дни. Я на два дня слетаю в Женеву, и мы встретимся у меня в расширенном составе. Без политиков, без дураков, только финансисты! Мы обсудим без галстуков проблему президентской кампании. Мы должны сконцентрировать наши ресурсы, выбрать лидера, предложить политические технологии и начать действовать немедленно. Тем более ты знаешь, российские войска движутся по улицам Грозного. Эта война, блицкриг или затяжная, малой кровью или ценой колоссальных жертв, становится частью президентской кампании.
– Как, ты уже знаешь? – изумился Бернер, глядя со страхом в бледное красивое лицо друга. – Почему ты мне не сказал?
– Но ведь и ты не сказал! – тонко улыбнулся Вершацкий, легким движением пальцев поправил на висках свои черно-синие блестящие волосы.
Бернер испугался. Неужели Вершацкий с его проницательностью распознал вероломство? Не поверил в имитацию мира и согласия, разгадал ложные ходы, которые предприняла служба безопасности Бернера, отозвавшего из чеченского проекта часть денег, распустившего слухи о потере интереса к чеченской теме. Неужели своим «третьим оком», закрытым на лбу пушистыми сросшимися бровями, он читает мысли Бернера? И уже нанят стрелок с винтовкой. Уже следуют за ним по пятам сверкающие, как проносящиеся зеркала, лимузины с наружкой. Уже известны его любимые казино и рестораны, адреса его любовниц, графики возвращения домой. Уже на карте Москвы нанесены маршруты его движений, и, быть может, сегодня, в новогоднюю ночь, его поджидает в метели снайпер. Греется, пьет из термоса кофе, протирает запотевший прицел.
Он пережил мгновение паники, от которой затрепетал вокруг воздух и согнулось пламя свечей.
– Ты что? – Вершацкий внимательно смотрел на него, словно читал мысли.
– Что-то сквознячком лизнуло. Должно, заболеваю, – улыбнулся Бернер. – Официант, шампанского! – Он громко щелкнул пальцами, подзывая официанта.
Три бокала с шампанским, шипящим, с бенгальскими искрами, появились перед ним. Бернер снимал с подноса бокалы, чувствуя хрупкие хрустальные ножки, протягивал Вершацкому и Натали.
– С Новым годом, друзья! – Он чокнулся, повесив над столом два прозрачных, догоняющих друг друга звона.
– С Новым годом! – вторил ему Вершацкий.
Они пили холодное сладкое шампанское, обжигающее губы микроскопическими взрывами. Не мигая, глядели друг другу в глаза.
Бернер покинул столик. Двинулся через зал, исполненный тревоги, грозных предчувствий. Какая-то женщина в вечернем платье, в длинных, по локоть, перчатках, путаясь в шелковом шлейфе, метнула ему в лицо горсть конфетти. Улыбаясь, он брезгливо стряхивал с плеч разноцветный бумажный сор.
Какой-то женственный юноша, кругообразно двигая бедрами, кажется, актер бисексуального театра Виктюка, повесил ему на пиджак тонкую ниточку золотого дождя. И ему улыбнулся Бернер, снимая двумя пальцами нитку, как снимают гадкую гусеницу.
Он испытывал нарастающее раздражение, словно в него сквозь поры кожи, отверстия рта и ушей, расширенные зрачки вселилось невидимое существо. Разрасталось, заполняло внутренности, превращалось в подвижного пульсирующего червя. Огромный кольчатый червь двигался в нем, давил изнутри, определял его жесты и чувства, и он испытывал ядовитое, похожее на безумие страдание.
Он ненавидел зал, переполненный веселящимися, ничтожными, бездарными людьми, зависящими от его богатства и воли. Ненавидел пошлую елку, украшенную кренделями и русалками. Ненавидел метрдотеля, вороватого, лживого, принявшего личину благородного английского лорда. Ненавидел свое застолье, в котором несколько беспомощных, бесталанно играющих свои роли гостей нетерпеливо ждали его возвращения.
Скользкий червь, поселившийся в нем, требовал проявлений и действий. Ему вдруг захотелось поджечь этот особняк, этот обшитый мореным дубом зал, чтобы в огне жарко, с треском занялись сухие стены, вспыхнули гардины и скатерти, задымились туалеты и прически дам и все превратилось в пламя, в пожар, в истошные крики и ужас, а он, оттолкнувшись от земли, пролетая сквозь огонь, смотрел на пожар из синего московского неба, сквозь сияющую ночную метель.
Это наваждение продолжалось мгновение и кончилось. Перед ним стояла тележурналистка, недавно бравшая у него короткое новогоднее интервью.
– Сегодня ваши слова были самыми искренними и сердечными! – сказала она.
Ее напарник с видеокамерой исчез, унося кассеты с записями, а она, слегка опьянев, возбужденная, шла через зал. Бернер снова, оглядев ее полные голые ноги, плотные бедра и крупную, выступавшую из выреза грудь, испытал к ней жадное влечение. Раздражение и ненависть превратились в неодолимую похоть, от которой сдавило дыхание. Кольчатый червь набух в нем, наполнил пах, живот, глотку тугой, стремящейся наружу силой.
– Хотите посмотреть дом? – сипловато спросил ее Бернер, оглядывая зал, видя, что жена Марина увлеченно беседует с великосветской княгиней. – Здесь есть картинная галерея. Много отменных авангардных полотен.
– Покажите! – кокетливо ответила журналистка. – Обожаю авангард!
Они поднялись на антресоли по скрипучей лестнице со старинной балюстрадой. Стояли, глядя вниз на танцующих, на мужские лысины, женские прически, квадраты столов с горящими свечами и тарелками, на вершину елки с золотой шестиконечной звездой.
Бернер ухватился за толстый деревянный поручень, а бедром прижался к горячему женскому бедру. Не смотрел на нее, а душно, слепо желал.
– Пойдемте, – сказал он, проводя ее по полутемному переходу, проникая на другую половину дома.
С кресла навстречу им поднялся пожилой предупредительный служитель.
– Дай-ка нам ключ от картинной галереи, Степаныч! – глухо сказал Бернер, принимая от служителя ключ, тяжелый, рогатый, готический, под стать витражам и резным украшениям потолка.
Он открыл зал, впустил ее в бархатистую темноту. Запер дверь, которая прозвенела, как старинный сундук.
– Сколько картин! – пьяно-протяжно произнесла она, всматриваясь в темноту, где на стенах темнели холсты и на них смутно, едва различимо проступали изображения человекоподобных существ, зверообразных людей, абстрактные формы, странные орнаменты и фигуры. – Как интересно! – сказала она, не требуя, чтобы он зажег свет.
Он подошел к ней сзади и сильно обнял. Прижал лицо, губы, глаза к ее горячей влажной шее, к голому плечу.
– Ну что вы! Не надо! – слабо сопротивлялась она.
Он властно, грубо повел ее к дивану, снимая, сдирая на ходу платье. Посадил, толкнул на кожаный диван, совлекая с нее полупрозрачные рвущиеся оболочки.
– Что вы делаете!.. Мне нельзя!..
Он чувствовал ее запахи, ее тепло, ее силу, колотящееся сердце, быстрый жадный язык и кусающие острые зубы.
– Обещайте, мне нельзя!..
Все совершилось моментально и сладостно. Он освобождался от огромной набухшей в нем тяжести, от жаркой, как свинец, разрушающей и сжигающей его силы. Эту силу, эту раскаленную магму и тяжесть он вталкивал в нее. Сливал в нее свои страхи, ненависть, пожар, снайперскую винтовку, омерзение к людям, зависть и ревность к другу, танковые колонны в Грозном, звонок к министру обороны, фарфоровые зубы княгини, розовую лысину Сегала и что-то еще, глубинное, мерзкое, что таилось в нем и что не имело названия.
Облегченно, опустошенно встал, отошел от нее, теряя к ней интерес. Рассеянно глядел на картину, где какой-то косматый великан нес на плечах дохлого, истекающего кровью коня.
– Что вы сделали со мной!.. – слабо говорила она, поправляя свои растерзанные одежды.
Он был свободен и внутренне чист. Мерзкий червь покинул его. Быть может, переселился в нее. Свернулся в крендель в ее выпуклом, потном, с черным пупком животе.
– Прошу! – Насмешливо и галантно он выпускал ее из зала. И ключ в замке повернулся и прозвучал, как гулкий старинный сундук.
Глава восьмая
Кортеж с дудаевским лимузином покинул площадь. Уехали следом телохранители. Боевики, словно пьяные, все водили свой победный хоровод, стреляли из автоматов, и несколько гранатометчиков выпустили заряды, разбивая вдребезги уже подбитую и умертвленную технику. Но танцующих становилось все меньше, все реже звучали выстрелы, и скоро площадь, похожая на ночной луг, покрытый горящими копнами, обезлюдела. Только кружилось и кричало воронье. Садилось на обломки машин, обжигалось о раскаленную броню и снова с истошным криком взлетало. Птицы казались черно-красными, огромными, отбрасывали на тучи косматые тени.
– Будем выбираться, – сказал Кудрявцев, неуверенно оглядывая в темноте отдаленные углы площади, куда не долетало косое зарево. – Без оружия далеко не уйдем. Надо достать оружие!
Он еще не командовал этими тремя случайно подобранными беглецами. Еще не был для них командиром. Был просто старшим по возрасту, больше их знал и умел.
Эти трое также не видели в нем офицера, не чувствовали себя боевым отделением, а только жалким остатком разгромленной, испепеленной бригады, из которой их вырвало необъяснимое чудо и куда они не желали возвращаться.
– Надо пошарить по машинам и добыть оружие, – повторил он настойчивей, видя, как солдаты в темноте страшатся озаренного пространства. – Иначе без оружия перебьют, как цыплят.
– И так перебьют, – уныло произнес худощавый солдат. – Не выйдем отсюда.
– Перебьют, зато ты перед этим пару чеченов уложишь! – неожиданно зло сказал зенитчик. – Был бы у меня автомат, я бы их уже начал мочить.
– Пойдем по одному с интервалами в пять минут, – командирским голосом, но еще не приказывая, произнес Кудрявцев. – Первый – я!.. За мной – ты!.. – Он ткнул в зенитчика. – Потом – вы! Вон к тому грузовику!.. Потом – к колонне! Далеко не забредайте. Нашел автомат, и обратно!
Он сделал себе самому отмашку, преодолевая вялость в коленях. Почувствовал на себе взгляд снайпера, словно на лоб ему уселась большая щекочущая муха. Выбежал из подъезда и, пытаясь оторваться от своей длинной тени, метнулся по освещенному асфальту к черному грузовику.
Ткнулся в борт, прислушиваясь, не раздастся ли окрик, автоматная очередь, верещание пуль. Дверь кабины была приоткрыта. Осторожно в нее заглянул. Кабина была пуста, в ключе зажигания висели ключи. И явилась шальная мысль: запрыгнуть в кабину, запустить грузовик и на скорости, не включая огней, рвануть на прорыв. Но левые колеса, переднее и два задних, были прострелены, грузовик, наклонившись, стоял на ободах. Был непригоден для бегства.
Он выглядывал из-за кузова, выбирал прогал среди искореженной техники, куда бы можно было нырнуть и скрыться. Две бээмпэ нелепо сцепились хвостами, разведя в разные стороны пушки. Напоминали спаренных насекомых.
К ним, нагибаясь, чувствуя свою тщедушность и незащищенность, кинулся Кудрявцев. Добежал, огибая заостренную носовую часть бээмпэ. Разглядел на бегу оплавленную скважину в борту – след кумулятивной гранаты, а в распахнутом люке – повисшего в танковом шлеме водителя. Машина, судя по номеру, была из соседней роты. Он не стал останавливаться, нырнул в едкий дым, скрываясь среди разорванных гусениц и покосившихся башен.
Очень быстро он нашел автомат. «АКС» зацепился ремнем за буксирный крюк машины. Вцепившись в автомат, натягивая ремень, на нем висел замкомроты. С этим грубоватым, быстро хмелевшим, впадавшим после стакана водки в едкую раздражительность офицером Кудрявцев поссорился, когда командиры соседних рот сошлись на дружескую вечеринку. С тех пор они не здоровались, отворачивались друг от друга во время встреч. Теперь замкомроты, с дырой во лбу, с выпученными от внутреннего давления глазами, висел на автомате. Его белые усы приподнялись в злой усмешке, словно перед смертью он успел выкрикнуть какое-то едкое сквернословье. Горевший поблизости танк освещал его оскаленные мокрые зубы.
Кудрявцев схватил автомат, но крюк не пускал. Двумя руками он поддернул ремень, срывая его с крюка. Убитый, не отпуская оружие, завалился на бок, ударил лицом в гусеничный трак. Кудрявцев попытался вырвать автомат из стиснутого кулака, но мертвые побелевшие пальцы не разжимались. Кудрявцев разжимал их по одному, как гвозди. Отдирал от автомата поломанные грязные ногти. Эта борьба с мертвым казалась Кудрявцеву продолжением их ссоры. Ожесточившись, Кудрявцев с силой рванул, выдрал автомат, замкомроты упал, и его приоткрытый рот продолжал беззвучно сквернословить, а рука со скрюченными пальцами вытягивалась и искала Кудрявцева.
Кудрявцев жадно оглядел оружие. Переключатель стоял на коротких очередях. Шевеля стволом, оглаживая цевье, щупая пальцем крючок, он всматривался в проемы между тлеющими машинами и был готов, если возникнет опасность, ударить долбящим огнем.
Вернувшаяся к нему вместе с оружием полноценность сделала гибкими его движения, прокатилась по мускулам твердой волной. Глаза продолжали зорко высматривать опасность, таившуюся за углами и выступами подбитых машин, а руки вели в направлении этой опасности вороненую прорезь и мушку.
Он наткнулся на танк, окруженный комочками бесформенного, тлеющего на земле вещества. Башня была сорвана взрывом, в круглой дыре, как в железном котле, продолжало дымить и взбухать, валил подсвеченный изнутри рыжий дым, и в утробе танка что-то слабо булькало, хлюпало, как густое варево, и было страшно заглянуть в черную дыру, в развороченный живот танка, где в перерезанных кишках продолжалось пищеварение.
Перепады холодного и горячего воздуха порождали ветер, дующий между взорванными машинами. Кудрявцев ощущал щеками хлопки этого ветра, словно в него ударялись невидимые, лишенные плоти существа. Метались, реяли над раскрытыми люками, не в силах покинуть штурвалы, места у бойниц и прицелов. Кудрявцев двигался среди бестелесных невидимок, пробирался среди их беззвучного сонмища.
Четырехствольная скорострельная «Шилка», не тронутая огнем, опустила горизонтально трубчатые стволы, так и не успев отстреляться. Ее люк был открыт, как взломанный чемодан, вокруг тлела ветошь, и среди блуждающих угольков, прислонившись спиной к броне, сидели артиллеристы. Прижались друг к другу плечами, припали голова к голове, словно дремали. У гусениц валялась желтая гитара с наклейками. Оба были застрелены в грудь с близкого расстояния. Кудрявцев, не подходя, прижался к теплому борту сгоревшей машины, всматривался в их лица, в спутанные чубы, в желтую гитару. Они напоминали утомленных подгулявших туристов, закемаривших после рюмки водки. Где-то тут в траве валяются корочки печеной картошки, влажно поблескивающая пустая бутылка, и он, Кудрявцев, отошел от костра, пробрался сквозь лесную опушку, где бело и туманно от цветущей черемухи и в овраге над черной водой поет соловей.