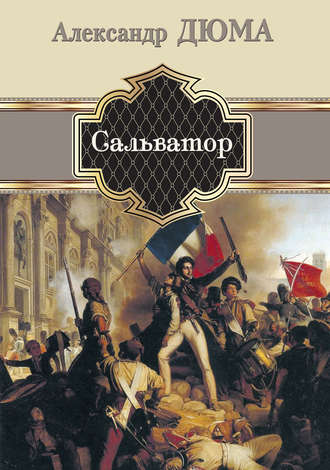
Полная версия
Сальватор. Книга V
– О, – прошептала Лидия, уронив голову на подушку, – да простит меня Господь! Но мне иногда кажется, что этот человек меня любит… И что я его люблю!
Глава XXIII
Суд присяжных департамента Сена
Заседание 27 апреля
ДЕЛО САРРАНТИ
Читатель, узнав от самого Сальватора о том, что тот отправляется во Дворец правосудия для того, чтобы присутствовать на последнем слушании дела Сарранти, должен был понять, что нам не нужно было непременно следовать за ним и что, побывав в спальне госпожи де Моранд и послушав ее разговор с мужем, мы можем в ту же секунду очутиться в этом огромном и жутком зале Дворца правосудия, где каждое преступление ожидает своего наказания, а иногда, по роковой ошибке, бывают осуждены невиновные.
В трех углах этого огромного зала следовало бы поставить три статуи: Каласа, Лабара и Лезюрка для того, чтобы они ждали четвертую, которая, возможно, так и не была бы установлена!
К одиннадцати часам вечера, в тот самый момент, когда проходил совет у короля Карла X, когда по мостовой улицы Артуа перед особняком Морандов грохотали колесами сотни экипажей, подходы к Дворцу правосудия представляли другое, не менее любопытное зрелище, чем бульвар Итальянцев.
Действительно, начиная от площади Шатле и дальше, к югу, до площади Пон-Сен-Мишель, моста Менял, Бочарной улицы, моста Сен-Мишель, все прилегающие к ним улицы и к востоку от площади Дофины до моста Сите, набережных Орлож, Дезекс, Сите, Архиепископства и Орфевр, – все было забито такой плотной толпой, подвижной и ропщущей, так, что можно было подумать, будто древний Дворцовый остров, став вдруг плавучим, колышется посреди Сены, прилагая неимоверные усилия к тому, чтобы противостоять урагану, гнавшему его в море! Сходство этой огромной толпы с грозовым океаном придавал глубокий и глухой, мрачный и монотонный рев, от которого содрогались окрестные дома и который накатывался, подобно разъяренным волнам до самых сводов древнего дворца святого Людовика.
В тот вечер, а скорее в ту ночь, поскольку время уже приближалось к полуночи, должно было закончиться заседание суда по делу Сарранти, которое так взбудоражило и, следует сказать, не без причины общественное мнение, начиная с того самого дня, когда в «Монитере» был опубликован обвинительный акт.
Посему читателя не должно удивлять, что этот процесс, которому суждено было стать триумфом правосудия, собрал вокруг Дворца такое огромное количество людей, а в зал заседаний суда набилось так много народу, что он не смог вместить всех желающих присутствовать на заключительном заседании. Для того чтобы предотвратить давку, волнения и – кто знает? – беспорядки, которые могли возникнуть при таком стечении народа, председатель суда счел нужным заранее раздать входные билеты всем тем лицам, или по крайней мере части тех лиц, кто его об этом попросил. Даже адвокаты получили определенное количество таких билетов на каждый день заседания суда.
Но было невозможно удовлетворить бесчисленные просьбы: начиная со дня опубликования обвинительного акта, к председателю суда поступило более десяти тысяч таких просьб. К нему обращались дипломаты, парламентарии и пэры, дворяне, духовенство, судейские, военные, финансисты. А удовлетворена была лишь небольшая часть этих просьб.
Отсюда становится понятным, что зал заседаний был настолько переполнен, что, казалось, зрители, тесно прижавшись друг к другу, являли собой единый организм, а время от времени в дверях и битком набитых народом коридорах слышались голоса несчастных, которых толпа очень больно прижимала к стене или к проему дверей. Толпы людей не только наполняли галерею и занимали многочисленные лестницы, ведущие к входным дверям, но, как мы уже сказали, огромная вереница непривилегированных зрителей, словно громадная змея, окружала Дворец правосудия. Голова этой змеи находилась на площади Шатле, а хвост вытянулся вплоть до площади Пон-Сен-Мишель.
Несколько скамеек были выделены специально для адвокатов, но эти места вскоре захватили дамы, которые не смогли найти места на скамейках, приготовленных для них во внутреннем ряду напротив скамей адвокатов.
Слушания по делу начались всего два дня тому назад, и, несмотря на то, что до сих пор не было приведено ни одного доказательства в поддержку предъявленного господину Сарранти обвинения, во Дворце правосудия и в толпе все были уверены в том, что вердикт должен быть вынесен именно в этот день.
Все ждали, когда же он будет обнародован – мы говорим по крайней мере о тех, кто находился далеко от зала заседаний. Но хотя время уже подошло к одиннадцати, хотя в толпе ходили слухи о том, что только сейчас пришел недвусмысленный приказ вынести вердикт и объявить приговор по преступлению именно на данном заседании, из Дворца не поступало никаких новостей. Поэтому самые нетерпеливые уже начали громко кричать, и эти крики были оставлены без внимания находившимися в толпе жандармами.
Интерес же тех, кто присутствовал в зале суда, все возрастал, и тринадцать часов непрерывного слушания дела – заседание началось в десять утра – не смогли уменьшить внимание одних и умерить любопытство других.
Помимо того интереса, который вызывала в сердце каждого личность обвиняемого, интерес к делу, и без того необычному, был подогрет талантом председателя суда и энергичной и уверенной защитой.
Председатель суда был, бесспорно, талантлив. Невозможно было внести в исполнение такой важной и тягостной должности более четкий и ясный анализ, вести процесс с большим красноречием и элегантностью, с большим уважением к соблюдению приличий и с большей непредвзятостью, чем это делал он. Воспользуемся случаем и отметим мимоходом, что его скрупулезная непредвзятость, за которую мы хвалим председателя суда, его умение и даже талант вести заседания, его ловкость и компетентность оказали на ход слушания дела и даже на отношение публики к процессу огромное благотворное влияние. Нельзя передать, насколько эти качества председателей суда внушают важность и уважение к суду, придавая процессам свойственную им величавость.
Торжественность этого вечера имела корнями своими одновременно ту величавость, о которой мы уже сказали, и тот мрачный, фантастически-зловещий характер, о котором мы уже упомянули, приступая к описанию этого заседания.
Все или почти все знают, что такое зал заседаний парижского суда присяжных. Это – огромное четырехугольное помещение, мрачное, глубокое и высокое, словно церковь.
Мы сказали мрачное, несмотря на то, что в этот зал свет проникает через пять огромных окон и две стеклянные двери, расположенные по одну сторону зала слева от входа. Но все же правая сторона зала, в стене которой нет ни единого окна и на которую не падает свет – разве что в тех случаях, когда открывается маленькая дверца, через которую вводят и выводят из зала обвиняемого, – эта стена, остающаяся мрачной, несмотря на безуспешные попытки сделать ее более веселой с помощью панно из синей бумаги, наводит на противоположную стену ту мрачность, которая побеждает проникающий в зал свет. Другими словами, храм правосудия как бы хранит на своих стенах ту гнусную грязь преступлений, которыми был запятнан его пол. И когда вы входите в зал заседаний суда, вас вдруг охватывает черная тоска, вы чувствуете, как по вашему телу пробегает дрожь омерзения. Это подобно тому ощущению, которое обычно испытывает человек, наступивший в лесу на клубок гадюк.
Но в тот вечер обычно мрачный зал заседаний суда был ярко освещен, и это делало его еще более тоскливым, чем когда он оставался слабоосвещенным.
Представьте себе всю эту толпу, освещенную странным дрожащим светом сотни свечей, ламп, укрытых абажурами, придающими лицам присяжных заседателей необъяснимо странный оттенок, зловещую бледность и делающими их лица похожими на лица инквизиторов, изображенных испанскими художниками.
При входе в этот зал, погружаясь в этот сверкающий огнями полумрак или, скажем так: в этот мрачный полусвет, вас, помимо вашей воли, охватывает чувство того, что вы попали на тайное заседание Совета Десяти или инквизиции. На ум немедленно приходят все эти геенны и пытки, и вы начинаете искать глазами в самом темном углу зала мрачную маску палача, готового к проведению пыток.
Мы входим в зал в тот самый момент, когда королевский прокурор готовится произнести обвинительную речь.
Он уже встал.
Это человек высокого роста, с бледным костистым лицом, кожа его напоминает старинный пергамент. Живой труп, в котором жизнь сохранилась только в голосе и во взгляде. Но не в движениях и жестах. Да и голос его тоже слаб, как дыхание, а взгляд мутен и невыразителен. Словом, этот человек является как бы воплощением уголовного права, это – живое и очень костлявое обвинение!
Но прежде чем выслушать исполнителей основных ролей этой драмы, давайте посмотрим на их места в зале заседаний.
В глубине зала за круглым столом в окружении судей сидит председатель суда.
Слева от входящих в зал, то есть справа от председателя суда, под двумя высокими застекленными окнами располагаются четырнадцать присяжных заседателей. Да, мы не оговорились, их четырнадцать, а не двенадцать. Дело в том, что королевский прокурор, предчувствуя продолжительность заседаний суда, потребовал избрания двух дополнительных присяжных заседателей и одного коллежского асессора.
За круглой оградой, отделяющей стол членов суда от зала, сидит сама порядочность, господин Жерар, истец.
Это тот самый человек с огромной лысиной, серыми и колючими глубоко расположенными глазками, с густыми седыми бровями, из которых выбивались, словно щетина у кабана, длинные волоски, соединявшиеся между собой на уровне хищно загнутого носа и представлявшие собой нависавшую над глазами и лишенную всяких пропорций дугу. Это была та же самая гнусная физиономия подлеца, которая произвела такое необычное впечатление на аббата Доминика, когда тот вошел в спальню умирающего.
Обычно бывает так, что лицо человека, требующего у правосудия наказать убийцу, каким бы оно ни было уродливым, представляется публике трогательным и очень интересным, а лицо обвиняемого вызывает только чувство презрения и отвращения. Но в этом случае все было наоборот, и если бы кто поинтересовался мнением присутствующей на суде публики, то все без исключения, видя справа красивое и честное лицо господина Сарранти и доброе, чистое и прекрасное лицо аббата Доминика, заявили бы, что следовало бы поменять роли и что убийца был жертвой, а тот, кто выдавал себя за жертву, и был настоящим убийцей. Если бы не было никаких других оснований и доказательств, кроме внешнего вида обоих этих людей, то ошибиться было бы просто невозможно.
Теперь, поскольку мы уже упомянули о том, что господин Сарранти, по бокам которого стояли два жандарма, разговаривал, облокотясь на перила барьера скамьи обвиняемых, с сыном и с адвокатом, мы должны подробно рассказать о постановке этого торжественно-мрачного спектакля.
Мы уже сказали, что слушания по этому делу начались два дня тому назад. Следовательно, заседание, на которое мы попали, было уже третьим по счету. Оно же, возможно, станет и последним.
Расскажем вкратце о том, что происходило во время двух первых заседаний суда.
После выполнения предварительных формальностей был зачитан обвинительный акт, содержание которого мы не станем здесь приводить, а отошлем, кого подобные документы заинтересуют, к газетам тех времен.
Из этого обвинительного акта следовало, что господин Гаэтано Сарранти, отставной военный, уроженец Аяччо, Корсика, сорока восьми лет, кавалер офицерского ордена Почетного легиона, обвинялся в том, что ночью 20 августа 1820 года взломал секретер господина Жерара, украл оттуда триста тысяч франков, убил женщину, находившуюся в услужении у господина Жерара, убил или похитил у господина Жерара двух его племянников, чьих следов или трупов не было найдено.
Наказания за подобные преступления были предусмотрены в статьях 293, 296, 302, 304, 345 и 354 Уголовного кодекса.
После зачтения обвинительного акта, как обычно, был заслушан обвиняемый, который ответил «нет» на все поставленные ему вопросы и не выказал ни малейшего признака волнения. Только на его лице выразилось огорчение, когда он услышал, что дети были убиты или похищены.
Адвокат господина Жерара думал, что поставит господина Сарранти в очень затруднительное положение вопросом, почему тот так поспешно покинул дом, где к нему относились с такой доброжелательностью. Но господин Сарранти просто ответил, что заговор, одним из руководителей которого он тогда являлся, был раскрыт полицией и поэтому он был вынужден по приказу императора срочно выехать к господину Лебатару де Премону, французскому генералу, служившему у Рундже-Сингха.
Затем он рассказал, как, для того, чтобы претворить в жизнь свои планы, он сопровождал вернувшегося в Европу генерала и с его помощью хотел похитить Римского короля из дворца Шенбрун, как побег этот провалился, о чем он узнал с большим сожалением уже после своего ареста.
Таким образом, полностью отвергнув обвинение в краже и убийстве, он признал себя виновным в преступлении против короля и потребовал, чтобы его судил не гражданский, а военный суд.
Но это вовсе не устраивало тех, кто жаждал его гибели. Им хотелось, чтобы господин Сарранти был осужден как подлый вор, гнусный убийца, покусившийся на состояние двух несчастных сирот, а не как политический заговорщик, рисковавший жизнью для того, чтобы заменить одну династию другой и вооруженным путем сменить форму правления.
Председателю суда пришлось прервать объяснения господина Сарранти.
Поскольку эти объяснения вызывали у слушателей симпатию и завоевывали не только расположение публики, но и его, судьи, хотя и помимо его воли.
Затем было заслушано заявление господина Жерара.
Читатели помнят о его первых показаниях, сделанных мэру Вири на следующий день после преступления. На этот раз он повторил их слово в слово. А посему нет смысла приводить их здесь, ибо они уже знакомы нашему читателю.
На первом заседании были заслушаны показания свидетелей. Эти показания, все, как одно, направленные против господина Сарранти, были длинным панегириком господину Жерару, рядом с которым, если верить этим свидетелям, святой Венсан де Поль казался презренным эгоистом.
Первым из свидетелей был заслушан мэр города Вири. Читатель знает этого человека. Поверив в волнение, которое охватило господина Жерара в тот момент, когда он сообщил о случившейся катастрофе, мэр принял испуг преступника за ужас жертвы. Были заслушаны также свидетельства четырех или пяти крестьян, фермеров и владельцев земель в Вири, которые были связаны с господином Жераром только деловыми отношениями по случаю приобретения или продажи земли. Они заявили, что при совершении всех этих сделок господин Жерар вел себя очень честно и неукоснительно соблюдал букву закона.
Были заслушаны также двадцать или двадцать пять свидетелей из Ванвра и Ба-Медона, то есть все те люди, которые с тех пор, когда господин Жерар поселился в их краях, видели от него одни лишь проявления доброжелательности и щедрости.
Те из читателей, кто помнит главу «Деревенский филантроп», поймут, какое действие произвели на присяжных рассказы о добрых деяниях достопочтенного господина Жерара и, в частности, о последнем его благодеянии, то есть о том поступке, который едва не стоил ему жизни.
Когда господина Сарранти спросили его мнение о господине Жераре, то он ответил со всей прямотой военного, что считает господина Жерара человеком честным и полагает, что того, должно быть, ввели в заблуждение какие-то важные обстоятельства и именно поэтому он выдвинул против него, Сарранти, такое серьезное обвинение.
Услышав эти слова, председатель суда спросил у господина Сарранти:
– Тогда скажите нам, чем вы можете доказать свою невиновность и как объясните пропажу ста тысяч экю, убийство мадам Жерар и исчезновение детей?
– Эти сто тысяч экю принадлежали мне, – ответил господин Сарранти, – или, вернее, это были деньги, переданные мне на хранение императором Наполеоном. Они были возвращены мне мсье Жераром собственноручно. Что же касается убийства мадам Жерар и исчезновения детей, то я ничего не могу на это сказать, кроме того, что, когда я покидал замок, то есть в три часа пополудни, мадам Жерар была жива-здорова, а детишки весело играли на лужайке.
Все это было столь маловероятно, что председатель суда, взглянув на присяжных, увидел, что они единодушно со значением покачали головами.
Что же касается аббата Доминика, то во время слушания дела он походил на человека, больного лихорадкой, которая переходит в бред. Он вставал с места, снова садился, дергал отца за полы плаща, открывал рот, словно желая что-то сказать, затем вдруг испускал стон, вынимал из кармана носовой платок и вытирал им покрытый потом лоб, закрывал лицо ладонями и по нескольку часов сидел так, словно окаменев.
Нечто подобное происходило, кстати, и с господином Жераром, поскольку он – этого присутствующие в зале понять никак не могли – следил глазами вовсе не за Сарранти, а за Домиником.
Когда Доминик вставал, Жерар вскакивал, словно подброшенный пружиной, когда Доминик открывал рот, чтобы что-то сказать, лоб обвинителя покрывался потом и он находился в предобморочном состоянии.
Оба были смертельно бледны.
Пока происходили эти загадочные сцены, тайну которых знали лишь эти два актера, вдруг послышался чей-то хриплый голос, явно диссонировавший с потоком похвал, высказываемых в адрес господина Жерара.
Какой-то восьмидесятилетний старец, бледный, худой, как воскрешенный Лазарь, вызванный в суд в качестве свидетеля обвинения, медленной, но твердой и размеренной поступью, словно статуя командора, приблизился к месту для заслушивания свидетельских показаний.
Это был старый садовник из Вири, дед и прадед многочисленных детишек. Он работал в саду вот уже лет тридцать – сорок и находился в замке, когда произошло это печальное событие. Если помните, то именно его увольнения потребовала Урсула, когда захотела убедиться в своей власти над господином Жераром.
– Я не знаю, кто совершил убийство, – сказал он. – Но я знаю, что убитая женщина была очень злым человеком: она овладела разумом вот этого мужчины, который не был ее мужем, но за которого она очень хотела выйти (и он указал на господина Жерара). Она околдовала его, она имела над ним безграничную власть. Я уверен в том, что она ненавидела детей и могла заставить этого человека сделать все, что она пожелает.
– У вас есть какие-нибудь факты? – спросил председатель суда.
– Нет, – ответил старик. – Но я слышал сейчас, как расхваливали характер мсье Жерара, и считаю себя обязанным, поскольку за восемьдесят лет я повидал многих людей, так вот я считаю себя обязанным сказать то, что я думаю об этом человеке. Служанка хотела стать хозяйкой. Быть может, ей мешали в этом дети. И я тоже ей мешал!
Пока говорил старик, Доминик явно торжествовал, а господин Жерар был бледен как мертвец. Было слышно, как стучали его зубы.
Это свидетельское показание вызвало большое волнение среди присутствующих.
Председатель суда вынужден был призвать публику к порядку и сказал, отпуская старика:
– Ступайте, дружок. Господа присяжные учтут ваши показания.
Тогда адвокат господина Жерара сказал, что садовник был уволен из-за того, что ввиду его преклонных лет его работа приносила мало проку и что именно Урсула, на которую этот неблагодарный человек так клевещет, вступилась за него.
Старик, который в этот момент направлялся к своей скамье, опираясь одной рукой на палку, а другой на плечо одного из своих многочисленных сыновей, резко остановился, словно его в траве парка укусила за пятку гадюка.
Потом он обернулся и твердым голосом произнес:
– Все, что только что сказал этот господин, правда, кроме неблагодарности, в которой он меня обвиняет. Урсула сначала потребовала, чтобы меня выгнали, и мсье Жерар согласился. Потом она попросила не выгонять меня, и мсье Жерар снова согласился. Служанка захотела испытать свою власть над хозяином, возможно, для того, чтобы использовать ее при более важных обстоятельствах. Спросите у мсье Жерара, так ли все это было.
– Правду ли говорит этот человек, мсье? – обратился с вопросом к Жерару председатель суда.
Жерар собрался уже было ответить, что все это неправда, но когда он поднял голову, то встретился глазами со взглядом садовника.
И, словно ослепленный вспышкой совести, не смог сказать нет.
– Правда! – пробормотал он.
Кроме этого происшествия, все свидетельства, как мы уже и сказали, были в пользу господина Жерара.
Что же касается показаний в пользу господина Сарранти, то обвиняемый не стал прибегать к вызову свидетелей: он считал себя обвиненным в бонапартистском заговоре и рассчитывал понести наказание только за это. А посему не считал нужным обращаться к помощи свидетелей защиты.
Но процесс внезапно принял совсем другой оборот, и господин Сарранти оказался перед лицом ограбления, двойного похищения и убийства. Обвинение показалось ему столь нелепым, что он подумал, что обвинение само признает его невиновность.
Но он очень поздно понял, что попал в ловушку, а когда понял, то решил, что для отвода обвинения в краже, двойном похищении и убийстве не станет вызывать никаких свидетелей. По его мнению, достаточно было все отрицать.
Но мало-помалу в ту щелку, которую он оставил открытой в своей защите, сначала прокралось подозрение, потом вероятность, затем уже, если не в умах присутствующих, то уж в мозгу присяжных точно, почти уверенность в его виновности.
Господин Сарранти напоминал теперь человека, увлекаемого в пропасть: он ее видел и чувствовал опасность. Но было слишком поздно! Ему не за что было зацепиться, чтобы остановить свой бег. Он уже не мог не свалиться. Пропасть была глубокой, ужасной и постыдной: там ему суждено было потерять не только жизнь, но и честь.
И все же Доминик постоянно шептал ему на ухо:
– Мужайтесь, отец! Я знаю, что вы невиновны!
В работе суда настал момент, когда дело достаточно прояснилось благодаря свидетельским показаниям, и теперь следовало дать слово адвокатам.
Первым выступил адвокат истца.
Не знаю, видело ли, понимало ли, догадывалось ли законодательство, решая, что вместо того, чтобы стороны выступали сами, они могут прибегнуть к помощи третьих лиц, что наряду с теми преимуществами, которые оно получало, прибегая к обвинению или защите по поручительству, до какой бесчестности, нахальства и нечистоплотности оно может довести этим самым человека.
Ведь во Дворце правосудия защищают и самых гнусных преступников. И адвокаты преступников прекрасно знают, что защищают они неправую сторону. Но взгляните-ка на них, послушайте их и понаблюдайте за ними: разве их голоса, их жесты, их риторика не говорят вам, что они убеждены в невиновности своих клиентов?
Так какова же цель их ложной уверенности? Я не желаю слышать о деньгах, о гонорарах, о заработках. Какова причина этой ложной, показной убежденности, которую они напускают на себя и в которой стараются убедить других?
Разве не для того, чтобы спасти виновного и приговорить невинного?
И разве закон, вместо того, чтобы покрывать это искажение людской совести, не должен наказывать этих людей?
Может быть, кто-то возразит, что адвокат подобен врачу. Врача вызывают для того, чтобы лечить убийцу, который, совершая свои преступления, получил удар ножом или пулю. Его вызывают также для того, чтобы вылечить приговоренного, который, признавшись в совершенном преступлении, предпринял попытку самоубийства. Врач прибывает и видит, что раненый – почти труп и что лучше всего будет оставить все как есть: ранение само тихо и незаметно приведет к смерти этого человека. Но врач считает себя обязанным сделать совсем другое. Врач – сторонник жизни и противник смерти.
Всюду, где есть жизнь, врач старается ее поддержать. Встречая смерть, он пытается ее победить.
Он появляется в тот момент, когда убийца или по крайней мере осужденный умирает, когда смерть уже простерла руку для того, чтобы забрать приговоренного или убийцу. Но кем бы ни был умирающий, врач приходит к нему на помощь. Он бросает перчатку своей науки смерти и говорит ей: «Поборемся!»
Начиная с этого момента начинается схватка врача со смертью. И понемногу смерть отступает. Потом она покидает арену борьбы, и врач остается хозяином поля битвы: приговоренный, решивший покончить с собой, убийца, получивший рану, спасены! Да, спасены, но лишь для того, чтобы попасть в руки людского правосудия, которое после этого подвергает их наказанию или казни точно так же, как врач работал над их спасением.
Кто-то скажет, что и адвокат тоже помогает спасению: к нему в руки попадает виновный, то есть тяжелораненый человек, а адвокат делает его невиновным, то есть человеком, у которого со здоровьем все прекрасно.

