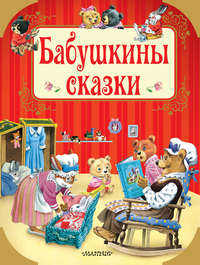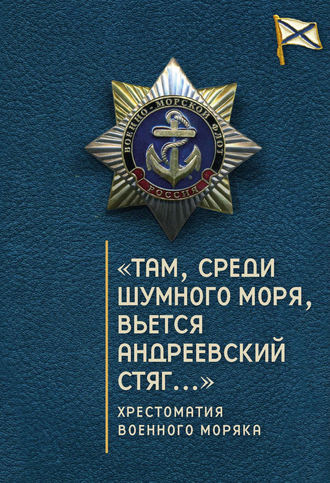
Полная версия
«Там, среди шумного моря, вьется Андреевский стяг…» Хрестоматия военного моряка
В самый день объявления манифеста[76]29 июня Грейг снялся с кронштадтского рейда с 17 линейными кораблями (1 – 100-пуш., 8 – 84-пуш. и 8 – 66-пуш.) и пошел навстречу неприятельскому флоту. Около полудня 6 июля юго-западнее Гогланда неприятельские флота встретились.
Ветер был тихий, нам попутный, от OSO; у нас держали все возможные паруса и в 4 часу пополудни стали сближаться со шведским флотом, лежащим в линии (15 кораб. 70- и 60-пуш. и 8 линейных фрегатов).
В 4 часа наш флот тоже выстроился в линию и начал спускаться корабль на корабль, линия на линию, не покушаясь на хитрые движения: силе и мужеству противопоставляя силу и мужество.
Битва началась в 5 часов пополудни, но не вдруг[77] – первые выстрелы последовали с передовых кораблей авангарда, вышедшего вперед и прежде, чем был поднят сигнал «вступить в бой».
Рассмотрим подробности этой битвы, продолжавшейся сряду четыре часа и кончившейся страшным с обеих сторон истреблением.
Передовой корабль «Болеслав» вскоре после вступления в битву, поворотил по ветру (от повреждений, вероятно), прошел между обеих линий и на прежний галс привел уже в арьергарде. Второй спереди корабль «Иоанн Богослов» через полчаса после вступления в дело получил подводную пробоину, от которой вода возвысилась до 45 дюймов; имея притом перебитыми многие снасти, этот корабль кинулся к ветру – высланный катер, чтобы забуксировать нос, вскоре был разбит ядрами, прочие гребные суда были также повреждены – сам собой поворотил против ветра и упал ниже других, и около часа лежал на этом галсе, будучи вне выстрелов; наконец, он встретился с каким-то шведским кораблем и стал биться с ним[78].
Третий корабль «Всеслав», по уходе передних двух, бился один с тремя неприятельскими кораблями, перед концом битвы принудил их спуститься, и сам, имея большие повреждения, выбуксировался за линию, к арьергарду.
Адмирал, бывший на корабле «Ростислав», сначала дрался с генерал-адмиральским кораблем, но через полчаса, будучи осаживаем «Мстиславом», который все пятился назад, вышел на ветер и, обойдя передние два корабля, вступил в линию между кораблями «Петр» и «Елена».
Переходим к арьергарду: самый задний корабль «Дерис», еще не дойдя на выстрел, из опасения быть поставленным в два огня поворотил на другой галс и вовсе не участвовал в битве[79]. Второй сзади «Память «Евстафия» два часа дрался против трех кораблей, но имея много подводных пробоин, отчего вода возвысилась до 60 дюймов и значительные повреждения в вооружении, тоже вышел за линию[80]. Корабль «Владислав», более других потерпевший от повреждений, совсем упал под ветер и был обстреливаем с носа, с кормы и с бортов; и только в 10 часу вечера, имея убитыми и ранеными 257 человек, капитан Берх, по совету с офицерами, решил сдаться. Команда была на все готова. Когда ей объявили о намерении сдаться, отвечала единогласно: «Отец наш, делай, что хочешь, мы отдаемся тебе в полную власть».
Прочие корабли дрались, кому как удобнее, нередко один с двумя и тремя неприятельскими кораблями; иногда, может быть, наоборот – два, три с одним; вероятно, попадали и друг в друга. Но дрались отчаянно.
В 9-м часу вся шведская линия спустилась, а за ней и наша, но вскоре затем шведы и мы снова привели к ветру, уже в полном расстройстве линий. Тогда наш адмиральский корабль дрался с вице-адмиральским шведским и принудил его спустить флаг. В 10-м часу шведы стали отступать – наступала ночь – и наш адмирал поднял сигнал «прекратить сражение».
Через полчаса к адмиралу был привезен его пленник г. вице-адмирал граф Вахмейстер. Пленный корабль был 70-пушечный, назывался «Принц Густав»; на нем убитых и раненых 200 человек. Радуясь победе, тогда Грейг еще не знал об участи своего корабля «Владислав».
Так кончилась эта битва, продолжительная и кровопролитная, с обеих сторон упорная, но неискусная. Неприятель был сильнее нас числом судов и, вероятно, количеством орудий. Шведы имели над нами огромное, не замечаемое тактиками преимущество – флот их уже более месяца ходил в море, команды его, следовательно, свыклись и приучились к маневрам, а наш только что вышел из порта, имея притом множество рекрутов. И при всем этом мы победили. Последствия этого были весьма важными.
Шведский флот после этой битвы ушел за Свеаборг. Эскадра Грейга, исправившись и заменив очень поврежденные корабли новыми, подойдя к Свеаборгу, увидела вышедшие оттуда 4 корабля, которые тут же побежали в порт; но один из них – 64-пушечный «Принц Густав-Адольф» – сел на камень и дался нам. Сняв команду, его сожгли.
Потом наша эскадра отошла к Ревелю и учинила самый бдительный надзор за Свеаборгом. Множество больных на флоте – необходимое следствие тогдашних плаваний – и затруднительное снабжение водой были сами побудительными и весьма основательными причинами не держаться постоянно в море. В половине августа был учрежден постоянный пост у Гангэудда, состоящий из 3 кораблей и 2 фрегатов – этим было совершенно прекращено сообщение Финляндии со Швецией. Поэтому шведский флот в Свеаборге терпел крайнюю нужду и много раз покушался выйти оттуда.
Приближалась зима, и в начале октября повелено было кончить кампанию, которая, как было сказано в указе на имя Грейга, «делала нашим немало пользы, а вам большую честь приносит». Условия наших портов, из которых один – Кронштадт – рано покрывается льдом, а другой – Ревель – тесен и неудобен, принудили нас кончить кампанию раньше, чем следовало. Надеялись, впрочем, что шведы не рискнут выйти из Свеаборга в такую позднюю пору. Но шведы только и выжидали: 9 ноября вышли из Свеаборга, никем не стерегомого, и благополучно достигли Карлскроны.
Война продлилась еще два года.
(Морской сборник, 1849, т.2, № 5, с. 323–337)
Мичманы
Эландское морское сражение (1789 г.) хоть и не имело решительных результатов, но было довольно жарким делом. Примечательно, что на русских кораблях сражались не только русские моряки. Так высоко стояло имя Великой Екатерины и слава русского имени, что даже представители гордого Альбиона почитали за честь служить русскому флагу и служили честно.
Р.И. Бортвиг из английской службы поступил на наш флот мичманом и 15 июля 1789 года на 66-пушечном корабле «Дерись» под командой капитана [Джеймса] Престона участвовал в сражении со шведским флотом при Борнгольме [81]. Генерал-адмирал шведского флота принц Сидор Ермолаевич – так наши матросы величали принца Зюдерманландского – сильно теснил наш авангард. Корабль «Дерись» долго производил меткую пальбу, но вдруг уклонился из линии и сделал сигнал «терплю бедствие!» В это время у него из фор-люка и носовых портов повалил густой дым. Через полчаса дым исчез, и на корабле спустили сигнал бедствия. После вот что узнали: на этом корабле в нижнем деке разорвало сперва одну, потом другую и третью пушку. Убитых и раненых была пропасть; пушечная прислуга в ужасе не смела приступить к орудиям – огонь прекратился! Капитан Престон послал Бортвига пособить делу. И он, схватив фитиль, крикнул команде: «Не бойтесь, ребята, глядите – я буду палить, а вы заряжай да наводи!» Но так как он был близорук, то не мог фитилем попасть на запал, и гардемарины начали спрашивать, отчего это у вас руки трясутся [82]? Он прехладнокровно вынул очки, надел их и тотчас выпалил, сказав: «Вот вам ответ, молодые дураки!» Гардемарины навели другую пушку, Бортвиг выпалил и, обратившись к команде, приказал возобновить огонь из прочих орудий – и вот снова заиграли пушки. Бортвиг, переходя от одного орудия к другому, выпалил еще несколько раз. Последнее орудие, стоящее около фор-люка, разорвало: казенная часть рассыпалась в песок, дульная часть вылетела за борт, огонь брызнул во все стороны, и в шкиперской каюте, около выхода из крюйт-камеры находившейся, возник пожар.
Первая пожарная партия во главе с мичманом Иваном Осокиным кинулась выносить тлеющий хлам. Офицер этот наложил на крюйт-камеру глухой люк, набросил на него мокрый войлок, поставил кадки и ведра с водой. Людям приказал из ручных брандспойтов беспрестанно окачивать переборки, сказав гардемарину: «Ну, любезный, наша участь одинакова – ты задохнешься в дыму, а не можешь уйти отсюда, я же должен сгореть или потушить пожар». Потом, бросившись в шкиперскую каюту, громко крикнул на оробевших людей, несмело подступавших к горевшей пеньке, схватил ее в охапку, завернул в несколько мокрых войлоков и в брезент и передал людям вынести наверх и выбросить за борт. Многие, задыхаясь от дыма, падали без чувств. По счастью, пожар скоро был потушен.
При разрыве последней пушки убило одного гардемарина и много прислуги переранило. Бортвига, полумертвого, на решетчатом люке снесли в кубрик. Очки сохранили ему глаза: передняя часть у стекол сделалась от чугунных брызг совершенно матовой, и очки так впились в переносицу, что надо было приложить усилие, чтобы их снять. Брови и покров со лба заворочены на темя; правая щека, равно как вся грудь и плечи, проникнутые чугунным песком, образовали ушиб, покрытый сотней маленьких ранок, из которых вынимали частицы сукна, полотна и волос. Левая щека от носа сорвана и закинута была на ухо. Нос и верхняя губа в двух местах были рассечены, и одной ноздри недоставало. Нижняя губа, тоже рассеченная пополам, висела на подбородке; вся кисть правой руки разорвана, на двух пальцев не хватало трех суставов. Обломком станины перебило ему ногу выше колена.
По счастью, на корабле был дивный медик; он из обрывков лицевого покрова вновь воссоздал лицо Бортвига. Когда надо было сшивать части лица, белый шелк закончился, и потому распустили черный шейный платок, скрутили шелковинки и употребили в дело, отчего лицо выздоровевшего Бортвига было татуировано, как у самого отчаянного дикаря. Впоследствии бритье доставляло истинное мучение бедному Бортвигу, и он очистил лицо, выщипывая по волоску. Рука его зажила, но ладони в ней не было, и кисть представляла что-то вроде вареной куриной лапки. Нога тоже срослась, но он долго ходил на костылях.
Бортвиг до Борнгольмского сражения был редкий красавец! Настоящее же его положение возбудило любопытство в самой императрице, и она пожелала видеть как портрет Бортвига, так и самого его. Увидев Бортвига, она изумилась. С полным участием она изволила сказать: «Душевно сожалею, сэр Роберт Бортвиг об утрате благородной вашей физиономии, но теперешнее состояние вашего лица ясно свидетельствует о воинской вашей отваге и доблести и потому не менее привлекательно».
– Ваше Императорское Величество, – отвечал Бортвиг. – Я не жалею о потере наружности, но благодарю Бога за сохранение глаз, без которых был бы лишен истинного счастья видеть мою Всемилостивейшую Государыню.
Государыня изволила пожаловать ему руку. Лишь только императрица удалилась, одна особа из ее свиты, подойдя к Бортвигу и подавая портрет его и золотую табакерку, присовокупила: «Ее Императорское Величество просит вас табакерку сохранить на память и 500 червонцев употребить на поддержание здоровья, и в нуждах ваших прямо обращаться к Государю Цесаревичу».
(Морской сборник, 1855, № 6, с. 80–85)
«Перекрестили»
Множество адмиралов и офицеров русского флота были иностранцами и верно служили своему новому отечеству и его государям. При этом они, как правило, «обзаводились» и русскими именами. О том, как это происходило, повествует вице-адмирал Иван Иванович фон Шанц, по происхождению шведский дворянин.
Перед самым обедом пришел лейтенант Саликов, весельчак, добрый малый, в полном смысле слова новгородец. Во время своей продолжительной службы в Свеаборге он выучился кое-как болтать по-шведски и потому спустя несколько секунд после представления заговорил со мной на родном моем языке, без дальних околичностей называя меня по-приятельски «ты».
– Позволь спросить твое имя, любезный братец?
– Эбергард, – отвечал я.
– А как зовут отца моего братца? – допрашивал Саликов.
– Также Эбергард, – сказал я и, желая объяснить ему значение этого имени, выстрелил в моего названного братца целой тирадой из моей родословной.
– Ну, ну, не горячись, братец ты мой, верю, что ты коренной дворянин, но все-таки имя Эбергард ни к черту не годится. Неужели у твоего отца нет лучшего имени, чтобы было из чего выбрать? Неужели ты воображаешь, чтобы кто-нибудь, и в особенности наши митрофаны, могли бы запомнить: Эбергард Эбергардович. Да я могу тебя уверить, что с таким замысловатым именем ты во флоте просто пропадешь; право, пропадешь! Вот что, приятель.
– Как же быть; отец мой кроме имени Эбергард имеет еще другое – Юхан.
– Ага! Юхан, ну вот это прекрасно! Следовательно, мы будем тебя называть Юхан Юханович, или просто, по-русски, Иван Иванович; вот имя, которое, я тебя уверяю, сам черт никогда не забудет – настоящее, казенное – и дело с концом, – притом же и меня самого зовут Иваном.
Проговорив все это, заливаясь добродушнейшим смехом, он крикнул вестового и сказал: «Вот тебе, Ванька, барин; помни, что его зовут Иваном Ивановичем; что же касается фамилии, то конечно тебе до нее нет ровно никакого дела!..»
(Шанц И.И. фон Первые шаги на поприще морской службы, с. 23–24)
П. Милюков. Адмирал Александр Иванович фон Круз
На русской службе у иностранцев трансформировались не только имена. Дед адмирала Александра Ивановича фон Круза – Егор Круз, происходивший из древней датской фамилии, был одного поколения с адмиралом Корнелием Крюйсом, находившимся на русской службе при Петре Великом. Из рескриптов, данных на имя Александра Ивановича видно, что фамилия его менялась с Крюйса на Крюз (Крюйз), Крузе, а потом и на Круз. Но так или иначе, а служба адмирала, впервые прославившегося в Чесменском сражении, где он чудом спасся после взрыва своего корабля «Св. Евстафий», неизменно свидетельствовала о его служебном рвении, профессионализме и верности присяге. В Красногорском сражении (1790 г.) со шведским флотом он фактически спас столицу Российской империи.
Как скоро [в 1790 г.] Кронштадтский рейд очистился от льда, часть резервной парусной эскадры выступила в море под начальством вице-адмирала Круза для соединения с ревельской эскадрой, предводимой адмиралом Чичаговым. Эскадра Круза состояла из 17 линейных кораблей, 4 фрегатов и 2 катеров. Шведский же флот, находившийся в распоряжении герцога Зюдерманландского, имел 22 линейных корабля, 8 фрегатов и множество мелких судов.
После сражения 2 мая с эскадрой ревельской шведский флот долгое время занимался починками своих повреждений. Слух о выходе в море эскадры Круза потревожил шведов, но, надеясь на превосходное число судов своих и опасаясь соединения кронштадтской эскадры с ревельской, герцог пустился к Гогланду, желая разбить Круза и потом снова попытать счастья в борьбе с Чичаговым.

А.И. Круз
Эскадра наша была задержана противными ветрами у Красной Горки до 21 мая, в этот же день ветер сделался благоприятным, и Круз увидел неприятеля и построил корабли свои в линию. 22 мая шведы были на ветре и начали тихо спускаться на эскадру нашу, но весь этот день прошел без боя. 23 числа в 2 часа пополуночи ветер снова переменился, и Круз, не теряя времени, воспользовался этим случаем, чтобы атаковать неприятеля; густой туман мало-помалу исчез и в половине 4 часа завязался бой, продолжавшийся до 8 часов. Мы одержали верх, несмотря на то, что четыре наших поврежденных корабля принуждены были выйти из линии.
В девятом часу неприятель начал ретироваться, но потом, построившись снова в линию, спустился на нашу эскадру, однако на таком расстоянии, что ядра едва достигали цели. Круз не велел отвечать на безвредные неприятельские выстрелы. В это время несколько щведских канонерских лодок открыли стрельбу по нашим кораблям, вследствие чего Круз сделал сигнал резервным фрегатам своим поворотить и прикрывать наши суда, наступая на неприятельские лодки. Между тем шведские парусные суда возобновили атаку, продолжавшуюся с полудня до самого позднего вечера.
На другой день, 24 мая, поутру герцог Зюдерманландский начал снова спускаться на эскадру Круза, но не подходил близко, стараясь принудить нас к невыгодным маневрам, однако все хитрости неприятеля были безуспешны, и Круз везде противопоставлял ему искусный отпор. Наконец шведы снова устремились в атаку, намереваясь охватить эскадру нашу с двух сторон и тем поставить ее между двух огней, но и тут искусный поворот, произведенный Крузом, не только разрушил план неприятеля, но и самого его поставил в крайнее положение.
После 2-часового боя шведские корабли ретировались под прикрытием фрегатов. Круз, зная о приближении ревельского флота, погнался за неприятелем, стараясь в свою очередь поставить его между двух огней, но мрачная погода скрыла от Чичагова бегство шведов, которые в беспорядке удалились в Выборгскую бухту, где находилась [их] гребная флотилия, предводимая самим королем.
Вслед за победами, происходившими в мае 1790 года, Круз покрыл себя не меньшей славой в Выборгском сражении при разбитии шведов адмиралом Чичаговым 22 июня того же года. По словам главнокомандующего, Круз храбро и мужественно поражал неприятеля, за что удостоился получить чин адмирала и военный орден святого Георгия второго класса и шпагу за храбрость, алмазами украшенную.
В 1790 году, в мае, во время сражения со шведами императрица находилась на балконе Зимнего дворца и, слыша под Кронштадтом пушечные выстрелы, от коих дребезжали стекла в зданиях на набережной Невы, в беспокойстве сложив руки, изволила спросить по-немецки близ стоявшего статс-секретаря Турганова: «Скажите мне, что делает теперь наш Круз?», – на что получила ответ: «Будьте уверены, Ваше Величество, что он пересилит самого беса!» В тот день приехал курьер с известием о победе.
Во время сражения со шведами с корабля вице-адмирала Сухотина был сделан сигнал, что адмирал этот смертельно ранен. Круз, тронутый этим известием, сел в катер и, невзирая на летавшие вокруг ядра и картечь, отправился в последний раз обнять храброго своего сослуживца, которого застал еще в живых. Утомленный продолжительным сражением и жаркой погодой, Александр Иванович находился в одном камзоле, имея через плечо орденскую ленту, и по обыкновению курил трубку. В таком положении переезжал он с корабля на корабль в виду неприятельского флота и к общему удивлению вышел невредим из шлюпки, имея на плече своем кровь только что убитого на юте матроса.
В 1791 году в один летний вечер, когда адмирал в кругу своего семейства кушал чай, является незнакомец и с вежливостью просит позволения списать с адмирала портрет. Портрет написан был сухими красками в несколько дней. Адмирал, вручая художнику деньги, замечает на портрете какую-то надпись и с неудовольствием говорит: «Прошу вас, милостивый государь, принять вознаграждение за труд и непременно стереть эту надпись». Художник, отказываясь от денег, отвечает: «Я совершенно вознагражден тем, что первым имел честь снять портрет с вашего высокопревосходительства. Я прислан по воле императрицы, и надпись эта ее собственного сочинения, равно как и само расположение портрета». Надпись на портрете была следующая:
«Громами отражая гром,Он спас Петров и град и дом».ЕКАТЕРИНАЭта надпись, в столь кратких словах так хорошо говорящая о деяниях Круза, вошла в состав его герба и читается на надгробном памятнике адмиралу в Кронштадте.
При даче Круза в Ораниенбауме находилась потешная крепость, с которой при поднятии и спуске адмиральского флага во время утренней и вечерней зари палили из пушки. Один чиновник, желая чем-нибудь повредить адмиралу во мнении императрицы, довел до ее сведения о происходящей на даче пальбе. Великая Государыня отвечала на это: «Пусть его палит, ведь он привык палить!»
(Морской сборник, 1855, № 6, с. 251–257)
А.П. Соколов. Лейтенант Ковако
Рассказ о георгиевском кавалере лейтенанте Николае Кузьмиче Ковако – это рассказ о воинском и христианском подвиге и благородстве русских моряков, мужественно разивших врага на войне и протягивавшим им дружескую руку в дни мира.
Он был молодец из всех наших молодцов того времени; у него в команде была плавучая батарея[83] и отряд канонерских лодок, которые водили ее на буксире. В 1789 году августа 13 дня наша гребная флотилия под начальством вице-адмирала принца Нассау-Зигена учинила нападение на шведский гребной флот, расположенный между островами Куцемулем и Коткой[84]; дело уже завязалось, когда Ковако со своей батареей и отрядом лодок занял позицию в проливе между двух маленьких островов. Лодки, ошвартовав батарею поперек пролива, скрылись за ней и как будто из-за гранитной скалы выдвигаясь, разили врага меткими выстрелами. В то же самое время батарея производила убийственный огонь почти во фланг шведского крыла. Шведы уже торжествовали победу на этом крыле, но не могли воспользоваться успехом, ибо батарея в это время открыла свой огонь, почему шведы принуждены были учинить перемену фронта и сосредоточить все силы своего крыла против батареи Ковако и его отряда. И огонь неприятеля был таков, что на батарее почти все люди были ранены, сбитый флаг ее отнесло в сторону неприятеля, у самого Ковако оторвало левую руку, и потому на батарее огонь приутих на минуту; на ней стали переменять прислугу и самого Ковако уговаривали сделать операцию. «Не время», – отвечал он и дозволил сделать себе перевязку, дабы остановить кровь.
Шведы, не видя на батарее флага, который нечем было заменить, предположили, что батарея сдалась, и двинули на нее несколько судов. Ковако во время перевязки зорко сторожил шведов; по его словам батарея снова открыла сильный огонь. Вскоре на островке, ближайшем к шведской флотилии, послышался звук трубы, и явился парламентер. Парламентер объявил от имени своего главнокомандующего: «Так как батарея, спустившая флаг, вновь открыла огонь, то если через минуту не замолчит и не сдастся, то будет взята на абордаж, и тогда командира повесят на флагштоке, а людей бросят в воду!»
– Уверьте главнокомандующего, – отвечал Ковако, – что мы живые, верно, не попадем в его руки! Так ли, ребята?
– Рад стараться, ваше благородие! – громогласно отвечала команда.
– Доложите ему, – продолжал Ковако, – что если Бог благословит оружие нашей Всемилостивейшей Государыни, и он сам попадет мне в руки, то я его накормлю, напою, в баньке выпарю, деньгами снабжу и в его сторонку отпущу, и Матушка-Государыня верно скажет: молодец, Ковако, врагу за суленое зло заплати добром! Если меня убьют, вы, господа, исполните обещание?
Все офицеры единогласно подтвердили, что последняя его воля будет исполнена.
Отпуская парламентера, Ковако извинился, что он, по неимению флага, бой будет продолжать без него.
На Роченсальме есть и теперь семь батарей и две улицы Ковако, три дома Ковако, колодезь и училище его имени. Про Ковако много пелось песен. Вот начало одной:
Где НассауСвою славу,Всю засалив, потерял;Там КовакоСебе славуБез руки сковал.Когда великий Суворов воздвигал Кюмень-град[85], то сам обратился к Ковако, уже гражданину острова Котка. Полюбил его за ум и везде брал с собой на катере, прислушивался внимательно к замечаниям Ковако и все вновь воздвигнутые батареи назвал по имени его, различив номерами. Однажды Суворов посетил училище для детей нижних чинов, Ковако в своем доме устроенное, в то время как Ковако одним объяснял цифирь, других же учил грамоте. Суворов молча обнял Ковако и поцеловал в лоб и в тот же день объявил желание воду пить и окачиваться ей из колодца Ковако. Суворов, прощаясь с Ковако, взял его обеими руками за плечи, долго смотрел в глаза и, перекрестив, поцеловал его в лоб, сказав: «Помилуй Бог! У этого человека такие желания, которые он сам выполнить может, ему никого не надо, он счастлив».
Суворов, проезжая в карете мимо батарей Ковако, изволил сказать: «Помилуй Бог! Я сам Ковакой стал, во имя храброго Ковако столько ковак наковал». И тем дал знать, что солдатские песни, сложенные на гребной флотилии, были ему известны.
Много лет спустя, пришел к Роченсальмскому порту шведский корабль. Вошедший к главному командиру порта Ковако, лишь только взглянул на шкипера, тотчас кинулся к нему, вскричав: «Милый мой парламентер, здравия желаю!» Старики дружески обнялись, упрекнули, что они друг другу прострелили ноги. Благородный швед, ударяя по деревянной ноге в такт своему рассказу, сказал, что когда он возвратился к своему главнокомандующему и передал ответ Ковако, то в ту же минуту получил приказ взять батарею, но щадить по возможности всех… Старики долго беседовали о былом.
(Морской сборник, 1855, № 6, с. 86–91)
Ордер Г.А. Потемкина Ф.Ф. Ушакову. 3 июля 1790 г.
Подвиги русского флота на Черном море вписали славную страницу в историю Отечества. Здесь развился и заблистал талант великого адмирала Федора Федоровича Ушакова, нашего морского Суворова, причтенного Русской Православной Церковью к лику святых. Но обратим внимание и на строй мыслей его непосредственного начальника светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического – насколько они проникнуты высоким духом христианского воинского служения.