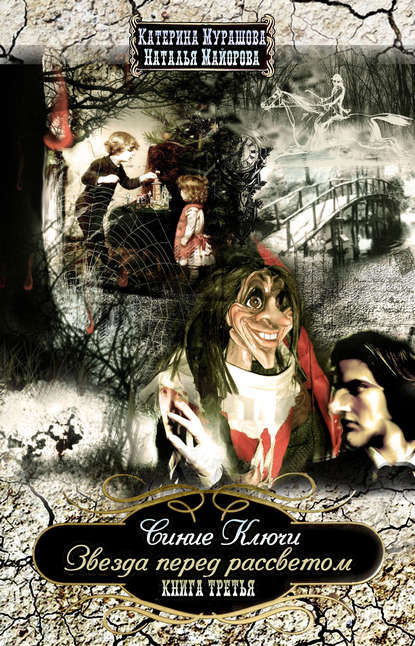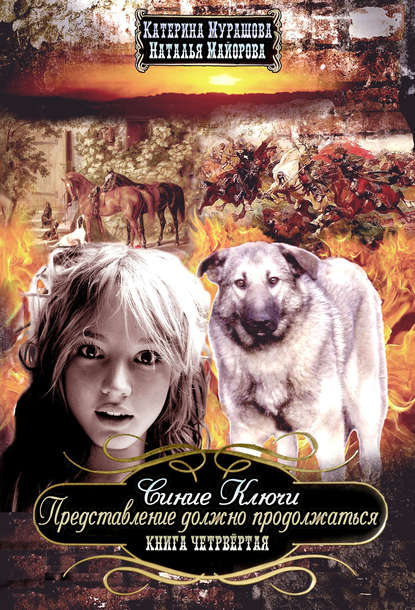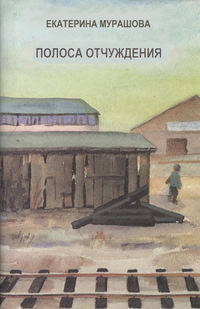Полная версия
Пепел на ветру
– Шпионов сразу к стенке и в расход! Хлоп и нету!
– А вдруг – ошибка?! – ахает Марыся. – Да и живая ж душа…
– Когда сходятся в решительной схватке класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых – тут не до сантиментов! – с чужого голоса говорит Люша и добавляет от себя. – Так ведь и тех, рабочих, гвардейцы после постреляли – ужас сколько. Все по-честному.
– Люшка, а мы с тобой – какой же теперь класс?
– Ты, Марыська, – наемная работница, судомойка, самый что ни на есть пролетариат, – четко отвечает Люша. – А я – сирота-побродяжка, деклассированный элемент.
– Это почему это? – подозрительно спрашивает Марыся. В различных определениях их классовой принадлежности ей чуется какая-то обида.
– Феличита где? – не отвечая, спрашивает в свою очередь Люша.
– Бегает где-то. Третьего дня вроде видала, Ботька ее за хвост таскал, она его за палец кусила. Как ты уйдешь, так и она тоже пропадает. И чего ей с тебя? – с досадой добавила Марыся. – Кормлю-то ее я, да и у тебя особой к ней любви что-то незаметно…
– Я собачье слово знаю, – равнодушно ответила Люша. – У меня дома, в Синей Птице знаешь сколько псов было? Я их сама сосчитать не могла. И все Феличитке не чета – здоровые, мохнатые, зубастые… Значит так. Завтра с утра я побегу смотреть, как солдаты станут баррикады растаскивать. Может, из пушки еще стрельнут? Интересно. И разузнать, как там все – кто живой остался, кого убили и вообще. А на тот день – воскресенье… Пойдем на «Трубу» Феличиту продавать. Значит, сегодня вечером будем ее мыть. Как явится, привяжи ее и малым накажи, чтоб не отпускали. Мыло я у студента украла, а ты из трактира таз возьми и гребень приготовь…
– Вот еще – хорошее мыло на собаку тратить! – фыркнула Марыся. – Да я лучше завтра сама с ним в Сандуны схожу, меня ж студенты в корыте не купали! А для Феличитки у солдатки на копейку возьму.
– А вот и дура! – огрызнулась Люша. – Барыне в собачке что? – первым делом на руки и нос в шерсть суют. Им главное – чтоб пахло приятно! А чем она после солдаткиного мыла пахнуть будет, а? Если обмылок останется – тогда твое, а так – не обессудь.
Марыся тяжело вздохнула, признавая правоту подруги.
– А почему ты всегда дом свой Синей Птицей зовешь? Что за блажь?
– Отчего ж блажь? – удивилась Люша. – Испокон ведется. Дома людей, небось, не хужее. И жизнь у них часто длиннее человеческой. Как же без имени? Вот и у нас на Хитровке все дома по именам – дом Малкиеля, дом Шипова, и даже трактиры по именам – «Каторга», «Пересыльный».
– Так причина ж тому есть. Дома – как владельца зовут или звали. А «Каторга» – потому что, как с каторги бегут, так там и ошиваются. А у тебя чего?
– А у меня вот чего… – Люша вытянулась, закинула за голову руки (узкие локти треугольничками торчали вверх) и прикрыла глаза. – У нас главная гостиная, где балы давали, называлась «голубой зал» и была двухсветной. Нижние окна обычные, французские, в выходом на террасу, а в верхних окнах витражи в три цвета – голубой, синий и фиолетовый. По бокам-то все цветы, цветы и волны какие-то. А вот в центральном окне – синяя птица с распростертыми крыльями. Летит она над миром… полями, лесами, океанами…
– Красиво… – протянула Марыся. – Скучаешь за домом-то?
– Так нет же его больше. По чему скучать? По головешкам? Пустое дело…
– Обидно. Как отец помер, это ж твое было бы, если не врешь все, конечно. Богатая была бы. А теперь…
– Ничего, – сквозь зубы пробормотала Люша. – Я как в возраст войду, за все поквитаюсь. За нянюшкину смерть. И за свою здешнюю жизнь. Я ждать умею.
– С кем же квитаться? – удивилась Марыся. – Ты ж сказала: крестьяне усадьбу пожгли. Разве всей деревне мстить станешь?
– Деревня пускай. Отец их разозлил, плату за землю поднял, агитаторы с толку сбили, сеяться нечем, вот и пустили красного петуха… Это прошлое. Но нянюшку сожгли, и меня чуть-чуть не прикончили – это отдельный разговор, об отдельном человеке, и ему срока нету…
– Кто ж этот злыдень, что девчонке и старухе смерти пожелал? – ахнула Марыся. – И какая ему в вашей смерти выгода?
– Много будешь знать, состаришься скоро.
Помолчали.
– А я, Люшка, вот чего… – мечтательно сказала наконец Марыся. – Когда в силу войду, заведу свой трактир. Назову «У Марыси».
– Вона как… – Люша приподнялась на локте, попыталась в потемках заглянуть в лицо подруге. – А я полагала, тебе уж трактиры обрыдли… Думала, ты замуж пойдешь. За мещанина, или, если повезет, купеческого сынка окрутишь… А чего? Ты же, в отличие от меня, на лицо пригожая и фигура вся при тебе…
– Не, я свое дело хочу. Замуж – оно конечно, это я не прочь, если человек добрый найдется и руки не станет распускать. А все равно… Я уж все придумала, послушай, как оно будет: значит, по обеим сторонам печи с изразцами, чтоб зимой греться можно, и рядом длинные столы из сосновых обязательно досок (от них дух лучше идет) – это для черной публики, чтобы щец похлебать с хлебом, или пирожков там с требухой… А наверху такой как будто балкон и лестница туда ведет с красной дорожкой и с одной стороны половой стоит во всем белом, а с другой стороны – пальма… – Люша усмехнулась Марысиным прожектам, но ничего не сказала. Усмешка перешла в зевок. – Спереди – окна такие большие, как у Филиппова, может даже с витражами, как у тебя в доме, только чтобы не синь-синяя, а веселенькое что-нибудь – красное с зелененьким, к примеру. А там наверху столики на четверых, со скатертями чистыми в красную и белую клетку. А по бокам красные бархатные диваны, и фисгармония, или еще лучше – евреи чувствительно на скрипочках играют. Или певица – в парике, с пудрой и в длинном платье. И на каждом столике свечечка, а наверху – лампы, а по углам пальмы, и цветы живые цветут, а на стенах картины висят, и клетки с канарейками и ящики стеклянные, забыла как называется, а в них рыбы плавают, и еще всякие гады…
– Аквариум, – Люша снова зевнула. – Марыська, может тебе лучше сразу зверинец завести и оранжерею, а? Зачем тебе трактир?
– Ничего ты, дурочка, не понимаешь в мечтаниях честной девушки! – официально обиделась Марыся.
– А откель же мне в них понимать-то? – искренне удивилась Люша. – Если я честных девушек и не видала никогда… Давай лучше спать, Марыська, я ж, как рассветет, побегу уже…
* * *Еще с Неглинного проезда несется собачий лай и птичий гомон.
Ружейные охотники, любители птиц и просто зеваки толкутся на Трубной площади, где по случаю воскресенья раскинулся рынок. На специальных подставках висят клетки – щеглы, канарейки, соловьи, скворцы, пеночки. Голуби всех пород – от обычных сизарей до изысканных, как японская хризантема, турманов. Справа в корзинах – индюки, гуси, утки и как упавшая на брусчатку радуга – петухи. В отдельном углу – рыболовные принадлежности, корм для птиц и рыб, лески и в специальных сосудах лягушки – предсказательницы погоды.
Люша и Марыся идут рядом, но словно незнакомы между собой. Марыся вся такая приличная – в цветном полушалке поверх пальто, в маленькой шапочке набекрень и в ботиночках на пуговках. Люша – типичный хитровский мальчишка-оборвыш. Кудри спрятаны под мятым картузом, озябшие руки – в дырявых карманах. В руках у Марыси корзинка, накрытая синей тряпицей. Из-под тряпицы выглядывает любопытная собачья мордочка – черный нос, розовые блестящие кудряшки, глаза тоже черные, сверкают любопытно и отважно. Это – Феличита, собачонка, подобранная девочками в сточной канаве на Грачевке – живая средь прочих уже захлебнувшихся новорожденных щенков. Выкармливали ее сначала молоком из пипетки, потом жеваным хлебом, потом – чем придется. Подросши, собачонка оказалась ушлая, самая настоящая оторва с Грачевки родом. Знала, когда промолчать и под лавку спрятаться, когда схватить и бежать, а когда и облаять и даже кусить неприятеля за икру. Шерсть имела тонкую и длинную, на груди и лапах белую, на спине палево-рыжую. Обычно ходила вся в репьях да в колтунах, ровно грязно-серого цвета. Когда же бывала отмыта, высушена в тепле и расчесана, превращалась в симпатичнейшего зверька с дивной волнистой шерстью, умными глазками и розовым язычком. Не собачка, а экзотический цветок. Именно в таком виде, с розовым бантом на шее ее и продавали по воскресеньям на Трубной площади.
Собачий рынок обширен. Возле сеттеров, лягашей, борзых и гончих – солидные члены богатых охотничьих обществ. Возле дворняг – домовладельцы с окраин, желающие недорого прикупить цепного пса для охраны. Отдельный ряд – дрожащие левретки, кривоногие таксы, человекообразные щенки бульдогов за пазухой у владельцев…
– Девочка, какой породы твоя собачка?
– Лиссабонская болонка, сударыня, – почтительно приседает перед купчихой Марыся. – Привезена с берега Атлантического океана, из страны Португалии.
– А чего ж продаешь такую редкость?
– Барыня моя стара и нездорова очень, уезжает за границу на воды, вернется ли – бог весть. С собой берет только любимицу Алисию. А прочих двенадцать – велела раздать. По большей части среди знакомых разошлись – в знатные дома. Эта вот самая молодая – Феличита. Последняя. Барыня разрешила мне ее продать, себе сластей купить, а остальные деньги в храм пожертвовать – чтоб за здравие ее молились.
– Покажи собачку-то – здорова ли?
Марыся вынимает Феличиту из корзинки. Собачонка лупится глазками, часто дышит, поджимает хвостик под розовое брюшко.
– Чтой-то худая больно…
– Так они все у барыни в еде разборчивые, абы что – не едят.
– А в комнатах не гадит? Ее же, красулечку такую, небось в спальне держать надо… А то у меня золовка купила таксу, так та ей все постели зассала…
– Да что вы! Ни боже мой! Чистоплотна пуще кошки. Можно и на двор не водить. Приучена гадить в специальный лоточек, куда надобно опилки сыпать. Но можно и гулять водить на шлеечке. Вон в том ряду, в конце возможно у тетеньки купить, а можно и самим смастерить. Только должна вас предупредить, мадам: Феличита грязи не любит, если мокро – ни за что не пойдет.
– Ишь ты, барыня какая! – ухмыляется купчиха. – А сколько ж хочешь за нее?
– Пять рублей.
– Ну это уж ты сказала! Не смеши публику! Да я себе за такую цену вон там сенбернара куплю!
– Мадам, если вам в спальне нужен сенбернар, а не лиссабонская болонка… – начинает торг Маруся.
Но тут в разговор вмешивается маленький мальчик в башлыке и хорошем пальто с бобриковым воротником.
– Мама, мама – купи мне эту собачку! – кричит он, таща за собой молодую женщину с худым лицом. – Ты обещала, если маленькая и породистая – купишь. Гляди, какая она красивая! Я буду ее дрессировать – помнишь, как мы в цирке видели. И гулять водить…
– Лучше по травке, молодой господин, – елейным голосом говорит Марыся. – Ведь самое для нее наилучшее развлечение – это ловить бабочек на цветущем лугу…
Люша поодаль не выдерживает и сгибается пополам от беззвучного хохота, хотя вся биография Феличиты от начала и до конца придумана ею самой. При том обе девочки хорошо знают: любимое развлечение безродной собачонки – воровать гнилую требуху с задов охотнорядских мясных лавок.
Женщина явно колеблется.
– Мы будем с ней вместе ловить бабочек на даче! – еще более воодушевляется мальчик. – А потом я буду насаживать их на булавку и сделаю себе коллекцию, как у Сережи!
Купчиха между тем взволновалась всем обширным телом, как пруд под ветром.
– Что ж ты, милая! – с упреком обращается она к Марысе. – Мы ж с тобой еще не поговорили толком, а ты уж и мальчонке готова отдать. Не по совести это…
– Мама, купи собачку! Скорее купи! Давай пять рублей!
– Мадам, я все помню, – с достоинством отвечает Марыся. – Вы первая подошли, но я решила, что вам цена не подходит. А коли теперь согласны – так ваше право.
– Ма-ама! Соба-ачку! Мне-е!
Купчиха, морщась от вопля мальчишки, достает кошель, отсчитывает пять целковых.
Маруся прячет деньги за пазуху, передает купчихе корзинку с Феличитой, предварительно сняв с собачонки розовый бант:
– Хоть это мне на память останется… – сокрушенно вздыхает она. – Такая уж ласковая собачка… Себе бы взяла, да не по чину нам…
– Ма-ама-а! – вопит мальчишка и бешено пинает ногами сугроб, подвернувшуюся коробку, подол матери.
– Может быть, я дам пять с полтиной? – наконец решается женщина.
– Торг закончен, – строго говорит Маруся и целует собачку в черный нос. – Прощай, Феличита.
– Погоди, погоди, девочка! – окликает купчиха. – Как порода-то зовется? Хозяину сказать…
– Лиссабонская болонка, – скороговоркой повторяет Марыся. – Страна – Португалия.
– Лиссабомская… Потругалия… – бормочет купчиха, удаляясь вместе с мальчиком, который несет ее покупки.
Феличиту она несет сама, прижимая корзинку к груди. Люша, сунув руки в карманы, идет следом за ними. Мальчишка падает на истоптанный снег и верещит, как будто его режут. У женщины измученное лицо. Известный всему Трубному рынку собачий вор Павка тут же предлагает ей купить у него лохматого кривоногого ублюдка, который ровно тоже самое, что у той барышни – лисбамонская болонка, только изволите ли видеть – кобелек-с…
* * *– В Замоскворечье она живет, – тем же вечером докладывает Люша Марысе. – Возле Немецкого рынка. Собственный дом с садом, в доме – часы с боем и икон – видимо-невидимо…
– Все-то ты разглядела! – усмехается Марыся. – Что ж Феличитка?
– Да пусть поживет у купчихи денек-другой, поест сладко, поспит на подушечке шелковой… Знаем, где она, и ладно. А чего ты мальчишке-то не продала? Они больше давали, да и с квартиры сманить-сбежать легче, чем с купеческого-то двора…
– Да ты представь: если б ты ее сразу не сманила, этот противный мальчишка нашу Феличитку и за день так бы затискал-задергал, что – жизнь не мила… Пожалела я ее…
– Да ладно! – усмехнулась Люша. – Будто Атька с Ботькой ее за уши, за хвост не тягают…
– То – другое дело, – непонятно отговорилась Марыся. – Да и недосуг мне было дальше торговать – и так в трактире ругались, что надолго отлучилась… Вот, гляди лучше, какую я Ботьке шапчонку купила… и деду Корнею кацавейку… И то хорошо, что ходить никуда не надо – нашему портняжке как раз сегодня Семен-Кочерга отдал краденое перелицевать, я и выбрала…
– Деньги отдала?
– Два рубля за все. По-божески. Еще Атьке юбчонка из отрезанного края и мне косынка.
– Зря отдала. Для меня Гришка с Семеном договорился бы за так. Не могла подождать…
– А я знала?.. Люш… А чего у тебя с Гришкой-то? Я понять не могу: вроде ты его маруха, он так говорит, да и ты… а вот ночуешь-то ты завсегда здесь, с нами… когда по баррикадам и иным местам не скачешь, конечно… Как оно?
– Не твое это, Марыська, дело! – отрезала Люша. – О себе думай. А мы с Гришкой Черным как-нибудь сами разберемся.
– Оно-то конечно да… – неопределенно проворчала Марыся. Видно было, что ее любопытство отнюдь не угасло.
* * *Спустя пару-тройку дней покруглевшая Феличита в шелковой шлейке и с огрызком поводка была уже дома, в ночлежке на Хитровке, облизывала соскучившиеся мордочки Ати и Боти, подставляла розовое, но уже заляпанное грязью брюхо деду Корнею, ластилась к Люше и привычно выпрашивала у Марыси трактирные объедки. Подождав для верности пару недель, ее можно было мыть, привязывать все тот же розовый бант (в промежутках между продажей собачки его в очередь носили Атя и Марыся) и продавать снова – доход для девочек нечастый, но верный.
Глава 5,
В которой читатель знакомится с новыми героями – Доном Педро, профессором Рождественским и его учениками – Аркадием Арабажиным и Адамом Кауфманом.
Москва, Московский университет, февраль, 1906 год
– Что ж профессор? Он, конечно, узнал о твоих планах? Ругался? Громыхал, обвинял в предательстве? Адам? – изрядно коренастый молодой человек подписал восковым карандашом последнюю пробирку, аккуратно поставил ее на штатив и с живым любопытством взглянул на друга.
Невысокий худой человек с узкой бородкой и умным лицом молодого Мефистофеля отрицательно покачал головой, уселся к лабораторному столу на высокий стул и зажег спиртовку.
– Скорее грустил. Обвинял меня в отходе от московских традиций. Решив посвятить себя психиатрии и отъехать в Петербург, я должен был раньше посыла научных материалов петербургским коллегам прийти к нему на квартиру и где-то между вторым и третьим самоваром покаянно признаться в изменнических намерениях…
– Что ж, где-то так я тебе и советовал. Еще?
– Еще Юрий Данилович широкими мазками рисовал твое будущее как руководителя борьбы с холерными эпидемиями в масштабах империи. Он в тебя верит!
– Звучит вдохновляюще… А ты?
– Я, естественно, приседал и кланялся, как Петрушка из уличного театрика.
– Смешно. Но я понимаю старика, Адам.
– Ты, Аркаша, всегда лучше понимал людей. И больше обращал на них внимание. Поэтому тебя, в отличие от меня, тянет к общественной деятельности.
– Но любимым учеником Рождественского всегда был ты. Аркадий Арабажин – скрупулезный экспериментатор и честный клиницист. Адам Кауфман – исследователь, талант и надежда науки.
Адам поспешно отвел глаза и даже просыпал чуть-чуть белого порошка мимо горлышка пузатой колбы. Аркадий понял, что угадал аттестацию, данную профессором, едва ли не дословно.
– Юрий Данилович никогда ничего такого…
– Брось, Адам! Я ни к кому не в претензии и отнюдь не собираюсь посыпать голову пеплом по поводу своей бездарности.
– Ты совершенно прав. У науки нет лишних служителей, и лишь будущее всех рассудит… Я сказал профессору, что ты хотел поговорить с ним. Юрий Данилович ждет тебя прямо сейчас. Это насчет твоей статьи? Ты сумел-таки проиллюстрировать препаратами исход некроза?
– Статья – повод. Как ни странно, у меня к Рождественскому частный вопрос.
– А… Тогда ладно, – Адам отвернулся и склонился над бинокуляром. Частные вопросы, не касающиеся науки, его не интересовали.
В темноватом кабинете почти все место занимают тяжелые и угрожающе-теснящиеся шкафы с книгами, журналами записей и планшетами, в которых хранились препараты для микроскопии. Свет – от лампы с каменным основанием и стеклянным зеленым абажуром. В кругу света – наполовину исписанный бисерным почерком лист бумаги. В углу с изысканным видом столичного денди стоит человеческий скелет. Аркадий привычно пожал плечами, встретившись с ним взглядом.
– Вот ведь – достался от предшественника вместе с кабинетом, – усмехнулся Юрий Данилович. – Сразу подумал: какая пошлость, убрать немедленно! А потом как-то между прочим не случилось, задержалось, а я уж и привык к нему, на исходе второго года стал, как и прочие, звать его Дон Педро, беседовать с ним по вечерам… Аркадий Андреевич, вы знали о намерениях Кауфмана?
– Да, конечно, – кивнул Аркадий. – Я даже помогал ему оформлять результаты исследований по позднему сифилитическому психозу.
– Я не понимаю. Сифилис и алкоголизм – это же в основе своей не медицинские, а социальные проблемы, и вы оба знаете это не хуже меня… Адам же одарен штучно, именно как исследователь, первопроходец! Он видит уходящие в будущее пути науки, которые скрыты от обычных смертных. Что ему делать в психиатрии?!
– Простите, Юрий Данилович, – с едва заметным отчуждением сказал Аркадий. – Но мне кажется, что нынешнее положение и перспективы развития российской психиатрии вам лучше обсудить с самим Адамом.
– Да, разумеется, – Юрий Данилович качнул тяжелой головой. – Простите и вы меня, Аркадий Андреевич. Я понимаю великолепно, что оперившиеся птенцы всегда вылетают из гнезда, но… Когда-то вы оба запросто, не чинясь, приходили ко мне домой, задавали вопросы, рассказывали об успехах и поражениях, а теперь я узнаю обо всем последним, практически случайно…
– Юрий Данилович, поверьте, Адам вовсе не хотел…
– Ах, оставим, Аркадий Андреевич, оставим Кауфмана и его дела, в конце концов, вы-то остаетесь в Москве… Я просмотрел ваши материалы, и согласен с тем, что нужна еще серия препаратов.
Аркадий кивнул и вписал пару строк в черную тетрадь, ниже аккуратно разграфленной и наполовину заполненной таблицы. Потом глянул нерешительно-ожидающе. Юрий Данилович тут же изобразил вопрос всем своим крупным, в породистых складках лицом.
– Профессор, вы, помнится, как-то говорили, что прежде бывали в имении Синие Ключи, Калужской губернии…
– Бывал, как же, бывал, – Юрий Данилович видимо оживился. – А что, Аркадий Андреевич, вы тоже с кем-то из тамошних были знакомы? Или из соседей?
– Так… случалось пару раз в гостях… – почти незаметно отведя обычно прямой взгляд, ответствовал Арабажин. – Там… что же теперь?
– Синих Ключей больше нет, дорогой Аркадий Андреевич, – профессор тяжело вздохнул, не решился на сильно звучащие слова и ощутил потребность в каком-то моторном выражении чувства. Хрустнул длинными пальцами и отпил остывший чай из стакана в серебряном подстаканнике.
– Но как…
– А вот так. Еще в 1902 году усадьбу сожгли дотла. Хозяина, моего старинного друга Николая Осоргина, убили, а его малолетняя дочь погибла в огне. Вместе с нянькой и воспитательницей.
– Почему все это произошло?
– Вы спрашиваете, Аркадий Андреевич? – горько усмехнулся Юрий Данилович. – Неужели вы думаете, что у меня есть для вас готовый ответ? Разумеется, был какой-то в меру дурацкий повод…
– Но причина?..
– Причина для подобного зверства всегда, во все времена одна и та же! – не скрывая раздражения и даже повысив голос, сказал Юрий Данилович. – Странно, что вы, естественник по образованию и устройству души, меня об этом спрашиваете. Особенно сегодня, сейчас, когда в Москве довольно на улицу глянуть или хоть с кем в разговор вступить…
– То есть вы полагаете, что любое движение масс имеет в своей основе природу биологическую? – насупился в свою очередь Арабажин. – Отрицаете само существование законов экономических, их роль в жизни общества?
– Увольте, увольте! – Юрий Данилович, наморщившись, помахал рукой, едва не сбив со стола пустой стакан. – Не обижайтесь только. Никак не виню, понимаю вполне, сам тридцать лет назад ту же коровью жвачку жевал вместе с товарищами с удовольствием немалым. Нынче – стар. Кто мыслит экономически – исполать тому. Кстати сказать… Для меня, учтите, – гордость и счастье, что никто из моих учеников не участвовал в недавнем смертоубийственном безобразии. Стало быть, я сумел-таки внушить, что благородное дело служения науке и медицине лежит вдалеке от злобных нападок слабоумного классово-коммунистического призрака…
Аркадий вздохнул коротко и несогласно, со всхлипом. Юрий Данилович, уже сожалея о своей вспышке, притушил острый взгляд, спрятал лицо, как в плащ, в избыточную лишь на первый взгляд кожу.
– Из доступных ядерных красителей я бы рекомендовал вам гематоксилин, коллега, – обычным тоном сказал он.
– Спасибо, профессор. Позвольте теперь откланяться.
– Разумеется, не смею задерживать. Был рад…
– Благодарю… – и уже на пороге, через широкое, надежное плечо. – Юрий Данилович, а есть ли уверенность, что все Осоргины действительно погибли в огне этого пожара?
Профессор удивленно повел кустистой бровью.
– К сожалению, да, коллега. В живых остался воспитанник Николая Павловича, родственник его первой, тоже уже покойной жены. Он же единственный наследник. А разве у вас другие сведения?
– Да нет, откуда, просто отчего-то вдруг захотелось уточнить. А как звали дочь Николая Павловича?
– Любовь, как же иначе, – ностальгически и непонятно вздохнул Юрий Данилович. – Ее звали Любовь… Бедная девочка, ей решительно не повезло в жизни с самого начала… и до самого конца.
* * *Аркадий Андреевич остановился у входа в лабораторию и длинно вздрогнул головой и плечами, как делают крупные собаки, выходя из воды.
«Счастлив и горд, что никто не принял участие…»
«Профессор, профессор, если б вы только знали…» – лирически подумал он и вспомнил, как в октябре 1905‑го Адам, с отчужденным по обыкновению лицом выносил из университетской типографии пачки только что отпечатанных листовок.
Глава 6,
в которой Люша встречается со старой цыганкой, марушник Ноздря объясняет свое отношение к революции, а фартовый Гришка Черный подумывает об убийстве.
ДНЕВНИК ЛЮШИВ поле за Черемошней, на краю перелеска встал табор цыган-кэлдэраров. Их мужчины лудили кастрюли и котлы. Женщины гадали, соблюдали хозяйство. Я узнала о цыганах от Степки, но еще раньше поняла, что происходит что-то интересное. Отец велел Пелагее «глаз с меня не спускать», Голубку отправили пастись в загон на дальнее пастбище. Настя под моим окном сказала Феклуше, вытрясавшей половики:
– Говорят, цыгане детей воруют. Ну так и украли бы нашу-то беду. Свое-то отродье забрать – сам цыганский бог велел.
Я уже знала, что в усадьбе действует закон: самое интересное от меня следует прятать. Например, когда в пастуха ударила молния, и он стал как обгорелая головешка – интересно же взглянуть! Но как бы не так! Сами, небось, все сбегали посмотреть, потом целый вечер в кухне болтали… Или когда у коровы Ромашки родился теленок с двумя головами – говорят, что прежде, чем он сдох, обе головы могли даже мычать! Но мне его, конечно, тоже не показали. И когда молодая крестьянка из Черемошни попала в молотилку, ей раздробило обе ноги, и ее принесли в дом, куда и доктор из Калуги приезжал – меня просто в комнате наверху заперли… Она выжила, кстати, только осталась без ног – обидно, конечно, замуж уже, скорее всего, не выйдет и вообще беда. Я ходила потом ее навещать в нижней комнате, принесла ей снежные кружева, которые нянюшка плетет, чтобы показать, чем ей теперь на жизнь зарабатывать можно, два рубля из своей копилки, и самые крупные цветы из нашей оранжереи – просто для красоты. Попросила посмотреть культяпки – интересно же! – но они все были забинтованы, и ничего не видно. Я пожалела: раньше, конечно, надо было смотреть, до приезда врача. С ней ее мать была, она деньги взяла, и они обе на меня так смотрели, как будто я – Ромашкин теленок. С двумя головами – и обе мычат. Но я не удивилась, потому что привыкла.