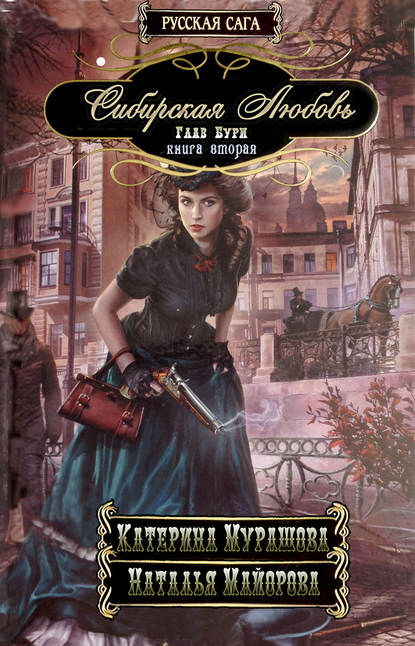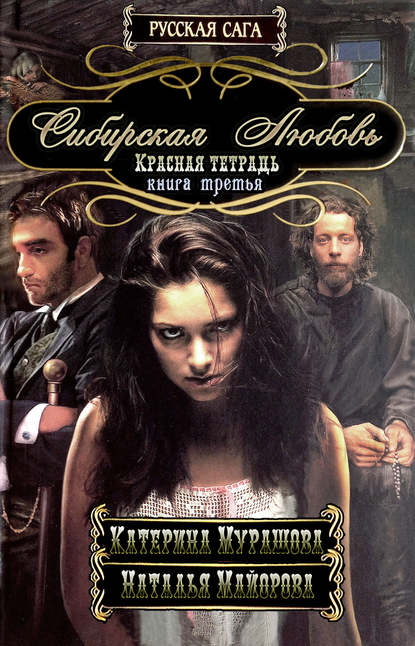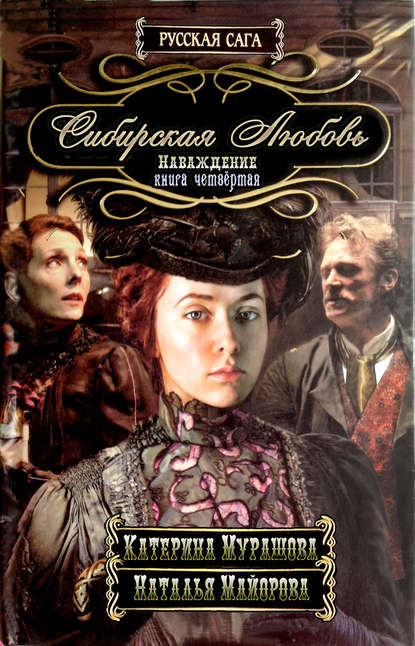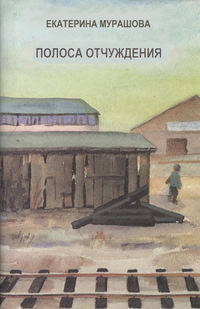Полная версия
Сибирская любовь
«Молодец, Вера!» – решила Софи. Образованная, пусть и на свой лад, горничная нравилась ей больше необразованной.
Софи пыталась занять себя каким-то делом, но все – кисти, книжки, пяльцы – буквально валилось у нее из рук. Только рояль, одиноко стоящий в гостиной, давал ей какое-то отдохновение и выход обуревавшим ее эмоциям. Софи не уродилась музыкальной, и уроки музыки, которые она когда-то брала, не принесли ей особой пользы. Однако сейчас она с воодушевлением тарабанила по желтоватым клавишам те немногие пьесы, которые знала наизусть, и даже пыталась разбирать новые. Многие значки она позабыла, полутонов не слышала, поэтому хаотическое присутствие в ее исполнении диезов и бемолей ее вовсе не смущало.
Удивительно, что ничего не говорила Наталья Андреевна, которую обычно пение и музицирование старшей дочери доводили до нервных припадков. В юности Наталья Андреевна считалась неплохой исполнительницей, почти профессионально пела и до замужества много лет брала уроки у профессора Консерватории Бельского. Рояль в гостиной входил в ее приданое, и первые годы замужней жизни она частенько присаживалась за него. Музыку (больше всех – Бетховена и Листа) Наталья Андреевна любила трепетно, по-девичьи. Поэтому ей было особенно невыносимо слушать бодрые, безграмотные экзерсисы Софи.
Молчание и неожиданная терпимость матери могли бы заставить девушку задуматься о причинах, если бы, повторимся, она вообще могла в эти дни размышлять о ком-то, кроме себя и своих сложных (придуманных от начала и до конца) отношений с Сержем.
Однажды за завтраком Наталья Андреевна устремила на старшую дочь какой-то странно пронзительный взгляд и многозначительно сказала:
– Сегодня к нам на ужин Ираклий Георгиевич Андронников пожалует…
Занятая своими мыслями, Софи посмотрела на мать с мимолетным удивлением: они же в трауре, визитов не принимают. Да и кто придет летом в дом игрока-самоубийцы? Впрочем, понятно, – тут же догадалась Софи. – Наверное, Ираклий Георгиевич, старший друг отца и сосед по имению, едет к себе в Осиновку и пришел от мамы узнать, не будет ли у соседки каких просьб и поручений по продаже и всякому другому. Он всегда был услужлив и деликатен. И, как многие грузинские смеси, исповедовал какой-то свой особенный кодекс чести, не очень-то привязанный к светским модам и предрассудкам.
– Ну что ж, пусть пожалует, – равнодушно согласилась Софи, проглотив последний кусок сдобной булочки с помадкой и заметив, что мать ждет от нее какого-то отклика.
– Я прошу тебя выйти и принять его вместе со мной.
– Зачем?! – теперь уж Софи действительно изумилась. – Да и что нам? Он же меня ребенком считает, дразнит всегда, шутит. А сейчас вроде неуместно. О чем же я с ним говорить буду?
– Найдется о чем, – значительно сказала Наталья Андреевна и замолчала, склонившись над чашкой с остывшим чаем.
После чая заинтригованная Софи немедленно взяла в оборот Аннет, мамину любимицу и наперсницу.
– Чего это там маман затевает? – напрямик спросила она сестру. – Зачем Ираклий Георгиевич зван?
– Да я не знаю, – мямлила Аннет, но ее небольшие светлые глазки лукаво поблескивали, выдавая имеющиеся в наличии сведения, а, пуще того, желание, чтобы высокомерная и грубая сестра немножко поупрашивала ее.
Софи, когда хотела, вполне умела быть милой.
– Анечка, зайчик, ну скажи, пожалуйста. Мама ведь тебе одной и доверяет. Мне и словечка не сказала. А мне ж надо знать, иначе чего я там буду – дура дурой…
«И поделом тебе!» – читалось на лисьем личике сестры. Софи смирила себя, хотя так и хотелось пребольно дернуть за жиденькую косичку. Чтоб завизжала на весь дом.
– Анюточка, зайчик мой беленький, ты только намекни, про что разговор-то… Хочешь, я тебе мою синюю бархотку дам поносить?
– Насовсем отдай, – тут же сориентировалась Аннет и победно улыбнулась. Видимо, на материальную выгоду из этого разговора она не рассчитывала. Собиралась ограничиться моральным удовлетворением. – У тебя еще черная есть, и лиловая с камушком. А у меня только розовая, да она мне не идет… – испугавшись, что зарывается, и тем ничего не добьется, предложила. – Хочешь, я розовую тебе отдам? Поменяемся…
– Ладно, ладно, говори, – согласилась Софи, подумав мимолетно, что при нужде она всегда отберет синюю бархотку обратно. – Может, ты и вправду не знаешь ничего?
– Я-то не знаю? – Аннет обиженно выпятила нижнюю губу трубочкой, отчего внезапно напомнила Софи запеченного молочного поросенка. – Мама со мной всегда разговаривает, и я все дела знаю… У нас ведь после папенькиной смерти денег совсем не осталось…
– Это-то и я знаю, – фыркнула Софи. – Что ж с того?
– Вот маменька и думает денно и нощно, как бы нам теперь денег раздобыть и на что дальше жить… И вот она мне прямо-то не говорила, но я поняла, что она решила…
– Что ж решила-то? – Софи подалась вперед и едва не схватила сестрицу за плечи, чтоб поскорей вытрясти из нее окончание фразы.
– Решила снова замуж выйти! – выпалила Аннет. – За Ираклия Георгиевича!
– Да ты что?! – ахнула Софи, прижав ладони к вспыхнувшим щекам. – А как же траур?! А папа?
– Ну, кушать-то тоже что-то надо, – резонно заметила Аннет. – И за Гришину гимназию платить… Объявят-то, наверное, потом, когда траур кончится. Ираклий Георгиевич – одинокий, богатый. Жена у него умерла, сын взрослый, за границей живет… А папа – что ж? Сам виноват. Трудиться надо было, а не вести… безнравственный, порочащий дворянина образ жизни…
Последняя, явно пропетая с чужого голоса, фраза как-то особенно задела Софи.
– Сучка ты, – севшим голосом сказала она и отвернулась.
Аннет хотела было заплакать или, на худой конец, вцепиться сестре в волосы (впрочем, в их драках всегда побеждала Софи), но вспомнила про свою выгоду и предпочла проглотить оскорбление.
– Причем тут я-то? – она пожала плечами. – Я, что ли, замуж пойду? Ты уж всегда так – когда злишься, дороги не разбираешь… Так я возьму бархотку-то? Или сама дашь?
Софи стиснула зубы, раскрыла коробку с лентами и молча швырнула сестре вожделенную бархотку. Аннет, еще раз пожав плечами и задрав носик, удалилась.
Софи опустилась на козетку возле трюмо и задумалась.
Спустя час обида за отца и гнев на мать прошли, и она уж видела в сложившемся положении множество преимуществ. Ираклий Георгиевич богат. Он заплатит долги отца, и значит, не придется продавать имение и квартиру, а Гриша останется учиться в престижной гимназии Карла Мая. Ираклий Георгиевич добрый, не станет обижать младших братьев и сестру, да и сама Софи тоже легко с ним договорится. «Впрочем, я-то что – отрезанный ломоть, – вспомнила Софи, и прекрасное лицо Сержа, словно озерное видение, всплыло перед ее глазами в клубах какого-то непонятного тумана. Лицо улыбалось, а губы беззвучно шевелились, повторяя те именно слова, которые больше всего на свете мечтала услышать Софи. – А как же все-таки маменька решилась? Да и он? Полюбили, что ли, друг друга?… Или раньше что-то… Да нет, чепуха, я бы знала… Как странно…»
Впрочем, долго размышлять о мотивах чужих поступков Софи не могла, да и не хотела.
Вера, как обычно, не принесла никаких определенных известий о Серже, но все же настроение Софи до вечера оставалось вполне бодрым. Некоторое облегчение от того, что с семьей все так хорошо устроилось, и больше думать об этом не надо – присутствовало, и довольно. Аннет надела к обеду синюю бархотку, но матушка даже не сделала ей замечания.
«Волнуется, наверное, – подумала Софи, но никакого сочувствия к матери не ощутила. – А что же она меня-то попросила вечером быть, а не лиску Аньку? Наверное, оттого, что я старшая… Забавно все это будет… Как же он: руку и сердце, что ли, предложит? Да ведь они уже старые совсем, смешно… И целоваться им уж, наверное, не хочется… – Софи представила себе целующихся Наталию Андреевну и Ираклия Георгиевича и содрогнулась от какого-то непонятного отвращения. – Фу, гадость!»
Высокий, со следами былой статности Ираклий Георгиевич нервничал еще более явно, чем Наталия Андреевна. После чопорного, молчаливого ужина (все дети глядели с удивлением, не узнавая гостя, обычно говорливого и веселого) семейство удалилось, оставив Ираклия Георгиевича, Софи и Наталью Андреевну в гостиной. Софи присела к роялю, Наталья Андреевна опустилась на краешек стула, Ираклий Георгиевич остался стоять возле окна и в волнении теребил ламбрекен. Повисло молчание.
– Софи, я хочу сообщить тебе, – не выдержала наконец Наталья Андреевна. – Поскольку твоего отца уже нет в живых, то Ираклий Андреевич обратился ко мне с предложением… с просьбой…
«Еще бы он обратился к тебе с этой просьбой при жизни папеньки!» – цинично подумала Софи и изобразила полное внимание к словам матери.
Впрочем, Наталия Андреевна на дочь не глядела, комкая в руках платок, уже насквозь промокший от пота.
– Ираклий Георгиевич, как друг нашего дома, вошел в наше затруднительное положение, и предлагает тебе… оказать ему честь и… стать его женой… – закончив, Наталия Андреевна облегченно выдохнула лишний воздух, который неизвестно когда скопился в ее груди.
– Разумеется, венчание и все формальности после окончания траура, – поспешил добавить Ираклий Георгиевич. – Поверьте, Софья Павловна, я не изверг и понимаю, что сейчас вы, как и вся ваша семья, не можете думать ни о чем другом, кроме постигшего вас горя… Но дела требуют разрешения немедленного, и если бы вы, Софи, как справедливо выразилась ваша матушка, оказали мне честь, я мог бы заняться ими теперь же, на правах, скажем так, человека близкого…
Несколько мгновений Софи казалось, что она ослышалась. Потом иллюзий не осталось.
– А я думала, вы на маме хотите жениться, – беспомощно произнесла она. – Аннет мне сказала…
Оба покраснели. Наталья Андреевна в синеватую сторону, так, что щеки и лоб стали почти лиловыми, а Ираклий Георгиевич кирпичным оттенком, в цвет стен старых заводских корпусов.
– Вот видите, Ираклий Георгиевич, – с досадой сказала Наталья Андреевна, немного оправившись. – Я ж говорила вам, она совсем ребенок. Надо было мне ее сперва подготовить, а вы все сами хотели. Пожалте теперь… Софи, милая, пойми… – она замолчала, подбирая слова.
– Да как же так может быть! – закричала Софи, крутанувшись на табуретке, и со всей силы оттолкнулась ладонями от открытой клавиатуры. Вместе с криком тишину гостиной разорвал громкий диссонансный аккорд потревоженного рояля. – Вы же моего папу старше на сто лет! Как вы можете…
– Всего на четыре, Софи, деточка… – неуверенно возразил Ираклий Георгиевич (на самом деле он был старше покойного Павла Петровича ровно на десять лет, но кому нужно знать об этом?).
– Софи, я прошу тебя не поддаваться эмоциям и серьезно подумать над предложением Ираклия Георгиевича, – внушительно сказала Наталия Андреевна. – Ты знаешь, что я очень редко тебя о чем-нибудь прошу. Мы с тобой вообще никогда… Впрочем, теперь это неважно. Все эти годы тебя фактически воспитывал отец. Результат налицо. Тебе шестнадцать лет, ты уже невеста, но даже после смерти отца ты ни разу не задумалась ни о чем, кроме своих пустых удовольствий. Однако теперь ты должна осознать свою ответственность…
– То есть, ты хочешь попросту продать меня ему? – Софи указала пальцем на Ираклия Георгиевича, смуглое, прорезанное глубокими бороздами лицо которого приобрело теперь какой-то пепельный оттенок. – Чтоб он заплатил папины долги и оплачивал Гришино обучение?
– Наталья Андреевна, позвольте мне объяснить Софье Павловне…
– Не надо ничего позволять, и так все ясно! – высказалась Софи.
Вся ее бывшая многолетняя симпатия к Ираклию Георгиевичу улетучилась, как дым. Сейчас он казался ей бесконечно старым и отвратительным.
– Софи, деточка, ты все не так поняла! Я знаю тебя с пеленок, и всегда восхищался твоим живым нравом. Ты с младенчества была похожа на веселый колокольчик. Рядом с тобой я каждый раз молодел и душой и телом. Ты помнишь, я качал тебя на колене, приносил тебе игрушки, пел вместе с тобой песенки. Моя бедная жена скончалась пятнадцать лет назад, когда ты еще лежала в колыбели. Сын вырос и покинул меня. У него своя жизнь, и я думаю, что он уж никогда не вернется в Россию. Я всегда любил тебя, но я стар и одинок, и я никогда не мог надеяться…
– А теперь появилась возможность приобрести меня за сходную цену вместе со всем моим дорогим семейством? – Софи встала, выпрямившись во весь свой рост, и даже слегка приподнялась на цыпочки.
– Софи, ты не смеешь оскорблять человека, который оказывает честь не только тебе, но и всей нашей семье…
– Сегодня я довольно наслушалась про честь… – внутри у Софи все дрожало, свернувшись в тугой узел, но каким-то неимоверным усилием воли она ухитрялась казаться почти спокойной.
– В конце концов, я твоя мать и могу просто…
– Крепостное право отменили больше двадцати лет назад, – отчеканила Софи. – Всего доброго, мама. До свидания, Ираклий Георгиевич. Мне жаль, что так получилось. Было бы куда разумней, если бы вы посватались к маме. Я думаю, она согласилась бы…
Глава 6
В которой читатель бегло знакомится с городком Егорьевском и населяющими его обывателями, а Евпраксия Александровна Полушкина вспоминает молодость и делится с сыном своими планами
Ежели случится вам путешествовать Пермско-Тюменской железной дорогою – на перегоне от Тюмени до Тобольска поглядите в окошко вагона. Увидите справные дома под тесовыми крышами, за ними поля, засеянные пшеницею, а еще дальше – бурую равнину с чахлыми березками, синюю тайгу, топи, буераки… Наезженные тракты, уводящие в дебри. По этим трактам и ныне ездят, как встарь. Да что там встарь – еще совсем недавно, до тысяча восемьсот восемьдесят пятого года, железная дорога кончалась в Екатеринбурге, а дальше – извольте на почтовых лошадях или уж как сумеете. Один путь до Тобольска, другой – до Ялуторовска и от него на Ишим и Тюкалинск. Где-то среди этих дорог пролегла еще одна, через самые что ни на есть глухие места. И на дороге этой городок – Егорьевск.
Не слыхали?
И что за беда. Не вы одни – едва ли не вся Российская империя понятия о нем не имеет. Еще лет с полсотни назад стояло здесь сельцо в полтора десятка дворов, жители коего мало чем отличались от окрестных хантов да самоедов; а путники, проезжая зимой по тракту, пугливо прислушивались к волчьему вою.
Да и ныне Егорьевск невелик. Обитателей от силы тысячи полторы. Имеется полицейский участок, куда изредка наезжает из Ишима уездный исправник; почтовая станция; четырехклассное училище; церковь Покрова Богородицы с голубыми луковками; Крестовоздвиженский собор да трактир «Луизиана» с номерами для приезжающих. Местное общество, состоящее из десятка чиновничьих и купеческих семейств, изнывает от скуки, полирует друг другу кости, да мечтает о путешествии в большой город – как на иную планету.
В те времена, о коих идет речь – как раз года за два до проведения от Екатеринбурга до Тюмени железной дороги, – общество это отнюдь не было бесформенно. Имелся у него центр, глава, начало и конец, источник благ и, пожалуй что, самого существования. Помещался оный центр в трехэтажном бревенчатом доме, обросшем разнообразными пристройками, флигелями и службами, и носил имя – Иван Парфенович Гордеев.
Собственно, не будь Ивана Парфеновича – не было бы и Егорьевска. Чести основателя он себе, впрочем, не присваивал, отдавая должное купцу Даниле Егорьеву, первым наладившему в этих местах прибыльную торговлю лесом. Гордеев начинал при нем – в приказчиках, понемногу сделался правою рукой, преемником дела, а по-настоящему разбогател уже потом, на золотодобыче.
Золота в здешних местах прежде никто и не искал, а смутные слухи о россыпях вдоль болотистых берегов речки Чуйки числились по разряду бабьих сказок, вместе с девицей-огневицей да медведем на костяной ноге. Однако же вот, оказалось – не сказки! Гордеев, что называется, поймал фарт. Помогли ему, по слухам, местные самоеды, с которыми он водил дружбу, еще когда скупал пушнину для Егорьева; а пуще других – маленький плосколицый человечек, родом из дальней северной тайги, обвешанный колдовскими амулетами, что не мешало ему, впрочем, откликаться на христианское имя Алеша. Этот Алеша и теперь обретался в Егорьевске – вроде при Гордееве, а вроде и сам по себе.
Остальные городские обыватели, впрочем, точно так же существовали: вроде сами по себе, а на деле – при Гордееве. Ибо его прииск, лесопильный завод, подряды и мастерские давали заработок, его деньгами питалась местная культура, с его пожертвований процветали собор и Покровская церковь. Да, капиталами он ворочал увесистыми. А между тем не имел даже купеческого звания – писался крестьянином. И не выказывал никакого стремления перебраться из Егорьевска в места более цивилизованные. Почему? Возможно, если б ему задали такой вопрос, он ответил бы как тот древний римлянин, о существовании коего, ясное дело, и не подозревал: лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме! А, может, привел бы и другие резоны…
Прииск Иван Парфенович назвал Мариинским – по имени жены, умершей лет двадцать назад. Второй раз он так и не женился. Детей, Петрушу и Машеньку, поднимала сестра – Марфа Парфеновна, отказавшаяся ради братниной семьи от мечты о монастыре. Мечта эта и ныне ее манила. Да на кого переложишь обузу? Петя, достигший уже тридцати годов, жениться покамест не собирался; а Машенька… Машенька не уродилась ни хозяйкой, ни рукодельницей. Болезненная, как чахлое деревце: ветер дунет, она и поникла, – к тому ж еще и хромоножка. Вот кому в монастырь прямая дорога!
Леокардия Власьевна Златовратская имела на этот счет иное мнение. Дама сия, отменно образованная, приходилась покойной супруге Ивана Парфеновича младшей сестрой. Гордеев ее выучил в Екатеринбурге на свои деньги, выдал замуж и приспособил вместе с супругом к делу просвещения егорьевского юношества. С тех пор вот уж много лет она яркой звездою сияла на егорьевском небосклоне.
– Ладан! – провозглашала Леокардия Власьевна в сердцах, вперяя обличающий перст в супруга или в прислугу – киргизку Айшет, ходившую за ней преданной тенью. – Ладаном все пропахло – невозможно вздохнуть. Мон шер, справедливо ли это, когда женщине – или замуж, или в монашки? Должна же быть эманципация!
– Терциум, радость моя, нон датур, – не особенно вникая в суть жениных переживаний, отвечал г-н Златовратский – который, в отличие от Ивана Парфеновича, о древних римлянах знал если не все, то уж куда более, чем о современниках, живущих по соседству.
Современники, понятно, вовсе не заслуживали пренебрежения. Сторонний взгляд мог бы обнаружить здесь целую галерею типов, достойных пера бытописателя. Да вот беда: откуда ему взяться, взгляду-то? Приезжих издалека в Егорьевске считали на единицы за год. Номера в «Луизиане» (в которых, благодаря стараниям хозяйки, не водилось не только пыли, но и, как это ни удивительно, даже клопов) бывали заняты мелким торговым людом, а чаще пустовали. Немногочисленные егорьевские барышни томились и чахли от недостатка женихов, в условиях коего даже угрюмый политический ссыльный Петропавловский-Коронин смотрелся завидным кандидатом.
Если принять на веру, что населяли Егорьевск обычные живые люди, каковые издавна имеют привычку любить, болеть, дружить, завидовать и ненавидеть, то любому сделается понятно, что в каждый отдельно взятый момент кипели в городке свои, егорьевские страсти, быть может, далекие от судьбоносности столиц, но тем не менее…
В просторном бревенчатом доме анфиладой располагались три комнаты, в которых самым причудливым образом воссоздана была атмосфера московского салона тридцатилетней давности. Казалось, вот-вот колобком вкатится незабвенный Фамусов, раздастся треснутый бас Скалозуба, нестройный гомон других гостей… Впрочем, гостей не наблюдалось вовсе, а из хозяев можно было видеть двоих: средних годов женщину со следами былой значительности на лице и молодого, схожего с ней человека лет около тридцати.
Женщина расположилась в кресле, возложив опухающие ноги на низенькую скамеечку, и раскрыв на коленях растрепанный том, писанный по-французски. На низком столике рядом – чашка чаю и две надкусанные ватрушки, одна с творогом, другая с брусникой. Молодой человек стоял посреди комнаты и имел вид усталой томности и вежливого, слегка раздраженного ожидания. Видно, впрочем, было, что ничего хорошего для себя он не ждал.
– Николя, – слегка гнусавя, произнесла дама (несмотря на разные нестыковки, только так нам и следует именовать находящуюся в комнате женщину). – Я давно хотела с тобой поговорить. Вот случай. Я думаю, что пора уж тебе бросить все эти мальчишеские выходки, скачки, штуцера, и серьезно подумать о своем будущем. Как ты себе мыслишь? Или тебя все устраивает в этом… – дама картинно обвела окружающее полной, все еще красивой рукой. Кроме уже упомянутого «салона», в «это» несомненно попадала виднеющаяся за окном широкая улица, по колено утонувшая в черной грязи, и деревянные домики, на две трети скрывшиеся за покосившимися заборами, на остриях которых висели перевернутые горшки. Сюда же входило и низкое, разноцветное, похожее на замаслившееся одеяло небо.
– Разумеется, нет, – грассируя, отвечал молодой человек и приподнял бровь, картинно, словно пробуя на матери ужимку, предназначенную для кого-то другого. При виде гримаски сына по губам дамы скользнула едва заметная удовлетворенная улыбка. – Но я не вижу, что можно было бы сделать. Потому и пропадаю на охоте, в разгуле… Ты знаешь меня лучше всех, мне тесно здесь, но ведь отец не отпустит меня от себя, не даст денег… Он хочет, чтоб я учился жить на его манер, рыбу мороженую возить, соль, торговаться из-за экономии гроша на казенных поставках. Я… Я пытался… Мне тошно это, сам не знаю почему, – в процессе речи молодой человек утерял позу, позабыл о ней, заговорил горячо, делая выразительные жесты руками. – Бывает, поедешь на болота уток стрелять, присядешь где-нибудь на пригорке, смотришь в небо и думаешь: вот, кабы улететь отсюда… Куда? Да черт его разберет… Может и там нет ничего…
– Есть, Николя, есть, верь мне! – с не меньшей горячностью перебила сына мать. – Есть другая жизнь, без этого сонного прозябания, без запаха прогорклого жира, без этих тупых рож, каждая из которых мнит себя пупом земли… О, там они знают свое место! – лицо дамы заклубилось воспоминаниями, задергалось какими-то мелкими жестокими судорогами, а рука сама собой сжалась в кулак. Наблюдая за ней, можно было рассудить, что раньше, в прежней жизни она командовала, по меньшей мере, ротой гренадеров.
– Ты, Николя, рожден для той, далекой жизни. Потому тебе и тесно здесь… Настало, впрочем, время сказать. Знаешь ли ты, что Викентий Савельевич не родной тебе отец? Понимаешь ли, что это значит?
– Понимаю ли я? – жесткая гримаса, мужское отражение материнской мимики, перекосила в целом привлекательное лицо Николая. – Да что ж тут знать-то? Каждому, кто не дурак, видно. Мой-то родной папаша не захотел, видать, на вас жениться, вот и пришлось… Правда, не совсем ясно, какая отцу корысть была… Я ведь, если правильно понимаю, уже в браке рожден? Фамилию рода Полушкиных ношу…
– Я, между прочим, по молодости красавицей считалась, – с остатками былой надменности произнесла дама. – Викентий до всей этой истории глянуть на меня прямо не смел. Посылал корзины с цветами, фрукты к праздникам и даже записки не писал… Не смел… К тому же он честолюбив был. Когда понял, что к чему…Знатная фамилия, связи в Москве, да и приданое немалое… Расчет тоже имелся, чего теперь скрывать…
– Это – да, это – понятно, – Николай кивнул. – Ваш грех он прикрыл, и все обещания сполна исполнил…
– Верно. Хорошо, что ты понимаешь. Это признак аристократии – уметь быть благодарным. Разве чернь может? Ни-ког-да. Ты это знаешь? Благодарность, Николя, – вот знак, по которому всегда можно отличить благородного человека от неблагородного. Поэтому все господа прогрессисты со своими проектами улучшения жизни народа обречены изначально. Плебс понимает только силу. А любые уступки воспринимает как слабость. Слабые ненавидят сильных – это закон. А когда сильные начинают подлизываться к слабым и бросать им подачки, последние их еще больше ненавидят, но при этом еще и перестают уважать. В результате напряжение между классами увеличивается. Вот это мы и имеем в Сибири, на приисках. Сколько бы подачек им не кидали, они все равно будут бунтовать, потому что чувство благодарности им органически неведомо. Иван Парфенович Гордеев это на своей шкуре испробовал, теперь, небось, поумнел. Викентий, надо отдать ему должное, изначально по этому поводу не обольщался и с народом не либеральничал. Все-таки, что ни говори, но купеческое сословие свой разум и опыт имеет издавна. Гордеев же – из грязи в князи…
– Мама, мы о чем с вами говорим? – Николай счел возможным выразить свое недоумение. – Вы хотите рассказать мне об устройстве общества, как вы его понимаете? Может, я лучше книгу прочту?