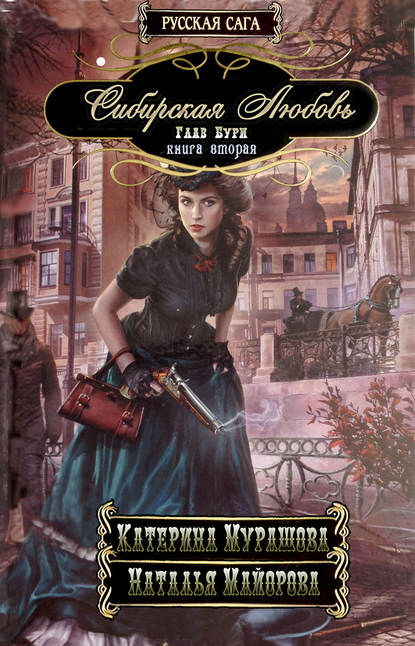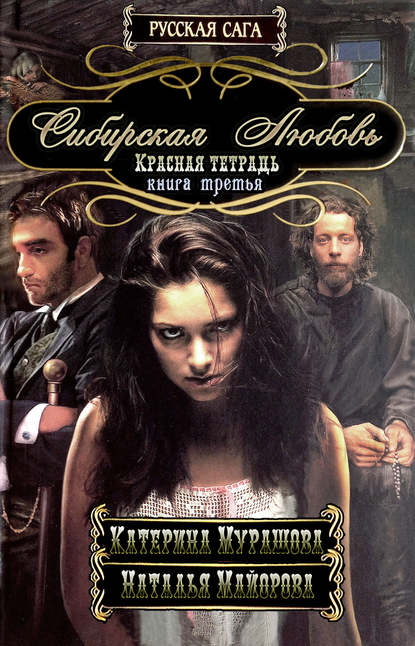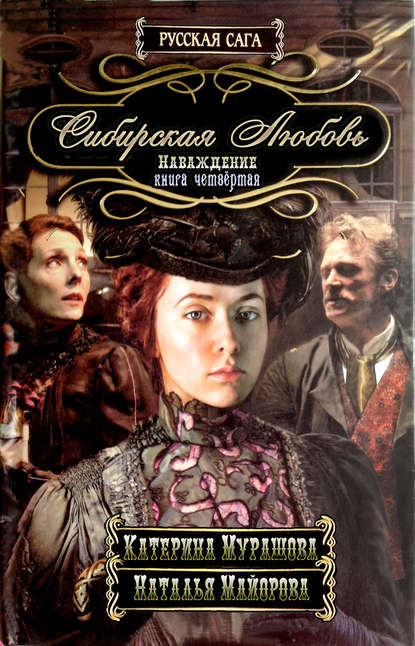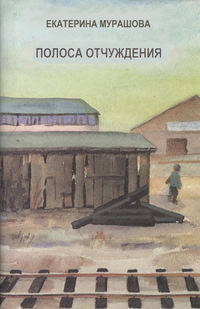Полная версия
Сибирская любовь
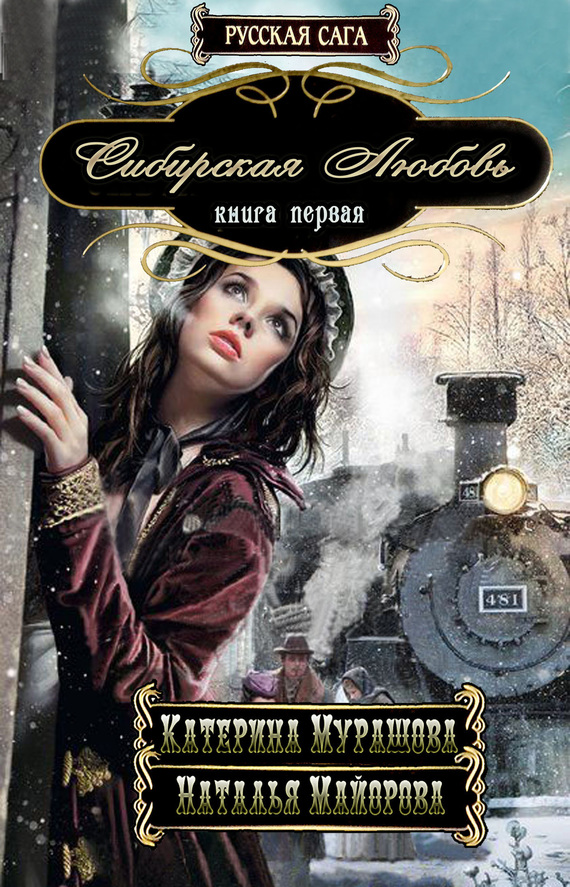
Екатерина Мурашова, Наталья Майорова
Сибирская любовь
Пролог
В котором петербургская барышня признается в любви, а два неназванных молодых человека охотятся. Оба этих события (незначительных на первый взгляд) происходят одновременно и представлены читателю лишь потому, что в дальнейшем из них проистекут самые неожиданные следствия
1883 г. от Р. Х., июля 26, три часа пополудни. С-Петербург
– Постойте! Да постойте же! Сергей Алексеевич! Ведь вы же не можете вот так уйти! Уйти, не сказав мне… – слова в полутьме гостиной падали глухо, словно капли воды на клочок ваты.
Девушка не помнила себя. На мгновение Сержу показалось, что сейчас она бросится вслед, уцепится за рукав, фалды щегольского сюртука, воротник – докуда достанет, что подвернется. Молодой человек передернулся от нешуточного страха и желания немедленно закончить затянувшуюся, тягостную сцену. Притом мозг его, как бы сам собой, холодно и беспристрастно оценивал находящуюся в гневе визави. Очаровательна! Без сомнения, очаровательна и очень… очень перспективна! Еще год-другой в свете, чуть больше владения собой и осознания своей женской силы…
Узкая ступня в вишневой туфельке нетерпеливо пристукивает по паркету, темно-серые глаза гневно блестят, непокорные локоны падают на не слишком высокий, но чистый лоб…
– Что же я должен сказать вам, Софи? Желаете еще комплиментов? Извольте, повторю вслед. Итак…
– Но ведь вы же… вы же… – девушка некрасиво оттопырила нижнюю губу и сжала кулачки. Видно было, что вот сейчас она разрыдается или закричит.
Серж поморщился. Этого только не хватало! Случись так, долг воспитанного человека, друга дома – утешать плачущую девушку, но что-то он не видал, чтобы от светских утешений была при истерике хоть какая польза. Вот хорошая оплеуха – другое дело! Но не может же он… Черт побери! Зачем только он поддался на уговоры этой красивой горничной, как ее… Веры, кажется. «Госпожа непременно желает вас видеть! Ей нужно сказать вам всего два слова!» Сентиментальный дурак! Сам во всем виноват! Поперся утешать несчастную девочку! Как будто мало своих, настоящих дел, которые уж на пятки не только наступают, но и того гляди поджаривать начнут!
– Что ж, Софья Павловна! Покорнейше прошу извинить, – пробормотал он, заметив, что девушка будто застыла, отчаянно пытаясь справиться с собой. – Теперь откланиваюсь. Дела-с. Весьма рад был повидаться. Надеюсь…
– Сережа! – прошептали вслед потрескавшиеся, темно-красные, почти в цвет туфелек губы. – Вернитесь! Ведь я люблю вас!
Шепот был едва слышен, но в голове молодого человека словно колокол ударил. Решительно обернувшись, он шагнул назад, пересек комнату, взял в ладони маленькие горячие руки.
– Софи! – стараясь говорить внушительно и «взросло», он насупил брови и наморщил лоб, отчего сразу же стал выглядеть слегка смешным и похожим на крупного щенка-помесь. – Я знаю, вы Пушкина Александра Сергеевича начитались и прочих, иже с ним, поэтов. Так вот… Поймите, вы – не Татьяна, а я уж, тем паче – не Онегин. То все неправда, и вы все придумали. Вам шестнадцать лет, и любить охота. Это я понять могу. Но обо мне вы не знаете ничего, и видели от силы раз пять. А лучше вам и не знать, поверьте, я правду говорю. Так что – какая может быть меж нами любовь!
– Но вы же любите меня! – отчаянно вскрикнула Софи. – Я знаю! Я видела, как вы смотрели на меня! Вы сами сказали, что я разбила вам сердце!
– Софи! Софи! Девочка моя! – совсем забросив ухватки записного жуира и волокиты, Серж глядел на нее сверху вниз с выражением напряженного и искреннего сочувствия. – Как можно так! Вы ж столбовая дворянка, из общества! Нельзя же – светскую куртуазность принимать за… Я ж и предположить не мог…
– Значит, вы все врали?! – Софи с силой вырвалась из рук молодого человека, отскочила к окну и, скрестив руки на гневно колышущейся, вполне оформившейся груди, подобно Зевесу, метала в него молнии взглядов. – Я вам вовсе не нравлюсь?!
– Ну почему же? Вы и вправду прелестны, и живость ваша очаровательна, и ваши глаза…
– Прекратите, замолчите немедленно! – из глаз, так и оставшихся непоименованными, брызнули крупные, прозрачные слезы.
«Как у клоуна в цирке, – отстраненно подумал Серж. – У них в карманах такие резиновые груши и трубочки за ушами… И чего ж тут сделаешь! Пора все это кончать. Побесится пару часов, ну, в крайнем случае, дней, и успокоится… Но как, однако, чудесна в гневе! Такие бешеные страсти в развитии своем и обещают многое, особенно в известном аспекте…»
Подумав так и включив на полную силу механизмы холодных рассуждений, молодой человек окончательно успокоился и изгнал из своей души остатки беспокоящего его сочувствия к взбалмошной барышне.
– Еще раз мои извинения, Софья Павловна. Если в чем-то разочаровал вас, прошу, не гневайтесь. После вам самой смешно станет…
– Не станет! И не пытайтесь мне зубы заговорить. Я знаю: вы уехать задумали. Возьмите меня с собой… Хоть в каком качестве. Я вам в тягость не буду. Я – не кисейная барышня, вам это кто хочешь подтвердит. А здесь… здесь мне постыло все! Сергей Алексеевич! Прошу вас!
Вот теперь Серж по-настоящему испугался. Откуда она прознала о его отъезде?! Ведь все приготовления держались в тайне и никто, кроме верного Никанора, не был в это дело посвящен. У безумной девчонки свои соглядатаи? Где? Кто? Как? И что теперь делать?
– Вот теперь я вижу, какой вы еще ребенок, Софи! – отчетливо и снисходительно выговорил Серж, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. – Какие ж вы все глупости болтаете! Бежать, немедленно, «в каком угодно качестве»… Кошмар! Я что, похож на бравого гусара? Не слыхал ничего! – молодой человек демонстративно зажал уши руками. – А вы не говорили! Теперь прощайте и забудьте обо всем. Как я забыл. Вот вам рецепт: налегайте на рукоделие и прочие богоугодные девичьи занятия. А всяческих романтических бредней читайте поменьше, а лучше и вовсе покуда от них откажитесь. После встретимся с вами и вместе посмеемся. Адью, милая Софи!
Выходя и почти доподлинно отрешившись от досадного происшествия, он оглянулся в последний раз, улыбнулся и намеренно вульгарно помахал рукой. Впрочем, улыбка тут же сползла с его красиво прорисованных губ. Девушка, хрупкая и блестящая, как хрустальная подвеска на люстре, застыла возле обитой синим бархатом банкетки. Черты лица искажены нешуточным горем, волосы выбились из прически, темное платье придает белой коже слегка зеленоватый оттенок. Никто в этот миг не назвал бы Софи красивой.
Молодому человеку действительно не было до нее никакого дела, но отчего-то он понял, что запомнит эту картину на долгие годы, может быть, на всю жизнь.
То же время. Лес в районе реки Тавды, Тобольская губерния, Ишимский уезд.
– Стреляй, ну стреляй же, братец, скорее! Вон же она, скотина! Вон! Экий ты! Стреляй!!!
Два выстрела почти слились в один, третий прозвучал чуть погодя.
Матерый грязно-бурый кабан рванулся к людям, в последнем усилии вскинулся на задние ноги, распахнул клыкастую пасть, издал почти человеческий вопль и с треском рухнул на кучу валежника, за которым и прятались охотники.
– Й-о-о! – издал дикарский клич тот из охотников, который казался младше и как-то незначительнее. Впрочем, его охотничий нарезной штуцер, да, пожалуй, и прочая экипировка были добротнее и дороже, чем у приятеля.
Старший выпрямился, отряхнул колени, подобрал разряженную двухстволку и направился к убитому зверю. Неожиданно он прянул в сторону, но почти сразу же облегченно выругался:
– Вот чума-то! Гляди!
Откуда-то из подлеска выбежало полдюжины полосатых поросят. Они с визгом крутились возле убитой матери, тыкались в нее розовыми пятачками, один, самый крупный, возбужденно дергал разбухший сосок.
– Так то матка с детьми! – обескуражено сказал младший, глядя на суету поросят. – Что ж с ними теперь?
– Ничего, зарежем, – спокойно ответил старший, доставая из-за голенища длинный и узкий нож.
– Но…
– Брось! Сами, без матери, все одно не проживут. Сожрут нынче же ночью. Зачем зверью оставлять? У нас кухарка знатно молочных поросят готовит. Да и твоя тетка не откажется… Давай, заходи вон с того края…
– Уж ты сам, – младший малодушно отвернулся и явно боролся с желанием зажать уши, чтобы не слышать предсмертного поросячьего визга.
– Ну вот и все. Один, кажется, убежал, ну и пес с ним… А ты кочевряжился… Теперь надо Игнатия с подводой позвать. Давай я тут останусь, а ты иди… Только флягу свою здесь оставь. Не то я тебя до морковкиных заговин ждать буду…
– Пешку пошлем. Она приведет, – младший охотник поманил к себе старую, с сединой на морде гончую. Двое других собак – лохматые лайки-полукровки с треугольными ушами – возбужденно кружились вокруг убитых зверей, лизали свежую кровь. – Иди, Пешка, иди. Туда! – хозяин махнул рукой, псина проследила за направлением его взгляда, для верности понюхала землю, прошла пару шагов, уткнувшись носом в только начинающие опадать листья. Вернулась, уселась, перекосив зад, подняла к хозяину узкую морду. – Где Игнатий? Веди сюда!
– Неужто понимает?
– А то! – с гордостью за собаку ухмыльнулся охотник. – Пешка вообще как человек. Даже лучше, потому что не предаст никогда и не забудет. Только вот сказать не может… Пошла, Пешка, пошла!
Псина опустила голову к земле и неторопливо потрусила прочь. Ее хозяин достал из сумки плоскую металлическую фляжку и изрядно приложился к ней.
– Хочешь? – спросил он напарника. – Нервы расслабить, милое дело…
– Да я как-то и не напрягался вовсе, – усмехнулся второй охотник.
– Ну как знаешь, – первый отхлебнул еще раз. – Хор-роша, стерва! Аж до кишок пробирает… – Он вытер рукавом сперва губы, а потом глаза и пожаловался. – А у меня, знаешь, последнее время нервы совсем ни к черту стали…
– Это отчего ж? – равнодушно спросил приятель, перезаряжавший ружье.
– Да батюшка намедни приболел чего-то. Я как-то и внимания не взял. Ну поболел, поболел, дальше пошел. Чего ему? Бочонок пятиведерный на плече несет, как перышко, а я и поднять-то не могу… Да и мужик он еще в самой силе. Какие годы? А тут, после всего (отец-то уж с постели встал и по делам в Ишим уехал) приходит ко мне сестра, в лице ни кровиночки, и огорошила новостью: Доктор, мол, сказал, что батюшке жить осталось всего ничего, какой-то там сосуд в нем надорвался. И следующий, мол, приступ его как раз в могилу и сгонит…
– Да… Дела… – неопределенно отозвался второй охотник, однако ружье в сторону отставил и внимательно на приятеля поглядел. – И что ж ты?
– А что я-то?! Что я! – загорячился первый. – Я ж во всех его делах ни бельмеса не смыслю. Он меня не подпускает никуда…
– Так-то уж? Может, сам не схотел? Легче водки откушать, чем о делах-то слушать? – охотник усмехнулся случайно сложившемуся стишку, однако приятель его веселья не поддержал.
– Легко тебе говорить! А мне, если хочешь знать, страшно. Ночью, бывает, заснуть не могу. Пока не выпью – никак, ни в одном глазу. Как подумаю… Дела всякие, рабочие, прииск, тетка, да и сестра малахольная… Как представлю, что все – на мне… Хочется в погреб спрятаться и сидеть, чтоб не нашли. Что я могу?
– Чего ж так-то? Ну и помрет отец. Все люди смертны. И то ладно. Что ты, дитя малое, что ли? Будешь сам себе хозяин. По миру вы с сестрой, небось, не пойдете. Будете жить-поживать…
– Да не знаю я… Тревожно мне…
За неглубоким овражком послышался призывный лай Пешки и ломкий тенорок Игнатия, понукавшего впряженную в подводу лошадь. Обе лайки услыхали товарку, разом зашлись и кинулись в овраг. Разговор прекратился сам собой.
Глава 1
В которой разбойники нападают на почтовую карету и учиняют ужасное душегубство. Один из наших героев чудом остается в живых и, находясь в расслабленном состоянии духа и тела, вспоминает о прошлом
Светало. Повозка, запряженная четверней, катилась по усыпанной сосновыми иглами малоезжей дороге, вдоль топкого озерного берега. Лошади устали за ночь, и кучер клевал носом. Слева от дороги, сквозь кусты с повисшими на ветках клочьями сухой тины, глухо темнела вода. Над ней стоял туман. Мошкара гудела, пахло болотом, грибами и еще чем-то – дурманным и тревожным.
Впрочем, тревожным – это для чужих. Двое казаков, что покачивались на козлах рядом с кучером, этих запахов, можно сказать, не замечали. Долгий однообразный путь подходил к середине. Места безлюдные, зверье сытое… Но ружья – близко, и порох сухой. Правда, курки, вопреки инструкции, не взведены: а то ведь тряхнет, спаси Господи, на ухабе, и выпалишь не в себя, так в соседа. А в руках ружье держать – отвалятся руки-то. Да и от кого обороняться. В повозке – почта… Есть и еще кое-что, но про это, кроме тех, кому положено, никто не знает.
Помимо почты и кое-чего еще, имелись в повозке и два пассажира. Вернее – три. Третий, здоровенный мужик с отрешенно-снисходительной ухмылкой, разместился на крыше, устроив себе там из тюков и баулов – непонятно, каким образом, – вполне сносное лежбище. Всю дорогу он там и полеживал, глазея в небеса и слезая лишь изредка – по зову барина. Барин его делил тряское, пропахшее овчинами и дегтем нутро повозки с попутчиком – тоже господского звания. Вот им-то, по мнению казаков, и полагалось бояться. Наслышаны, поди, в столицах, что в Сибири за каждым деревом – медведи да беглые каторжники!..
Пассажиры если и боялись, то никак этого не демонстрировали. Особенно один. Он сладко спал, устроившись на жесткой деревянной скамейке и подложив под голову аккуратно свернутую шинель горного ведомства. Темнота скрывала его лицо, но попутчик, сидевший напротив, легко мог представить мечтательную улыбку, бродящую по юному лицу, украшенному прозрачным пухом на подбородке.
Эту улыбку он имел удовольствие лицезреть сегодня целый день, пока было светло. Сказать по правде, она изрядно ему надоела.
Сонно моргая, второй пассажир глядел в окно. Над озером медленно светлело небо, туман расползался, открывая заросли болотной травы. Комары и гнус, свирепствовавшие всю ночь и вчерашний день, притихли перед рассветом. Притих и ветер, гудевший в кронах высоких деревьев, что стеной стояли с другой стороны дороги. Что это были за деревья – кедры? А, может, сосны. Пассажир в таких вещах не очень-то разбирался.
Спящий пошевелился, вздохнул, пробормотал протяжно:
– Marie!.. – и чмокнул губами, будто пробуя имя на вкус.
Его сосед поморщился. Этот восторженный юноша, впервые выпорхнувший из-под маменькиного крыла, был ясен ему до донышка. Величие собственного предприятия наполняло птенца благоговейным трепетом. Шутка ли: служба в самой что ни на есть дикой глуши, у купца-самодура, ворочающего миллионами! Вокруг – сотни верст тайги да шаманы с бубнами. И – золото под ногами, везде, куда ни глянь! Глядеть только уметь надо…
Этот, конечно, сумеет. Не зря сегодня рассказывал: вот, было дело, поехал так же один – совсем молодой, даже курса не кончил. На Енисей. Рядом – матерые золотодобытчики, ищут жилу. А он им: не там смотрите, вот где надо искать. Над ним смеются. Видно же, что пустой участок. Раз там золото, говорят, сам и разрабатывай! А у него ни копейки денег. В конце концов, один из матерых, которому он больше всего надоедал, говорит: вот, покупаю тебе эту землю, даю деньги – работай. Найдешь золото – значит, ты выиграл и мне ничего не платишь, нет – отдашь долг с процентами. Парень, разумеется, рискнул – и, разумеется, золота на его участке оказалось столько, что он моментально стал миллионером. И этот станет. Ермак Тимофеевич…
Пассажир, столь скептически мыслящий, зевнул и закрыл глаза. Скепсис его был оправдан. Он, хотя и не бывавший прежде ни в Сибири, ни в Калифорнии, очень хорошо знал толк в золотоносных жилах. Ведь и впрямь: нужен совсем особенный взгляд, чтобы заметить вдохновляющий блеск там, где никто ничего эдакого не видит. И еще – чутье, чтоб не упустить момент, когда желанная жила вдруг обернется обманкой, обвалом, гибелью… Тогда – извернуться и отскочить. Он это замечательно сумел сделать.
Теперь перед ним весь мир. Молодость – прекрасная вещь, ее хватит надолго. Marie! Он улыбнулся. Мари, Софи, Надин… Как эта малышка топала ножкой в узенькой туфельке. Смешно и неотразимо.
Мерный хруст игл под тяжелыми копытами уплыл куда-то вместе с комарами и ветром. Перед глазами пассажира развернулась Нева, серебряная, сверкающая под весенним солнцем. Чайки носятся и вопят, воздух фантастически свеж, темнобровая девушка, сидящая рядом в коляске, нетерпеливо дергает сиреневые ленты шляпки – сейчас оторвет. От дальнего берега, от стены крепости, плавно отделяется пушистое белое облачко… И, спустя полсекунды – звук, невнятный и несерьезный, будто и не пушка выстрелила, а детский пугач.
– …А вот это ты, паря, зря.
Пассажир вздрогнул и проснулся. Никого не было рядом с ним, если не считать соседа. Тот спал по-прежнему, и вообще – все было по-прежнему…
Только повозка – стояла.
Черт, да мало ли почему она стоит, успел еще удивиться собственному внезапному страху пассажир, – и тут голоса раздались снова, уже не так близко, но громко и отчетливо. Что-то лязгнуло, коротко заржала лошадь…
– Что?
Мальчишка, спавший напротив, подскочил. Схватил за руку попутчика:
– Вы слышали? Слышали? Это же выстрел! Я так и…
– Тише, – тот выдернул руку, – что с того? Ну, шляется здесь всякая шантрапа. Допустим, у них тоже ружья… – не договорив, полез во внутренний карман.
И через миг явился на свет Божий пистолет. Серая тусклая сталь, изящное дуло. Игрушка! Юноша с прозрачной бородкой сглотнул. Ему бы при виде оружия успокоиться – а стало еще страшнее.
– Вылазьте, господа хорошие, прибыли! – об стенку повозки что-то шарахнуло, юноша быстро прошептал:
– Сергей Алексеевич! Там же ваш… как его – Никанор? Или его уже…
Обсудить этот вопрос они не успели. Хлипкая дверь повозки распахнулась, вернее – вылетела из петель с мясом, и в проеме показался мужик. Заросшая смурная физиономия, в руке – палка… То есть, разумеется, не палка. В руке у него было таки ружье, просто он держал его как палку – и стрелять вроде не собирался.
– Давайте, вылазьте, – буркнул, всовываясь в повозку, – тут поглядеть надоть…
Горный инженер открыл было рот – но сказать ничего не успел; Сергей Алексеевич, крепко взяв его за руку, потащил наружу. Пистолет, кстати, исчез; юноша, машинально отметив это, подумал: струсил! – и его охватило внезапное жгучее возмущение.
Снова раздалось ржанье; выбравшись из повозки, пассажиры увидели, что коней сноровисто выпрягают какие-то незнакомые личности. А знакомых – нет ни одной. Ни казаков, ни кучера; и Никанора – тоже. Распотрошенные тюки и баулы валялись на земле недалеко от повозки.
– Грабят, да? – потерянно пробормотал, оглядываясь, юноша. – Черт, никогда не думал…
Его попутчик молча улыбнулся. На них не обращали внимания. Грабителей было четверо. Один рылся в повозке, трое занимались лошадьми. Кто из них главный, так сразу не определишь. Хотя и надо бы – на всякий случай. А вообще-то самое простое и верное решение – отступить спокойно назад… исчезнуть без лишнего шума – за деревьями еще темно, можно далеко уйти, пока они спохватятся…
А что потом? На сто верст во все стороны – тайга. Этот чертов городишко, в который невесть зачем понесло… ведь можно было найти нормальный транспорт, доехать хоть до Иркутска… этот Егорьевск – где он?
– Послушайте, что мы стоим? – голос инженера – невнятный и резкий, будто рванули мокрую холстину. – Это стыдно, в конце концов! У вас же есть…
– Тихо!
Увы – их услышали. Один из тех, что выпрягали лошадей, повернул голову. В сумерках едва можно было разглядеть узкое лицо – вполне, кажется, приятное, незлое, правда, слегка перекошенное на сторону. Сергей Алексеевич подумал: главный.
– Ваши высокоблагородия, вы бы погодили малость, – голос тоже был приятный, – сейчас и до вас дойдет… Кныш, так что там у тебя?
– Здесь! – деловито раздалось из повозки. – Все на месте, как и обещалися.
Разбойнички встрепенулись; главарь, бросив лошадей, шагнул к пассажирам.
– Ну, вот, – сообщил радостно, – дело и устроилось. Вы уж простите, милостивые государи, только свидетелей нам оставлять никак не с руки… Да вы б и без того до жилых мест пешком не добрались, ведь верно?
Наклонив голову, он просительно заглянул в глаза сперва одному, потом другому, – лицо его перекосилось еще больше, и, может, поэтому, а, может, по иной какой-то причине, смысл его речи до пассажиров не дошел. Инженер подумал: «Надо же, как этот разбойник интеллигентно говорит. На мужика не похож. Кто же он?» А Сергей Алексеевич: «Беглый с каторги, ясно. Гляди, Дубравин: вот твое завтра перед тобой… А все же, куда он дел Никанора? И станет ли обыскивать? Или как-нибудь выйдет договориться?»
– Так что не обессудьте. Может, замолвите словечко там, – перекошенный глянул в небо, – за грешника Климентия Воропаева? – он вдруг коротко, совсем не интеллигентно хихикнул и шагнул назад, а рядом с пассажирами оказались двое – эдакие зверовидные хари. Вернее, самые обыкновенные… а им показались такими, потому что до них наконец дошло.
– Стреляйте! – крикнул инженер, отскакивая назад. – Стреляйте, черт бы вас…
Конечно – стрелять надо бы. И трусостью пассажир по имени Сергей Алексеевич никак не отличался. Но на него вдруг напал какой-то ступор. Слишком быстро и слишком нелепо: этот человечек, похожий на тощую больную птицу, молчаливые мужики, размазанный рассвет, серый, как петербургская талая грязь… Когда на самом деле – убивают и грабят, это должно быть иначе: вопли, выстрелы, кровь, огонь!
Он не успел додумать – и в самом деле раздался вопль, он не разобрал, чей, машинально вытащил пистолет, вскинул руку, целясь в темную громоздкую фигуру. Зря, не в того!.. Темные стволы качнулись навстречу – близко, шаг шагнуть, и ты в безопасности! Да где же этот чертов мальчишка? Здесь его, что ли, бросить?
– Да что уж вы, ребята!.. – укоризненно затянул перекошенный.
Тот, в которого Сергей выстрелил, кучей осел на землю, а второй пятился, бестолково размахивая руками. Надо же, как все просто, мелькнула удивленная мысль. Он шагнул назад – к лесу, оглядываясь в поисках инженера, который как сквозь землю провалился… Или уже сбежал? Точно!
И бес с ним. Он выстрелил еще раз – ни в кого, так, для острастки, – и в тот миг, когда повозку с распахнутыми дверями и людей возле него уже заслонили кедровые стволы, что-то внезапно вывернулось сбоку… куст или пень? Он ударил это что-то, не размышляя, – рукояткой пистолета. Удар пришелся по мягкому, он успел еще испугаться: неужто мальчишка попался под руку, Ермак Тимофеевич? Услышал хруст, вой и увидел – мельком, но очень отчетливо, – околыш слетевшей от удара казачьей фуражки.
Живых кустов в этом лесу оказалось по меньшей мере два – второй кинулся Сергею Алексеевичу под ноги, едва тот успел сделать шаг. А тут и первый, бывший в фуражке, очухался и прыгнул… и последней мыслью, явившейся перед тем, как сознание залила тьма, был бестолковый вопрос: да где же, черт возьми, все-таки Никанор?..
…Лазоревая ветка,серебряная клетка.А в ней горит, как свечка,влюбленное сердечко.Ветка тихо покачивалась, и ослепительный свет пробивался сквозь листья. Не надо бы ей качаться… все так неверно, хрупко, – одно движение, даже вздох, и…
Вот ветка подломилась,и клетка наклонилась.Ах, если оборвется,Сердечко разобьется.Что за чушь? Зудит над ухом, переливчато, тревожно. Комары это. Всего-то навсего. А тоненький голосок, старательно выводящий дурацкую песенку про разбитое сердце – девчонка-нищенка… Была такая в Инзе. С паперти ее гоняли, она вставала обычно у церковной ограды или на углу возле кондитерской. Маменька, глядя на нее, испускала тяжкие сочувственные вздохи и вытаскивала денежку – полкопейки, не больше. Где она теперь, эта девчонка?..
Серж осторожно перевел дыхание – почему-то ему казалось, что сверканье с ветки и впрямь может обрушиться. Хотя уж ясно было, что никакого там нет пылающего сердца, а просто – солнце просвечивает сквозь хвою. Яркое, теплое. Так покойно смотреть на него, и так сладко пахнет живой смолой… Век бы не поднимался. Однако – надо. Если, конечно, получится. Что-то ведь такое с ним произошло?..
Он закрыл глаза, вспоминая. Кажется, он ехал. В нелепой квадратной колымаге с деревянными сундуками вместо сидений. А до этого было что-то еще… Да – поезд. Тонкая угольная пыль, волглые простыни, тоскливый, нечеловеческий какой-то запах железной дороги. Текучие сырые тучи за окном. Пока тащились через Урал – лило без остановки, и на станциях лучше не выходи: мерзло и гнусно.