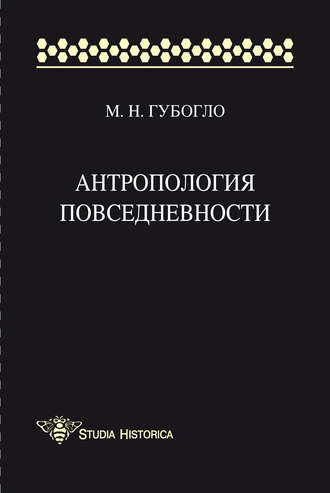
Полная версия
Антропология повседневности
Особое недоумение у спецпереселенцев, оторванных от индивидуальных посевных площадей, огородов и виноградников, вызывало индифферентное отношение колхозников к земле, к колхозным лошадям и коровам. Колхозная инфантильность к земле и скоту выражалась в равнодушии к ним. Представление о крестьянской земельной собственности, имеющее для гагаузов и молдаван едва ли не сакральное значение, здесь, в колхозах, должно было «замениться» принципом работы на ничейной земле, за качеством которой не надо было ухаживать и заботиться, нести ответственность, так как ее не надо было передавать детям по наследству.
В итоге, как отмечала И. В. Власова, обозревая состояние сельского хозяйства в регионах России, «рушилось крестьянское мировоззрение и представление о земле, труд на которой обеспечивал крестьянскую жизнь и культуру хозяйствования» [Русские 2005: 205].
Негативные стороны колхозного хозяйствования, с которыми столкнулись спецпереселенцы, стали для местных жителей на рубеже 1940–1950-х гг. привычным явлением. В то время как спецпереселенцы не могли в одночасье отказаться от традиционного опыта и привыкнуть к равнодушному отношению к своему труду и к земле-кормилице.
Ни газа, ни электричества, ни водопровода в деревне не было. Воду, как и у себя на родине, в Молдавии, спецпереселенцы черпали в Сибири из колодцев. Но в отличие от районов Юга Молдавии, здесь, в Сибири, на подступах к деревенскому колодцу вокруг сруба в зимние месяцы нарастал толстый слой льда.
Кадушка с заготовленной водой хранилась в сенях, а в лютые морозы – заносилась в жилую комнату. Чтобы растопить утром печь, надо было с вечера занести в сени или в комнату охапку дров. Надо было умело расходовать дрова, рационально выбирая из поленницы, сложенной во дворе загодя, в летний период.

На этом месте стоял колхозный дом, в котором семья спецпереселенцев из 6 человек ютилась в комнате 12 кв. м., в том числе в зимний период с ноября до мая вместе с теленком, двумя поросятами и с полдюжиной куриц. Фото М. Н. Губогло, 2012
Колхозных лошадей и коров поили речной водой. Водовозом в зимние месяцы мог быть только сильный мужчина из числа спецпереселенцев. Он ездил за водой с бочкой, установленной на санях, прихватив с собой ломик или топор. Надо было сначала разрубить лед в проруби, залить водой обрастающую льдом бочку. Пока дышавшая на ладан лошаденка тянула сани к колхозной ферме, вода в отверстии бочки успевала покрыться коркой льда. Снова надо было работать топором или ледорубом. За заработанный в короткий зимний день водовоз получал причитающиеся на трудодень около 1,5 кг колхозной пшеницы и до 3-х кг овощей при хорошем урожае картофеля, свеклы и турнепса.
В гагаузском жизнеобустройстве до депортации так было заведено, что все члены семьи имели три формы одежды – будничную, праздничную и особую, свадебную, только для участия в свадебном церемониале. Соответственно, и питание состояло из обыденных, праздничных и свадебных блюд. Понятно, что, оказавшись в глухой и полуголодной сибирской деревне, поневоле пришлось забыть об этом триединстве. Тем не менее, глядя на то, как я был одет, никто и никогда не пытался подавать мне милостыню.
Можно допустить, что экстремальные ситуации, связанные с переходом из одной системы соционормативной культуры в другую, воспринимались в семье и оставались в памяти более остро, чем пребывание на протяжении всей жизни в одной и той же системе культурных координат.
Раздел III
Соционормативная культура как «Грамматика жизни»
1. Излом повседневности
Что счастие? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон и отдых от забот…
Очнешься – вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет…
(А. Блок. Собрание сочинений. Т. 3. М.;Л., 1960. С. 41)1. Переворошенный муравейник
Терпение и труд…
И люди… выживут
(Перифраз известного изречения времен депортации)В дождливое июльское утро 1949 г. над Чадыр-Лунгой и окрестными гагаузскими и болгарскими селами, как над переворошенными муравейниками, струился горький и зловещий гул разорения. Казалось, на Чадыр-Лунгу обрушилось вселенское зло, как океанское цунами, сметавшее лучших людей и все живое.
У людей без суда и следствия отнимали не только дома и землю, не только самими выращенный и испеченный хлеб, не только лошадей и кур. Нет. Отнимали право на привычную повседневную жизнь, право на будущее. А в приговоре, отпечатанном на казенной бумаге, значилось: «Переселяетесь на вечное поселение!». Душа вскипала! Как ожог возникал вопрос: Куда? Почему? За что? По какому праву? Отнималось право на раздумье, на самоопределение, на традиционную, естественную человеческую жизнь. Идти на самоубийство было бы грешно по православным канонам. Побег грозил военным трибуналом. Оставалось одно: «Аллах сабур версии!» («Дай, Бог, терпенья»).
Пока подводы с хозяевами и конвоирами тянулись из перекрестных улиц Чадыр-Лунги вниз к железной дороге, параллельно с которой пробегала грунтовая дорога, лишь урывками мощеная случайным булыжником, седоки бездумно смотрели прощальным взглядом на дома, палисадники, виноградники, которые в соответствии со сказанным в «документах», им больше никогда не придется увидеть.
Страшно было смотреть, как в некоторых домах поспешно выводили из конюшен лошадей, коров, отары овец, как выкатывали хозяйственные телеги и праздничные фаэтоны. Оглядываясь на свои разоренные гнезда, выселенцы запоминали распахнутые ворота, рвущихся с цепей собак.
Через какое-то время вся насильственно изъятая движимость и недвижимость должна была стать «колхозно-кооперативной» собственностью. Но не тут-то было. Сегодня, по истечении полувека, тайное становится явным. Те местные активисты, кто вместе с вооруженными солдатами принимали участие в выселении «богачей» и были уполномочены регистрировать конфискованное имущество для передачи в колхоз, на самом деле «часть мелкого скота и птицы (овец, кроликов, кур) прихватили себе». При этом, как отмечали в мемуарной литературе очевидцы трагедии, часть награбленного шла «на шашлык и гулянки. Оставшееся принимали в колхозе. И там тоже его разбазаривали. Ведь мало скотину сосредоточить в одном месте. Ее еще надо кормить. За ней требуется уход. А кормов не было. Скот подыхал. Часть его разворовывали». Что же касается другой части имущества, – продолжает свои воспоминания живой свидетель выселенческой вакханалии Петр Васильевич Люленов, – «оставленного в своих домах выселенными людьми, такое как одежда, различная посуда с соленьями и другими продуктами питания в подвалах, а также мелкий домашний инвентарь, такой как мебель, ковры и другие домашние атрибуты, то все это было растаскано, присвоено и распродано моментально» [Люленов 2003: 31].
Но не только соседи, родственники, озверелая голытьба принимала участие в растаскивании имущества выселенных людей.
Не все желающие, – пишет П. В. Люленов, – могли взять то, что они желали заполучить из богатства, оставленного в домах выселенных. Потому что возле каждого такого дома была поставлена охрана. Это было престижно, и я бы сказал, хлебное поручение тогдашних властей… По описи, комиссионно, колхозу передавалась только земля и крупный инвентарь (подводы, сеялки, машины для теребления кукурузы, прес для выжимки винограда и т. д.). Остальное богатство выселенного оставалось в распоряжении назначенных охранников этого дома. И потихонечку ими растаскивалось… Эти охранники неплохо тогда запаслись коврами, картинами, шкафами, кроватями и одеждой. А также продуктами оставленных в посудах и законсервированных для питания семьи выселенного хозяина (сало, брынза, мясо, туршу) [Там же: 31–32].
Во второй половине 1990-х гг., в пору активного законотворческого процесса в Российской Федерации по поводу восстановления прав репрессированных народов, активно обсуждались юридические аспекты полной реабилитации безвинно наказанных народов. Разработчики законов, в том числе правоведы, настаивали на том, чтобы наряду с политической и правовой реабилитацией закон утверждал и полную имущественную реабилитацию. Как эксперт Комитета Государственной Думы по делам национальностей и как сам вместе с семьей депортированный и лишенный семейного имущества, я не во всем поддерживал идею «полной» имущественной реабилитации. Я исходил из того, что значительная часть имущества выселенных людей не была отражена ни в каких списках, ни в каких описях и реестрах, так как была попросту разворована и растаскана организаторами выселения, соседями и другими лицами, охочими до чужой собственности. Я знал, что большая часть вещей навсегда исчезла, благодаря шустрой сметливости соседей, в том числе благодаря стараниям близких и дальних родственников, не терявших надежды в той или иной форме вернуть «спасенную» ими родственную недвижимость.
Долгие годы после выселения я настораживался и напрягался, опасаясь услышать в свой адрес: «кулаческий сын». Уже в первые годы советской власти в районах Южной Молдавии как-то быстро в лексиконе полуграмотных представителей советской власти угнездилось обидное, оскорбительное прозвище «кулаческий дух», «кулаческое отродье». Так, в частности, обличали лиц из числа зажиточной прослойки сельского населения, представители которой в явной или скрытой форме саботировали сдачу госпоставок, вступление в колхоз, или отказывались платить налоги во второй или в третий раз.
И хотя сельское общественное мнение не осуждало середняков и кулаков, официальная идеология проповедовала и утверждала логику И. Сталина по удушению этой прослойки. Личное хозяйство обеспечивало сельскому жителю в отличие от горожанина экономическую свободу. Власть не могла ему, в отличие от горожанина, ограничивать доступ к кормушке, открывая и закрывая заглушку к средствам существования.
Российская история в ее советской форме подтверждала в середине XX в. слова великого поэта, сказанные о ней на рубеже первого и второго десятилетия этого века:
Не всякий может стать героемИ люди лучшие – не скроем –Бессильны часто перед ней,Так неожиданно суроваИ вечных перемен полна;Как вешняя река, онаВнезапно тронуться готова,На льдины льдины громоздитьИ на пути своем крушитьВиновных, как и невиновных,И нечиновных, как чиновных…Так было и с моей семьей.[Блок А. 1960:314]В мольбах о терпении и о снисхождении Божьем повозки со скарбом и скорбью двигались к товарнякам, что стояли на станции, готовые к погрузке. Народ безмолвствовал. И безмолвием своим, сопровождаемым рыданьями, отсутствием сопротивления, способствовал произволу и злодейству. Еще не успев уехать до места назначения, чтобы попасть в списки спецкомендатуры, в которой надо будет отмечаться ежемесячно, люди уже «сами себя боялись» и только на «сабур», т. е. на терпенье, уповали. И нынешним поколениям вряд ли можно будет понять всю горечь и глубину несчастья, обрушившегося на мирное население, поднятое под дулами автоматов к отправке в Сибирь на «вечное поселение». Ужас перенесенной трагедии оставил неизгладимый след в душах спецпереселенцев, в том числе в облике моих родителей.

Фото. Родители после депортации с сетричкой Дорой и братиком Володей, 1957
Со всех улиц двух сел – Чадыр-Лунги и Тирасполя (Трашполи), еще не слитых в тот год в единый город, к железнодорожному вокзалу стекались под конвоем нагруженные нехитрым домашним скарбом подводы. Плакали дети, рыдали женщины, беспомощно выглядели унылые мужчины с побелевшими глазами. В опустевших дворах мычали раньше времени проголодавшиеся коровы, растерянно блеяли овечки, яростно перекликались ошалевшие петухи. Вслед за некоторыми подводами, тянувшимися по дороге к станции вдоль железнодорожного полотна, двигались испуганные соседи и протягивали сидевшим на подводах кому – каравай хлеба, кому – калачи, кому – торбы с мукой или кукурузой. В осиротевших домах страшно, как люди, выли собаки, особенно те, которым не удалось сорваться с цепи, чтобы бежать вслед за хозяевами.
По мере того как на востоке светлело небо и пробуждалось село, к плачу выселяемых и вою собак присоединились причитания тех, в чьи ворота еще не постучались вооруженные солдаты и уполномоченный НКВД или МГБ по выселению. Когда из-за туч выглянуло покрасневшее от слез солнце, казалось, завыла вся Чадыр-Лунга от края и до края, от одной церкви до другой.
Опомнившиеся от первого шока ближние соседи и дальние люмпены кинулись в осиротевшие, наспех опечатанные дома и дворы, чтобы подобрать все, что плохо лежало. Хватали все, что пригодится в своем хозяйстве: добротный сельхозинвентарь, корма, запасенные на зиму или предназначенные для утренней кормежки. Иные соседи кинулись вылавливать домашнюю птицу, кур, гусей, уток и индюков.
У нас домашним курам, как и другой птице, в доме никогда счет не велся. Однако, когда мой младший брат несколько лет тому назад обратился к архивным документам, оказалось, что в нашем хозяйстве, согласно описи, было зарегистрировано не несколько десятков, а всего две курицы. Остальные исчезли.
Свидетель выселения 75 семей из болгарского села Кортен, известный общественный деятель, талантливый организатор сельскохозяйственного производства Петр Васильевич Люленов в книге своих воспоминаний не прошел мимо того злопамятного утра, когда сельскую тишину разорвал душераздирающий крик и плач выселяемой соседки.
Это было, – вспоминает наделенный хорошей памятью автор книги «Времена», – примерно в три часа ночи. Мы думали, что в их доме (в доме соседей. – М. Г.) случилось несчастье или кто-то внезапно умер. Ведь просто так, и так сильно, никто не плачет. Притом с причитаниями. Отец и мать сразу, на ходу одевая верхнюю одежду, побежали к ним. И, конечно, я за ними тоже. Когда отец подошел к их калитке для входа во двор со стороны улицы, там уже стояли двое вооруженных солдат. Никого во двор не пускали…
Отец с матерью… убедившись, что помочь ничем не смогут, ушли домой. Я, конечно, не пошел домой. Приспособился возле нашего, глиняного забора, и оттуда все наблюдал, удовлетворяя этим свою, еще детскую любопытность. Картина была жуткая. Сосед, хозяин дома, метался во все стороны, не зная, что делать. Или плачущих жену и детей успокаивать, или в неизведанную дорогу собираться. На сборы давалось всего три часа. Уполномоченный от местной власти, житель нашего села торопил их быстрее собираться… Я слышал, как он властным голосом предупреждал, чтобы одежду брали только ту, что можно одеть на себя каждому из членов семьи. И питание брать не более чем на трое суток [Люленов 2003: 36–37].
Замечу попутно, что «путешествие» от дома до Каргапольского полустанка заняло 14 суток.
До сих пор помню гудящую у двери машину и чьи-то слова: «двадцать минут». Оказывается, столько времени давалось нам на сборы. Только начинало рассветать. Мать вынесла нас, троих несмышленышей на крыльцо, на кого-то накинула шаль, на кого-то полушубок, а сама металась в дом и обратно. Так мы уехали обживать новые земли. Да еще с клеймом на всю жизнь: «кулаки».
Выросли мы, – вспоминает В. Голикова, – в поселке, в далекой Сибири. Родители валили лес, иногда им удавалось приехать к нам. А мы в их отсутствие где голодали, где ягодами кормились [Сенченко 1989: 2].
Рано утром, – вспоминает П. Бузаджи, – всех подняли, погрузили на подводы, в последнюю минуту сюда посадили и престарелую бабушку, но дяди уговорили оставить ее. Взять что-нибудь из вещей? «Вам хватит и одной газеты, чтобы укрыться», – съязвили усердные исполнители воли вождя народов.
Отца в тот день не было с нами, его забрали перед этим. Мы были нагружены в товарные вагоны, стояли в Бессарабке, когда он нас нагнал, его выпустили. Он пришел в село, узнал, что нас уже отправили, и пошел на поиски. Так как нам всем твердили: переселяем рабочую силу, он захватил с собой топор. Им и прорубили дыру в полу товарняка, отгородили «туалет» ширмой (Ленинское слово, 1989. 11 июля. С. 3).
2. Аллах сабур версин (Дай, Бог, терпенья)
Мой дед, как владелец более 12 га земли и значительного для зажиточного крестьянина имущества, был обречен для включения в депортационные списки даже несмотря на то, что в течение 1947–1948 гг. «добровольно», под дулами автоматов, сдавал последние зернышки хлеба представителям советской власти, МГБ и НКВД. Но в иных гагаузских селениях были люди, случайно попавшие в списки для выселения.
В 1949 году, – вспоминает П. Бузаджи, семья которого вторично подпадала под репрессии, – на нашу семью вновь обрушилась беда. Из всех Чок-Майданцев не нашли большего «кулака», чем мой отец, который первым подал заявление в колхоз, сдал всю тяговую силу, провел первую коллективную борозду. В сущности, бывший председатель колхоза тоже был поставлен в безвыходное положение. К нему пришли на «уточнение» списка: «а не найдешь, кого выселить, сам иди вместо него» – сказали ему. Вот и назвал он нашу семью, в которой было 11 человек (Ленинское слово. 1989. 11 июля. С. 3).
Вряд ли депортированные в Сибирь гагаузы подробно знали всю цепочку аббревиатур ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ, но мне в годы депортации, однако, приходилось часто слышать проклятия в адрес МГБ, представители которого с особой жестокостью отбирали хлеб в первые послевоенные годы и вели «воспитательные беседы» с теми из местных жителей, кто категорически не хотел вступать в колхоз, чтобы не сдавать в «братскую могилу» колхозной собственности свое имущество.
Блестяще организованное злодейское выселение многих тысяч гагаузов, болгар, молдаван и представителей других национальностей не встретило сопротивления со стороны выселяемых. И дело было не только в тщательно спланированной операции, с учетом уже имеющегося опыта по депортации балкарцев, турок-месхетинцев, немцев Поволжья, крымских татар и ряда других народов, не только в привлечении к этой акции вооруженных сил. В основе оцепенения, охватившего обреченную социальную прослойку, лежал вековой страх, подобно страху безмолвствующего народа и народов России.
Корни этого страха, во-первых, залегали не только в роковой беде императорской России в истории ее безмолвствующего народа, о чем, в частности, была написана опубликованная на Западе книга известного барда Александра Галича «Поколение обреченных» [Галич 1974; Свирский 1979: 472], но и, во-вторых, недавняя история, когда народы Бессарабии в межвоенном периоде оказались под оккупационным режимом, убивавшем любые проявления этничности и этнокультурной идентичности. Популярным ругательством в идеологии правящего режима Королевской Румынии было «minorite» («меньшинство»), обреченное на ассимиляцию. В школах и официальных ведомствах, в больницах и магазинах запрещалось говорить на языке своей национальности. Была составлена программа выселения гагаузов за пределы Бессарабии.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
http//www.zadaniexoma/2008/xx-vek-nachinaetsya-moda-na-avtobiografii/
2
http://www.zadanie.com/2008/xx-vek-nachinaetsya-moda-na-avtobiografii/



