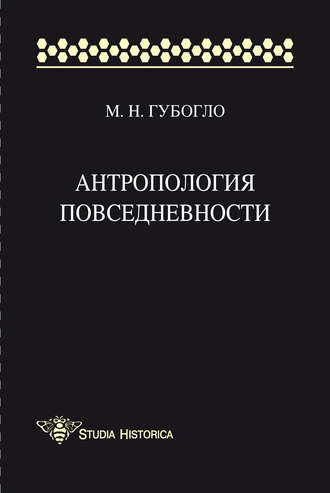
Полная версия
Антропология повседневности
Подобно крутому всплеску в памяти, в свое время предопределенному русской этнографической потребностью осмыслить свои и чужие беды и ужасы исторического перелома, связанного с Октябрьской революцией и Гражданской войной, так и сегодня и в ближайшем будущем мы вправе ожидать наплыва воспоминаний не только о развале Советского Союза, но и о нескольких не вполне похожих друг на друга этапах переменчивой жизни советского общества во второй половине XX в.
Задача этого очерка, как и написанной на одном дыхании первой книги воспоминаний [Губогло 2008], – привлечь внимание в двум, к сожалению, маловостребованным нишам в ряду перспективных этнологических и этносоциологических исследований, посвященных антропологии адаптационных процессов к иноэтнической среде и антропологии, развивающейся во времени и пространстве идентичностей от этнической до гражданской и от тендерной до региональной. Мне видится, что оба направления не страдают от избытка публикаций и от наплыва внимания со стороны теоретиков и практиков.
К редким новейшим работам, в той или иной мере касающимся каждой из названных «личностных» антропологии, можно отнести публикации С. С. Булгара, Е. П. Бусыгина, Л. М. Дробижевой, Г. А. Комаровой, В. А. Тишкова и некоторых других исследователей [Булгар 2003; Дробижева 1996; Комарова 2008; Тишков 2008; 2013]. Однако в них, как правило, антропология человека, основанная на автобиографических исповедях и других источниках, раскрывающих адаптацию в социальную или политическую среду или в лоно науки, излагаются не от первого лица, что неизбежно приводит к излишне осторожной самоцензуре или редакционным шероховатостям.
Итак, шел август 1949 года… Уже 17 лет в Советском Союзе действовали драконовские законы о неприкосновенности колхозной собственности. Два закона, в том числе один из них, названный в народе «О пяти колосках» и другой – «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности», были приняты еще в августе 1932 г.
Одна из статей второго закона, в частности, предусматривала применение «высшей меры социальной защиты» – т. е. расстрел, в том числе по отношению к детям, начиная с 12 лет.
На меня и на моих новых сибирских приятелей, не достигших 12-летнего возраста, действие этого закона, понятно, не распространялось. Совершая набеги на колхозные поля, засеянные овсом вперемешку с горохом, мы, ясное дело, не подозревали о существовании человеконенавистнических законов, «подаренных» советскому народу по злой воле усатого вождя. По всей видимости, представители местных органов власти трактовали эти законы таким образом, что если бы в них речь шла о зрелых колосках, и прежде всего о пшеничных и ржаных злаках. Овес же с горохом на курганских полях высевали поздно, в основном для силоса. Корм колхозным коровам заготавливали из недозрелой кукурузной массы, лугового сена и недозрелой овсяно-гороховой массы.
Прошло почти четыре десятилетия после тех наших разгульных гороховых пиршеств, как в газете «Правда» появилось сообщение из архивов о том, что «к началу 1933 г. за неполные пять месяцев по закону («О пяти колосках» – М. Г) были осуждены 54 645 человек, из них 2 110 – были приговорены „к высшей мере“» (Правда. 1988. 16 сентября).
Однако вернемся к приглашению «пойти за горохом». Читатели, вероятно, обратили внимание, что в названии данного очерка: «айда по горох», я не закавычил это словосочетание. Дело в том, что заимствованное из тюркского языка это слово (айда) вошло в вокабуляр и стало достоянием русского языка. В Толковом «Словаре русского языка» оно «употребляется как приглашение или побуждение идти куда-либо: пойдем, пойдемте» [СРЯ, 1: 27].
Характерны примеры, приведенные в этом «Словаре» из произведений классиков русской литературы – М. Горького («Фома Гордеев») и Г. Маркова («Строговы»). В первом случае: «Братцы! Айда за яблоками? – предлагает Ежов, вдохновитель всех игр и похождений», во втором – «А ну, айда, мужики, домой, угрюмо сказал бородач».
Слово айда в редакции хайди в гагаузском языке означает близкое к слову русского и татарского языков пойдем – «айда, ну, ну-ка, ну же, давай пойдем» ([ГРМС 1973: 507], см. также [ГРРС GRRS 2002: 306]).
Итак, оказавшись насильственно переселенными из знойных Буджакских степей в холодные просторы западносибирской низменности с ее свирепыми ветрами и трескучими морозами, жарким коротким летом, болгары, гагаузы и молдаване вынуждены были приспосабливаться к новым климатическим, социальным, этнокультурным условиям. Соответственно, перед ними встала триединая задача физиологической, социально-экономической и психологической адаптации.
Источником для выявления контурных параметров адаптационных процессов, имеющих принудительный характер, в известной мере могут служить воспоминания в порядке постановки проблемы о сути и содержании адаптации в экстремальных условиях.
Первые, к слову, самые трудовые, адаптационные усилия спецпереселенцев 1949 г. пришлись на осенние месяцы, когда вместо любования пушкинской многокрасочной порой, которая для «очей очарованье», надо было ежедневно думать о том, что бы еще на себя надеть, чтобы укрыться от стремительно наступающих холодов. Вместо предвкушения рождественских колядок и новогодних поздравлений, в круговерти декабрьских коротких дней и длинных ночей время уходило на оплакивание своей судьбы, на заготовку дров и на поиски продовольственных запасов.
Иными словами, первый год на чужбине превратился в череду малозаметных подвигов родителей по добыванию куска хлеба и по спасению от неумолимого наступающего повседневного холода.
В богатейшей отечественной и зарубежной литературе, посвященной массовым репрессиям, в том числе и по этническому признаку, особенно в получивших широкую известность публикациях Е. Гинзбург, А. И. Солженицына, А. Приставкина и многих других, наряду с документально подтвержденными описаниями ужасов и трагедий сталинского террора порой с мазохистским смакованием изображаются судьбы безвинно наказанных людей, в том числе отнесенных в категорию спецпереселенцев. Большая часть этих трагедий, выявленных в публикациях о наказанных народах и отдельных гражданах, адекватна реальности.
Однако в этих описаниях менее всего освещаются проблемы успешной адаптации спецпереселенцев к новым условиям жизни, к которым они были приговорены навечно в момент выселения. Между тем эти огромные массы людей, в одночасье лишенные всего своего достояния, должны были начинать материальную и духовную жизнь как бы заново, с нуля.
В отличие от стратегии добровольной адаптации, предполагающей совокупность действий адаптанта с целью приспособления к изменяющимся условиям и образу жизни, стратегия принудительной адаптации состояла в ограниченной свободе выбора времени, средств и действий для приспособления к навязанным формам и образу жизнедеятельности.
В одной из первых типологических классификаций, предложенной в 1928 г. представителем биологической науки Л. Плате, в качестве мотивов и основных причин адаптивных стратегий были названы: 1) целесообразность, 2) приспособление к окружающей среде, 3) сохранение здоровья, 4) сохранение вида [Философские проблемы… 1975: 45–46; Митиоглу 1998: 113].
Каждый из перечисленных показателей адаптационного процесса в той или иной мере вполне мог бы быть прилагаемым и к принудительной адаптации, к которой были обречены спецепереселенцы. Однако, их стратегия была иной: прежде всего она состояла в том, чтобы выжить, сохранить себя и свое здоровье и жизнь. И жестокая трагедия этой стратегии заключалась в том, что единственным механизмом выживания служило здоровье. Добывать хлеб насущный ради сохранения жизни надо было за счет губительной растраты жизненных сил в ущерб своему здоровью.
Исчезновение одного из спецпереселенцев из села, в котором мы жили, и печальным свидетелем чего мне пришлось быть, далеко не единственный случай «добычи» чудовищной машины репрессий. По Интернету гуляют десятки надерганных в том числе из произведений А. Солженицына холодящих душу примеров:
«… Смертную казнь получил ивановский деревенский парень Гераська: на Николу вешнего гулял в соседней деревне, выпил крепко и стукнул колом по заду – не милиционера, нет! – но милицейскую лошадь» [Солженицын 1989: 427].
Портной, откладывая иголку, вколол ее, чтобы не потерялась, в газету на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент донес куда следует. Портной получил 10 лет по 581 статье «за террор».
Продавщица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном листе, другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. По 581 статье ее посадили на 10 лет.
Тракторист Знаменской МТС утеплил свой худой ботинок листовкой о кандидате на выборы в Верховный Совет, а уборщица хватилась (она за те листовки отвечала) – и нашла. По статье за контрреволюционную агитацию трактористу присудили 10 лет.
Заведующий сельским клубом пошел со своим сторожем покупать бюст товарища Сталина. Купили. Бюст тяжелый, большой. Надо было на носилки поставить, да нести вдвоем, но заведующему клубом положение не позволяет… Старик-сторож догадался: снял ремень, сделал петлю Сталину на шею и так через плечо понес по деревне. Ну, уж тут никто оправдывать не будет, случай чистый. По 58-й статье 10 лет за террор.
Пастух в сердцах выругал корову за непослушанье «колхозной б…». Понятно, за подрыв авторитета колхозного строя ему дали 10 лет.
В бухгалтерии совхоза висел лозунг: «Жить стало лучше, жить стало веселее» (И. Сталин). И кто-то красным карандашом приписал «у» – мол, Сталину жить стало веселей. Виновника не искали… посадили всю бухгалтерию.
Не исключено, что нынешнему молодому поколению приведенные примеры могут показаться смешными, анекдотичными и почти невероятными. Но, как мне приходилось уже рассказывать, житель села Тамакулье исчез из села через три-четыре дня после того, как во время всенародного праздника во время выборов депутатов в Верховный Совет СССР в марте 1951 г., приняв «на грудь» излишнюю дозу спиртного, выразил вслух желание вступить в интимную связь с матушкой вождя народов, по злой воле которого был переселен из Гагаузии в Сибирь.
Кто бы мог подумать или подсказать мне, малолетнему смышленышу – сохранить письма из лесозаготовок Коми республики, чтобы потом с помощью факсимильного издания показать зачеркнутые черной тушью целые абзацы. Где они, черновики моих ответных писем от безграмотной супруги осужденного, чтобы получить представление о количестве трудодней, заработанных его взрослой дочерью – о том, сколько яиц удалось собрать в конце дня в сарае и под сельским домом, воздвигнутым на высоком фундаменте, о том, как скоро выполнен сталинский план заготовок молока и шерсти.
В процессах адаптации к местным условиям подростки и молодежь спецпереселенцев приспосабливалась быстрее, чем пожилые. Так, например, мой дед быстро смастерил мне жостку, чтоб в соревнованиях с местными ровестниками я мог добиваться хороших результатов. Суть состязаний состояла в том, кто больше всего сможет подбить ее ногой без перерыва. Жостка представляла собой кусок длинношерстной кожи, к которой прикреплялась круглая свинцовая пластина. Подбитая внутренней стороной ноги, жостка взлетала, подобно бадминтону, и спускалась парашютируя. Нужна была хорошая тренировка, чтобы жостка взлетала и опускалась, не прерываясь несколько десятков раз.
Еще одной детской забавой было влезать на вершину тонкой березы и, раскачав дерево, «спускаться как на парашюте». Увы, однажды спуск оказался не вполне удачным. Самый решительный из нас Толя Юркин, будущий мастер спорта по борьбе, директор Каргапольской средней школы, героически взобрался на десятиметровую березу, верхушка которой вместо плавного («парашютного») спуска, обломилась. И хотя парашютист отбил себе печенку, все обошлось в конечном счете благополучно. С тех пор мы стали подбирать для спусков березы с тоненькими, более упругими стволами.
2. Хозяйственно-экономические векторы повседневной жизни
В отличие от многочисленной белой эмиграции, состоявшейся после Октябрьской революции и Гражданской войны, вынужденное переселение крупных контингентов населения из различных регионов Молдавской ССР выдвинуло перед ними серьезнейшие задачи по хозяйственно-экономической и социокультурной адаптации. Трудно в каких-либо единицах измерить адаптивный потенциал конкретного спецпереселенца. Ясно одно: для того, чтобы витальная энергия могла обеспечивать жизнь, надо, чтобы она накапливалась и расходовалась. В отличие от принципа маятника, энергия жизнеобеспечения накапливается по принципу самозаряжения.
Витальная энергия белой эмиграции в 1920-е гг. в значительной мере расходовалась на подпитку ностальгических чувств и на подавление чувства побежденных и изгнанных из собственной страны. Куда как красноречиво поведала об этих специфических до слез ощущениях ностальгии Юлия Сазонова, считавшая русского эмигранта в Европе идеальным и самым жизнестойким представителем человеческой породы и поэтому обратившаяся к изучению различных форм его ментальности и исповедения, в том числе в деле восприятия Запада, как инокулыурной среды с точки зрения совместимости ключевых положений соционормативной культуры самих эмигрантов.
Спецпереселенцы, привезенные летом 1949 г. под конвоем из Молдавии в Сибирь, менее всего были озабочены на первый взгляд естественными чувствами ностальгии и тоски по родным очагам. В отличие от материально обеспеченных белоэмигрантов, перед ними со всей серьезностью встал вопрос обеспечения продовольственной стороны выживания.
Векторы хозяйственно-экономической, бытовой и социокультурной адаптации спецпереселенцев предопределялись, во-первых, насильственным переводом депортированных людей из частнособственнического сектора в колхозно-кооперативный; во-вторых, из климатической зоны Буджакского степного края в лесостепной ареал Западной Сибири. Бонитет почвы Буджака и новых мест поселения не имел принципиальных различий. Однако вместо безводной Буджакской степи и ее изнурительной летней жары, в Сибири короткое жаркое лето нередко прерывалось прохладными днями, а суровые зимы с октября едва ли не до мая месяца были совершенно непривычны для южан.
Здесь, увы, не рос виноград, не вызревала кукуруза, вместо привычных роскошных южных фруктов – персиков, айвы, чернослива, здесь росли ранетки – дающие карликовые яблочки. В палисадниках крестьянских домов повсюду в изобилии росла черемуха, боярышник, реже встречалась вишня и вишенья (кустарниковая вишня).
На колхозных посевных пашнях значительный удельный вес занимали площади картофеля и свеклы, кормовых культур – турнепса, клевера, овсяно-гороховой смеси. Вместо привычного в Буджаке пастбищного овцеводства, здесь в Сибири преобладало стойловое животноводство. Зимнее содержание скота практически с ноября до мая требовало значительного запаса кормовых единиц. Особенно непривычной была летняя страда – выездная кампания по заготовке сена на заливных лугах, находящихся на расстоянии не менее 20–30 километров от некоторых деревень, в том числе от с. Тамакулье, и заготовка дров на зиму.
При анализе хозяйственных адаптивных стратегий некоторых народов Крайнего Севера к инновациям некоторые исследователи выделяют (крупным планом) две траектории, называя одну часть населения «промысловиками», другую – «оленеводами», ставшими синонимами понятий «покорившихся» и «непокорившихся» вызовам урабанизационного наступления на хозяйственную деятельность малочисленных народов в XVII–XX вв. со стороны российской государственности и христианизации. Ссылаясь на известные публикации А. В. Головнева [Головнев 1997: 86, 87], авторитетная исследовательница социологии адаптации Л. В. Корель пишет:
Оказывая то явное, то скрытое сопротивление советско-российской экспансии, оленеводы сумели сформировать соционормативную культуру, способную противостоять индустриальному воздействию. Это уберегло (защитило) их от необходимости глубокой адаптации к российской цивилизации, они ограничились поверхностной. В то же время другие народы Севера вынуждены были более радикально менять весь свой жизненный уклад [Корель 2005: 130].
В отличие от адаптационных практик малочисленных народов Севера, у контингентов спецпереселенцев не было выбора. Поэтому они вынуждены были радикально менять свой образ жизни и исторически устоявшиеся элементы своей соционормативной культуры.
Движущей силой хозяйственной деятельности спецпереселенцев было не стремление к обогащению, а инстинкт самосохранения. И еще срабатывала инерция соционормативной культуры, в основе которой была наработанная веками установка к труду. Она приглушала социальную несправедливость и вымещала комплекс неполноценности у гордых и независимых людей, попавших в жернова сталинских репрессий.
Одним из важнейших в стратегии адаптации к местным условиям жизнеобеспечения было обретение хорошей коровы. Особенно везло тем семьям, которым доставалась корова с высокой жирностью молока. В летний сезон хозяин такой коровы относительно быстро успевал выполнить «сталинский план» госпоставок, а оставшееся молоко сдавал на маслозавод в обмен на масло и обрат. Вареная крапива, смешанная с отрубями и обратом, служила хорошим кормом для поросят. К зиме вес «борьки», как и «синьки» достигал до 1 центнера.
Задача хозяев состояла не только в заготовке или дозакупке сена в зимний период, но и в создании условий для стойлового содержания. Ежедневно надо было стелить свежую солому, убирать за коровой и следить, чтобы она не замерзла на голом сыром полу. В летний период надо было наблюдать, чтобы корова не оставалась яловой и была покрыта в такой срок, чтобы время отела пришлось не на лютые морозы, а на относительно теплое время в конце зимы или в начале лета.
Исключительно ответственным было время ожидания отела и первые дни существования новорожденного. Категорически нельзя было подпускать хозяйских детей бодаться с поднявшимся на ноги, но не окрепшим теленком, чтобы теленок не вырастал бодливым.
По гагаузским обычаям, видимо, доставшимся от прошлой кочевой жизни, уход за скотом считался мужской работой. В обязанности взрослых мужчин входила заготовка кормов для коров, лошадей и овец, уборка хлевов и уход за лошадьми. В. А. Мошков, например, обращал внимание на то, что на рубеже XIX–XX веков дойкой овец у гагаузов «занимаются… исключительно только мужчины» [Мошков 1901: 21].
На второй год пребывания в депортации женщины спецпереселенцев, еще не вполне освоившие местные природно-климатические условия, работали на полевых работах наравне со своими мужчинами и местными женщинами. Кроме того, на их долю достались уход за домашней птицей, обязанности по огороду, заготовка кормов для коровы и овец. Они сажали (квадратно-гнездовым способом) картошку, на утепленных органическими удобрениями грядках выращивали огурцы, помидоры, морковь, свеклу, а также неведомые в Буджаке бобы и брюкву. Вдоль забора на картофельном поле или у себя дома на огороде росли подсолнухи скорее для красоты, так как в промышленных масштабах семечки не вызревали.
За первые два года спецпереселенцы хорошо усвоили огородную культуру «местного» разлива. На небольшом сравнительно участке до 20 соток каждая семья обеспечивала себя овощами на всю зиму. Они быстро научились завозить на участок перегной и помет, устраивать высокие грядки под огурцы, дыни, помидоры, засадили вдоль по периметру кустами смородины, крыжовника. От посадки фруктовых деревьев воздерживались по причине неподходящего климата. Кроме мелких ранеток и кустов лесной вишни, фрукты, особенно косточковые, такие как сливы, абрикосы, персики, здесь не вызревали. Вместе с родителями, а порой и с близкими родственниками, дети подростки умели вносить органические удобрения, высаживать рассаду, высевать морковные, свекольные и другие семена. Обязательным обрамлением каждой грядки были бобы, несмотря на то что в районах выселения эта культура не была популярна. В то же время привычная в Буджаке фасоль здесь не вызревала.
Чувашская семья в с. Тамакулье, раскулаченная в 1929 г. и адаптированная в местную среду, обеспечивала хмелем едва ли не многие близлежащие села, сохранив по инерции высокую культуру выращивания хмеля, вывезенную из Чувашской АССР.
Заливные луга, отведенные жителям с. Тамакулье для сенокоса, находились в нескольких десятках километров вниз по течению в устье реки Миасс, где она впадала в Исеть. Сенокосная страда представляла собой целую операцию. Туда, где косили сено на лугах, в перелесках, в колках выезжали сельским табором и на берегу Миасса ставили шалаши.
Вокруг табора шалашей расставляли хомуты и другую конскую упряжь, как предохранение от заползания змей. Считалось, что змеи, которых на заливных лугах и в болотах было великое множество, не переносили лошадиного запаха.
Косили не только обычную луговую траву, но и осоку, обильно растущую на болотных участках, но дающую сено второго сорта. Дети от 12 до 17 лет верхом на лошадях подвозили к стогам копны сена на волокушах, сделанных из молодых берез или осин, стволы которых служили оглоблями, а на кроны с листьями складывали скошенную и высушенную в валках траву. В ужас приводили клубки змей на застарелых пнях, где они грелись на солнце.
К самой тяжелой и ответственной работе – скирдованию, подростков не приглашали. Иногда разрешалось подбирать подсохшее сено в рядках на конных граблях. Сидя на удобном сидении с дырочками, надо было регулировать рычаг, с помощью которого подымались и опускались серповидные зубья механических граблей. Взрослые мужчины, у которых уже были свои коровы и овцы, относительно быстро усвоили премудрости скирдования. Особенно тяжело было подавать на стог сено на навильниках. Зимой сено подвозили домой на колхозных лошадях.
Запрягать лошадей в телеги для весеннего вывоза навоза на колхозные поля или в волокуши для перевозки копен при скирдовании высушенного сена подростки учились методом проб и ошибок с 12–13 лет. Труднее всего в этом нежном возрасте было подсаживать дугу и затягивать супонь. Стертая в кровь коленка правой ноги, мозоли на руках выдавали подростка в том, что ему не раз уже приходилось запрягать лошадь.
Литературный герой романа А. П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» – ссыльный профессор Розенкампф – из ленинградских немцев – с трудом осваивал искусство запрягания лошади. Он доставал кожаную записную книжку с золотым обрезом, укреплял ее на воротах и начинал запрягать, согласуя свои действия с записью в шпаргалке, подготовленной со слов ветерана сельской жизни.
И делал все вполне успешно: – как замечает автор автобиографического романа А. П. Чудаков, – под чересседельник не забывал подкладывать потник… даже перед затягиванием подпруги заправски пихал коня кулаком в брюхо, чтобы тот выпустил воздух, – пока не доходило до хомута. Хомут в своем рабочем положении, то есть клещевиной вниз, не налезает на конскую голову. Его надо перевернуть обратно, после чего клещевину можно стягивать супонью [Чудаков 2013: 97].
Отец А. П. Чудакова, обычно присутствовавший при процессе как консультант, молча переворачивал хомут, надевал и снова переворачивал. «„Думконф!“ – бил себя по лбу профессор и делал пометку в книжке; в следующий раз все повторялось» [Там же].
Из приведенного текста видно, что автору романа А. П. Чудакову приходилось не раз запрягать лошадь. В этом можно быть уверенным даже несмотря на то, что он упустил одну важную деталь: если супонь не была натянута до отказа, плечо лошади натиралось до кровавого месива. За это в сибирской деревне строго наказывали.
Сегодня, на заре нового тысячелетия, я вспоминаю, как более полвека тому назад мы семьей всю весну заготавливали торфяные горшочки для ранней посадки картофеля квадратно-гнездовым способом, заготавливали на зиму дрова, как вывозили перед посевом навоз на колхозные поля, как собирали колоски и убирали картошку, собирали урожай или грибы и ягоды в близлежащих лесах, как подсчитывали количество заработанных трудодней и с нетерпением ждали общеколхозные годовые собрания, чтобы узнать «вес» каждого трудодня, выраженный в количестве зерна, в свекле, в картошке и т. п. При этом обнаруживается парадоксальная вещь. Мои однокашники в Москве, родом из Тамакулья, Каргаполья и других деревень Каргапольского района, все перечисленные сельскохозяйственные операции вспоминают не без труда. И дело здесь не в качестве или объеме памяти, а в последствиях той адаптации, в которую была втянута моя семья наряду с семьями других спецпереселенцев и местных жителей. Все непривычные для жителей Молдавии сельскохозяйственные операции довольно бурно обсуждались на семейном совете. Переход из одной системы жизнеобеспечения в другую, восприятие непривычных традиций соционормативной культуры оставлял в душе и памяти более глубокую борозду, чем в памяти тех, кто родом из тех краев.



