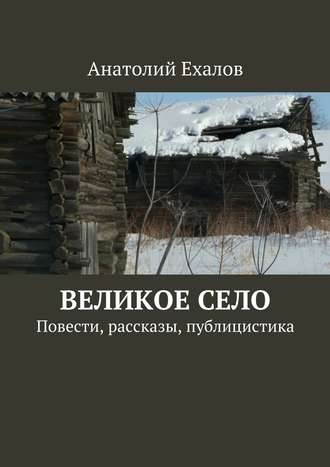
Полная версия
Великое село. Повести, рассказы, публицистика
Видно стало даже сквозь банный румянец, как побледнел бригадир и стиснул зубы…
– Команды отдавать легко, – сказал он угрюмо. – Да тут у нас командиров не больно почитают, тут у нас сами с усами…
– Тогда сами и поезжайте и косите, и возите, если не в состоянии управлять людьми. – Резко сказал Уралов.
Бригадир бросил на Василия насмешливый взгляд и хмыкнул:
– Я то поеду, а вот остальные… У нас свадьба – дело святое, почти вся деревня там. Пока не нагуляются…
Тут деревенская тишина словно раскололась. Где-то недалеко на улицу выплеснулась гармонным перебором, задиристыми частушками, присвистом и уханьем лихая гулянка. Задробили часто каблуки в тесовый помост, загомонил народ…
Бригадир кивнул головой в сторону расходившегося веселья.
– Вот они братья Кряжевы веселятся. Можно вместе дойти, поговорить. Может и съездят за травой-то? – Сказал бригадир с иронией, испытующе глядя на приезжего гостя.
– Пойдемте! – Решительно согласился Уралов, еще не зная, что он скажет этим людям, как достучится до их сознания. А если сейчас он не сможет выправить ситуацию, не сможет договориться с людьми, то как ему вести себя дальше? О чем будет говорить с людьми на собрании, когда придет время выбирать его председателем. Поверят ли ему люди?
Дом Кряжевых всем видом своим напоминал крепость. Рубленый из бревен в обхват, с маленькими окнами, трехскатной крышей, мощным забором. Около дома стоял на приколе колесный трактор с тележкой, чуть дальше гусеничный ДТ. Напротив дома из обрезной доски пятидесятки был набран помост, на котором и около которого топталось человек сорок хорошо выпившего народа.
На кругу выделывал под гармонь коленца здоровенный чубатый парнище в темном бостоновом костюме, хромовых начищенных сапогах, за голенищем у него торчала наборная рукоятка финского ножа. Парень, согнувшись едва ли не пополам, бухал ногами в помост и скорее кричал, чем пел частушку:
Мы ребята ежики,В голенищах ножики,А по две гирьки на весу,Револьвер на поясу…Ему вторил другой, плясавший напротив, такой же крепкий и такой же чубатый парень:
Выхожу и запеваю,А в кармане молотокА неужели не заступитсяЗа родного браток…И столько было страсти, энергии и задора, готовности тот час вступить в сражение с противником, если таковой объявится, в этой их удалой пляске, что Василий понял: начни он командовать здесь, скандала не избежать… Уж на что крепок и натренирован он, но и ему тут не устоять, намнут бока кандидату в председатели…
У площадки в окружении девчонок стоял третий такой же крекий, такой же чубатый парень, только потончивее и помоложе. На одно плечо его бы накинут пиджак, на голове прилепилась кепка восьмиклинка с веточкой черемухи.
Братаны оставили круг и на подмостки выскочила бойкая девчонка, лихо продробив каблучками.
Допризывнички гуляют,Допризывничкам почет…А несчастная браковкаЕле ноги волочет…– Это вот и есть братья Кряжевы, – сказал бригадир. Один вот, Ванька, в армию идет, а эти два – трактористы, а больше трактористов нет в этой бригаде. Но сейчас, точно вам говорю, лучше их и не трогать…
– Это почему? – Не сдавался Уралов, хотя ему и так уже было ясно, почему Кряжевых лучше не трогать.
– Генаха-то, у которого финка из-за голенища торчит, уже в тюрягу сходил. Уж больно горяч, чуть что не по ему – в драку…
– А второй?
– Второй- Пашко. Не сидел, а такой же отлет…
– А что же вы их в трактористах держите? На ответственном участке…
– Работники они хорошие, как начнут пахать, так как огнем палят. Сутками из-за рычагов не выходят, но уж если праздновать начнут, тут их не трожь…
– И все же я хочу с ними поговорить! – Твердо сказал Василий.
Но их и так уже заметили. Гармошка жалобно всхлипнув, замолкла, плясавшие в кругу братья Кряжевы, повернулись к вновь пришедшим гостям.
– О-о! Сам бригадир к нам пожаловал. Да не один, —Сказал нараспев Генаха, раскрыв широко руки. – Нашего полку прибыло. По чарке гостям.
Из дому уже несли на подносе закуску и бутылку «Московской» со стаканами.
– За счастье молодых! По целому, – Генаха ловко сорвал с бутылки сургучную пробку, в его огромных руках пол литра казалась четвертинкой, и вся она в один миг вместилась в эти два стакана.
Бригадир глянул жалобно на Василия и взял в руки стакан.
Но Василий решительно отвел угощение.
– Вот что, друзья, – твердо сказал он. – Я пить не буду ни за счастье молодых, ни за их будущее…
– Это почему это не буду? – опешил было Генаха. – За счастье молодых он не будет… Так мы можем и по другому попросить! – В голосе его зазвучала неприкрытая угроза… – Ты кто такой, чтобы нам, Кряжевым, поперек пути становиться?
– Я Василий Уралов, прислан сюда по решению райкома партии как кандидат на должность председателя колхоза. – Сказал громко и твердо Уралов, чеканя каждое слово. – И я вижу, что у вас в колхозе полный бардак. Коровы от голода на дворе так ревут, что крыша поднимается, а вы тут гулянки устраиваете…
Генаха недобро усмехнулся:
– Коровы чай не сдохнут до завтра, а вот председателем ты можешь и не стать…
– Ты чего это несешь, Кряжев! —Встрял бригадир. —Ты эти замашки брось. Ишь, угрожать вздумал!
– Ты, бригадир, не мельтеши. Генаха никогда и никому не угрожал. Он сразу резал, – ухмыльнулся Пашко. – А этого мы резать не станем. Мы его просто не выберем…
– Выберете вы меня или нет, мне без разницы. – Вскипел Уралов. – Я без работы не останусь, а вот у твоей сестры, как ты говоришь, ни счастья, ни будущего, ничего с таким вот вашим отношением к делу, не будет. И у вас не будет, и у ваших детей… Развалите колхоз в конец, прогуляете…
– Чего-о ты сказал, паренек? – Вздыбился Генаха. – Кто прогуляет? Мы с Пашко колхоз прогуляем? Да ты кто такой, ты чего про нас знаешь-то?
– А и знать нечего, – вдруг вынырнула из-за спины Уралова Нина Ивановна. – Не стыдно ли вам приезжего человека, срамота, сами жрете, а скотину голодоморите!
На какое-то время наступила тишина. Но тут вперед, раздвинув братьев, выступил могучий мужик лет пятидесяти с седеющей гривой волос, в котором сразу видна была порода, давшая на свет и Пашка и Генаху.
– А ну, уймитесь, соколики! Верно вам говорят люди. Не гоже скотину мучить. Только вот чего я скажу, Василий, Как тебя по батюшке-то?
– Васильевич он, – подсказала Нина Ивановна.
– Так вот, Василий Васильевич. Не чинись, выпей с нами заздравную, а скотину мы сейчас живо обрядим.
– Сначала обрядите, – уперся Уралов.
– Хорошо. – Согласился Кряжев старший. – Генаха, Пашко! В поле ехать не стоит. Худая еще трава, жидкая. Заводите трактор, спускайте с повети пустошное сено, везите на двор.
– Ты чего это батько наше сено-то отдать решил? – вывернулась из=под руки у Кряжева маленькая, словно воробей, женщина.
– Ничего мать, накосим нового! – Отвечал ей спокойно Кряжев.
Тут же затрещал в заулке трактор, распахнулись тесовые ворота. С десяток добровольцев, не снимая парадных костюмов, уже забрались на поветь и орудовали вилами. Через пятнадцать минут с полным возом колесник уже тарахтел по направлению к колхозному скотному двору…
– Ну что, командир, с почином! – Старший Кряжев протягивал Василию стакан, полный склень водкой, и соленый огурец на вилке. – Не держи на Кряжевых зла!
Отступать было некуда. Василий выдохнул из груди воздух и, пересиливая себя, выпил стакан до дна.
И тотчас, словно пожар вспыхнул внутри его, голова закружилась легко, и груз дневных забот и тревог стал отходить на задний план.
Перед ним словно из туманы выросла веселая девица в крепдышиновом сиреневом платье, сверкнула озорно горячими глазами, и, ухватив Уралова за руку, вытащила в круг. Радостно отозвалась гармошка, и ноги у Василия сами пошли в пляс.
Девица выдробила строчку и, не сводя с Василия дерзких манящих глаз, пропела, как выдохнула:
А ни коровы, ни козы,Не коси, не майся…Только с милым на печиЛежи да обнимайся.Тут же Василия подхватили под руки и потащили в дом.
– Не хватало и мне еще загулять вместе со всеми! – В отчаянии подумал он и уперся.
– Нет, нет! – Запротестовал Василий. – Я не могу сейчас идти с вами. Меня ждут.
Он нашел глазами в толпе Нину Ивановну и призывно замахал ей рукой.
Она все поняла, подхватила Уралова под локоть и сердито прикрикнула на разгулявшуюся публику.
– Вам сказано, что товарища Уралова ждут. Он не может остаться!
Шум праздника остался в стороне.
– Вы где собрались ночевать-то сегодня? —Спросила осторожно вековечная доярка Пасхина. – Ежели чего, так у меня изба пустая. Только сначала надо на двор сходить доглядеть.
…На этот раз коровник встретил тишиной, нарушаемой лишь хрустом сена да глубокими вздохами скотины.
– Слава тебе, Господи! – Перекрестилась Нина Ивановна. – Теперь пойдем на покой!
Она помолчала прислушиваясь к своим мыслям, покачала головой:
– Это ж надо, Кряжев сено самолучшее свое отдал! А три года назад уполномоченного с крыльца спустил. Так Генаха тогда на себя вину взял. Два года отсидел ни за что не прошто…
– Это что за история? – Заинтересовался Уралов.
– Так ведь не давали скотину-то держать. Не давали. – Вздохнула Нина Ивановна. – Косить не давали, приусадебные участки обрезали…
Хрущев-то будто заявил, что все по столовым будут питаться, что там все дешево станет и дома не надо будет силы тратить… Что все силы на общественное производство…
– В принципе-то это правильно, – сказал Василий. – На личном подворье труд малопроизводительный…
– Может, оно и так, – устало возразила Нина Ивановна, – только какая это будет семья, если она за общим столом не собирается, какой дом без скотины-то? Ведь народ-то в зимогоров превратиться…
Уралов не возражал.
– Приехали с района представители, – продолжала Пасхина. – До часу ночи собрание шло, уламывали всякими способами, чтобы проголосовали за сокращение приусадебных с 35 до 15 соток, за то, чтобы коров со дворов сводили на мясо…
– Ну и как?
– Проголосовали. Не все, конечно. Кряжевы не голосовали. Корову не свели. Потом и началась битва. По ночам косили, тайком. Был у нас такой бригадир из пришлых, так он Матрену Стогову выкараулил, как она сено с пустошей ночью на горбу несла, да и поджег сзади ношу-то. Сено то, как полыхнет в ночи-то… Так она чуть ума не лишилась…
– Ну, а Кряжевы что?
– А что Кряжевы? Надо скотину-то кормить. Накосили в тайге, привезли опять же ночью. Кто-то и донес. Вот к ним комиссия и нагрянула. Старший-то и встал на дыбы.
Вот с той поры у нас у народа на колхозное вроде бы обида какая… Не надо было подворье-то зорить. Теперь вот не запрещают скота держать, а обида осталась…
…Маленькая избушка Нины Ивановны Пасхиной была уютна и чиста. Хозяйка согрела самовар, выставила на стол нехитрую снедь: вареные яйца, молоко, хлеб…
– Я ведь, Василей Васильевич, батюшка, без скотины тоже жизни своей не мыслю. Сейчас вот сил уж не стает, так хоть козлика с козочкой да держу Уралов тоже молчал, потрясенный этой историей.
Да, Хрущев уповал на то, что общественное животноводство, более дешевое и производительное накормит всю страну и высвободит опять же для производительного общественного труда рабочие руки… Выходит, резали по живому… В скольких сердцах осталась такая вот неизбывная боль по своему хозяйству, по скотине…
– Вот я и думаю, если на том свете есть коровий рай, так точно Белава моя в раю. Не зря она мне во сне грезится. Верно к себе зовет. А я и сама последние лапти донашиваю на этом свете, только вот попаду ли в рай=то – не знаю. Ох, нагрешили мы за время свое безбожное немало, и церкви наши бескрестовые лесом на куполах поросли…
…Было уже темно. Нина Ивановна постелила Уралову в горнице на перине. В избе пахло хлебной закваской и ржаной соломой. Совсем, как в далеком теперь детстве… Едва коснулась голова подушки, словно провалился он в глубокий омут. И снилась ему дальняя дорога, плачущая доярка Пасхина, братья Кряжевы с финскими ножиками за голенищем, и та самая девица, плящущая на кругу, с горячими темными глазами. Вот повернулась она на каблуках, взмахнула подолом сиреневого платья, и вновь открылось ее лицо, но это была уже другая девушка, белокурая, с ясными голубыми глазами, грустной улыбкой на губах. Это была его Лара…
Чья в деревне власть?
– Да, милый вы мой, крестьянская психология – это особый строй души, – наставлял Василия в институте профессор Амелин, руководитель его научной практики. – Вот вы приедете в хозяйство, поставят вас к рулю, так я заранее очень попрошу вас: с вашим-то горячим характером не наломайте дров.
– Сельское хозяйство требует, вы сами говорили, решительных коренных преобразований. Как, не разрушив старого, можно построить новое? – Удивился Уралов.
– В том-то и дело! – Воскликнул профессор.– Нужно чувствовать остро, чтобы строить и перестраивать, не нарушая корневых основ. Давайте-ка мы с вами, оставим пока на минуту классиков марксизма-ленинизма, а обратимся к такому вот знатоку крестьянской души и крестьянской психологии, как Глеб Иванович Успенский. Вспомним его знаменитый очерк «Власть земли»:
«Русский народ до тех пор велик и могуч, до тех пор терпелив и безропотен в своих страданиях, пока царит над ним власть земли, пока сохраняет он в своей душе невозможность ослушания ее повелений. Уберите эту власть – и нет того человека, нет того кроткого типа, который держит на своих плечах вся и все. Наступает страшное: « Иди куда хошь».
И беда, если власть земли будет подменена властью чиновника. Так-то вот, дорогой мой.
Профессор разволновался и отложил в сторону очки.
– Помните Петровские реформы? Он пытался указами внедрять нововведения. Указом заставить крестьян садить картофель повсеместно. И что получилось? Крестьяне посадили эти «земляные яблоки» вместо репы, а поскольку понятия не имели о их свойствах, то стали собирать не клубни, а пупышки, которые на ветках растут, наелись, потравились и устроили картофельный бунт, который пришлось усмирять огнем и мечом.
А что сделали французы? Они тоже внедряли картофель, но как. Они учитывали психологию крестьян. Они раздали семена лучшим крестьянам и наказали строго настрого, чтобы ни один клубень не ушел на сторону. И через два года вся Франция садила картофель…
– Выходит, чиновники тоже разные бывают? И не всегда их власть и влияние на крестьянина бывают негативными…
– Влиять, а не управлять, вот в чем вопрос. Но и влияние до определенной степени, Умное влияние. А то крестьянин скажет, а зачем мне самому думать, зачем беспокоиться. Придет дядя сверху, распорядится… И тогда результат будет печальным. Задача руководителя в том, чтобы не самому работать и думать, а понуждать своих подчиненных думать и действовать.
Было время, когда у нас среди руководителей были сплошь одни кавалеристы: все проблемы у них решались лихой кавалерийской атакой.
– Знавал я одного такого, у него прозвище в народе было такое «Всадник без головы», – поддержал Амелина Василий.
– Вот, вот, – засмеялся Амелин. – А зачем голова, когда на каждое твое движение сверху есть определенная директива.
– Ну, сейчас, время изменилось. —С удовлетворением сказал Василий. – Теперь только и разговоров о самостоятельности, инициативе.
– Э, молодой человек, не спеши, – возразил Амелин. – Ситуация не меняется по мановению волшебной палочки. Те, кто подмял под себя негласную власть, так просто с ней не расстанутся.
Вот послушай, что я тебе скажу. По своему разумению я делю людей на три категории: первая высшая – это гении, творцы. Они живут и работают не ради собственной выгоды. Чаще всего об этой стороне дела они не помнят и не замечают ее. Их без остатка увлекает дело, его масштабность. Они счастливы тем, что заняты созидательным творческим трудом.
Другая категория – это таланты, созидатели. Талантливым может быть и писатель, и кузнец, и пахарь. Они тоже увлечены делом, не часто думают о материальных выгодах своего занятия, и тоже остаются в обычной жизни не защищенными.
Но есть и третья категория. Назовем ее – рутинщики. У рутинщиков нет гениальных способностей, нет задатков творцов, они не могут похвастать умениями и талантами, они серы, и в своей серой массе ничем друг от друга не выделяются. Но они находят для себя достойное занятие. Они идут вслед за гениями и талантами, за творцами и созидателями и обставляют их жизнь своими правилами, своими законами, начинают управлять творцами и распоряжаться результатами их труда. Они корпоративны, они организованны и сплочены одной общей задачей. Они опасны, наконец, для общества и государства. Если не выстроить вовремя против них защиту.
Но сделать это будет чрезвычайно непросто, потому что и серость и рутинщики завтра без тени сомнения объявят себя борцами и с рутиной и серостью, с бюрократией и коррупцией, поменяв коней и окраску, что бы только не потерять свою власть над творцами и гениями…
– Что же делать? – Спросил расстроенный Уралов.
– Что делать, что делать? —Единственное, я полагаю средство, когда увлекаешься делом, масштабами его, теряй при этом головы. Поглядывай, что делается вокруг, кто стоит за твоим плечом. И не чурайся рутинной работы, чтобы ее за тебя не стали делать другие и опутали тебя своими сетями…
С Амелиным Уралов вновь встретился на партийно-хозяйственном активе в районе, куда направили его работать после института.. Профессор приехал, чтобы прочитать доклад о научно-обоснованных нормах кормления скота.
Он утверждал, что для того, чтобы корова доила не менее трех тысяч литров молока в год, нужно, чтобы ее ежедневный рацион составлял не менее девяти кормовых единиц.
В это время сидевший в президиуме заместитель начальника областного управления сельского хозяйства по животноводству Першаков, сверкавший огромной лысиной, властно прервал докладчика, постучав по графину карандашом:
– Вот скажите, уважаемый товарищ профессор, как это получается… Вот у нас здесь присутствует председатель колхоза «Таежные поляны» Леонид Петрович Кропачев. Он вам может ответственно заявить, что у них на корову приходиться пять кормовых единиц, а получают они от этой коровы тоже около трех тысяч литров.
Зал загудел. Из первых рядов поднялся высокий молодой человек, одетый в серый с иголочки костюм, идеально подстриженный и без обычной для председательских лиц окалины загара.
– Вот, пожалуйста, товарищ Кропачев, подтвердите профессору ваши результаты.
Амелин с интересом взглянул на молодого председателя.
– Так за счет каких же резервов вы смогли достичь этих феноменальных результатов? – Спросил он насмешливо.
– Я думаю, здесь не уместен смех, – ледяным тоном отвечал молодой человек. – Выполняя решения прошедшего съезда партии, встав на трудовую вахту в честь празднования Первомая, наши животноводы увеличили продуктивность скота, несмотря на недостаточность кормовой базы.
Что-то знакомое показалось Василию в этой высокой тончивой фигуре, в голосе, и жестах.
– Кропачев? Леонид Кропачев. Ленька! Так вот где судьба свела их вновь.
Кропачев сел.
Амелин отложил доклад, повернулся в сторону Першакова:
– С научной точки зрения, этот феномен я объяснить не могу, но могу объяснить, как рядовое очковтирательство.
Зал грохнул, Першаков покраснел и набычился:
– Я бы не советовал вам делать столь скоропалительные выводы. Наука слишком много на себя берет…
Все знали, что «Таежные поляны» искусственно тянут в передовики. Даже такой анекдот рассказывали. Будто бы приезжает Першаков на ферму, подходит к передовой доярке и спрашивает:
– А скажи, Евдокия, ты три тысячи от коровы надоить можешь?
– Могу, Петр Федорович!
– Ну, а четыре?
– Могу и четыре.
– А пять?
– Могу, Петр Федорович и пять, только вот молоко-то сине будет!
В перерыве Уралов подошел к Амелину. Профессор обрадовался своему бывшему студенту, как родному. Долго тряс ему руку.
– Вот мы с вами говорили о крестьянской психологии, а теперь, поездив по хозяйствам вашего района, я хотел бы с вами о коровьей психологии поговорить. Понимаете в чем дело: генетически это животное на протяжении столетий формировало свою психологию, направленную только на отдачу. У коровы не должно появляться других желаний, кроме одного: доиться, доиться и доиться. Она должна знать, что обо всем остальном позаботиться человек, ее хозяин, вовремя и полноценно накормит, напоит, согреет, почистит стойло и постелет душистую солому… Но если у нее появятся на сей счет сомнения, если ее не накормить раз, второй, если не напоить вовремя, тогда она начнет перестраивать свое отношение к жизни. Она перестанет отдавать молоко полностью, а станет свою энергию резервировать про запас, на всякий случай.
После заседания хозпартактива Василий, выйдя на улицу, почти столкнулся с Кропачевым.
– Ну, что ж, здравствуй, – сказал тот с плохо скрываемым вызовом. – И тебя в эту упряжь запрягают, слыхал. В «Зарю». Давай, давай, Оратай Оратаюшка. Не сломай только шею…
Василий молча смотрел на Кропачева, человека, который принес ему уже столько страданий и смог повлиять на его жизнь. Но в душе его похоже давно сгорело негодование, осталась одна брезгливость…
Колхозная демократия
Все эти дни до колхозного собрания Уралов жил у старой доярки Нины Ивановны, втягиваясь в круг председательских забот. А их, как оказалось, было выше головы, начиная от отелов на ферме, кончая бабьими родами. До всего должно быть дело председателю, со всяким вопросом к нему идут… Так заведено тут десятилетиями.
Сельский клуб располагался в верхней теплой части переоборудованной под культурный центр церкви Иоанна Предтечи. Церковь в прежние времена была богато расписана, фрески с библейскими сюжетами начинались прямо от входа, с лестницы и украшали весь верхний и нижний пределы. Фрески пытались не раз забелить, но побелка держалась плохо и сквозь нее то тут, то там проступали лики святых.
Сцена с трибуной располагались в алтарной части. За сценой на беленой стене висели портреты Карла Маркса и Ленина, а меж ними виднелась на стене фреска, изображавшая Иоанна Крестителя с высоко поднятым крестным знамением.
Народ давно уже привык к такому соседству и не обращал внимания ни на Предтечу Христа, ни на классиков коммунистической идеи.
Собрание по выборам нового председателя назначено было на одиннадцать дня, но народ не торопился бежать на собрание, обряжал скот, хлопотал по дому, словно испытывая терпение кандидата на прочность. Василий начал уже было волноваться.
Пока что в клубе были только специалисты из конторы, несколько старух, ребятишки, затеявшие возню и игры с беготней вокруг лавок, несколько деревенских собак, загодя занявших укромные места, где бы не наступили им на хвосты.
В бродовых с закатанными голенищами сапогах, в зеленой пограничной фуражке пришел дед Гарапон, потерявший свою начальственную должность с открытием дорог и страдавший от этого.
– Новому председателю, поклон от ветеранов земледелия, – дед снял фуражку и церемонно поклонился Василию. – Надолго ли в наши края?
– Да я еще пока не председатель?
– Выберут! Поорут, покричат да и выберут! – Прищурился хитро Гарапон. – Так —то оно проще. Есть с кого спрос чинить, если какие в хозяйстве не лады. Сами-то в стороне, а председатель отвечай. Как у нас прежние-то председатели правили? Побьются, потрепещутся, да и на вылет.
– И давно у вас так? —Спросил Василий.
– А с тех самых пор, как телефонный звонок Сталина нас подвел.
– Сталина? —Удивился Уралов.
– Докладываю, – оживился Гарапон.– Урожаи в наших краях, надо сказать сразу, с испокон веку хороши были. Земля, считай, чернозем чистый, да и стараньем Бог не обидел. Председателю до ордена рукой подать.
Вот собирает он после уборочной правление. «С одним планом хлебосдачи, – говорит, – мы успешно справились, – возьмем, говорит, обязательство и второй сдать!» Но правление – на дыбы: «А чего колхозникам на трудодни останется?»
Сколько ни давил, сколько не ломал – устояли. Пусть, отвечают, общее собрание колхозников решит сдавать второй план или не сдавать.
Повесил наш пред головушку, а потом как стукнет по столу: «Собрание, так собрание!»
Вот в клубе весь колхозный народ в сборе, портреты вождей в красном углу, на сцене президиум восседает, а вот председателя нет. Пять минут нет, десять… Заволновались, зашумели. Пятнадцать минут нет уже.
И тут из боковой двери стремительно так выкатывается, и портфель под мышкой. Взлетел на трибуну, как кочет, и молчит. Торжественно так молчит, значительно.
Притихли мы в ожидании, а он как заголосит:
– Поздравляю, – кричит, – вас товарищи колхозники! Только что я разговаривал по прямому проводу с вождем мирового пролетариата, генералисимусом всех времен и народов, нашим мудрым учителем и кормчим… Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

