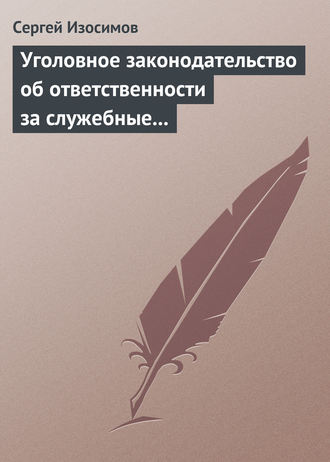
Полная версия
Уголовное законодательство об ответственности за служебные преступления, совершаемые в коммерческих или иных организациях: история, современность, перспективы развития
а) всех тех, кто находился на службе в каком-нибудь частном учреждении или в общественной организации, не преследующей общегосударственных задач (например, в спортивной организации);
б) всех тех, кто, не занимая особого места по службе, вступал с государственным учреждением или предприятием в договоры подряда, поставки, аренды и т. п.[73]
Необходимо отметить, что, пожалуй, наиболее ярко специфические проблемы, стоящие перед молодым Советским государством в период, когда его будущее полностью зависело от темпов восстановления народного хозяйства, опустившегося до критического уровня, отразились в той части УК РСФСР 1922 г., которая была посвящена хозяйственным преступлениям (гл. IV)[74]. Глава включала много норм, вызванных к жизни конкретной исторической обстановкой первого периода нэпа, которые затем вполне естественно утратили свое значение[75].
Глава IV УК РСФСР 1922 г. предусматривала 25 составов преступлений (ст. 126–141-а). В их числе были нормы, ответственность за которые могли нести служащие коммерческих и иных организаций, в том числе лица, выполняющие в указанных структурах управленческие функции. Так, например, в соответствии с положениями, закрепленными в ст. 132 указанного источника, они могли быть привлечены к уголовной ответственности наравне с должностными лицами за нарушение нанимателем установленных Кодексом законов о труде и правил Общих положений о тарифе, регулирующих продолжительность рабочего дня, сверхурочные часы, ночную работу, работу женщин и подростков, оплату труда, прием и увольнение, а также нарушение специальных норм об охране труда[76].
Согласно постановлению Совнаркома от 11 августа 1922 г., в целях обеспечения контроля за выполнением государственными, общественными и частными учреждениями, предприятиями и хозяйствами всех законов о труде и надлежащего ознакомления с последними трудящихся было вменено в обязанность всем вышеназванным учреждениям и предприятиям с числом наемных рабочих и служащих не менее 10 человек иметь в своих управлениях и конторах, а за отсутствием таковых – в местах производства расчета с рабочими, «Известия Наркомата труда». Одновременно постановление от 11 августа предписывало Наркому труда помещать в «Известиях» все относящиеся к регулированию и охране труда декреты и правила, а руководителям предприятий вывешивать на месте работы означенные декреты и правила. Нарушения постановления Совнаркома от 11 августа карались наказаниями, предусмотренными ст. 132 УК РСФСР[77].
Субъектом рассматриваемого преступления мог выступать ответственный наниматель предприятия, учреждения и организации любой формы собственности.
Следует, однако, заметить, что в основном в качестве виновников данного преступления выступали все же должностные лица. При квалификации таких деяний неизбежно вставал вопрос о конкуренции с нормами, содержащими общие составы должностных преступлений (ст. 105, 107 или 108 УК РСФСР 1922 г.). Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда от 1 декабря 1923 г., за нарушение Кодекса законов о труде представители государственных учреждений и предприятий, ответственные за наем рабочих и служащих, должны были привлекаться не по ст. 105, а по ст. 132 УК, и наравне с частными лицами они были подсудны трудовым сессиям народного суда.
Отмечалось, что от ответственности за нарушения законов о труде не освобождаются и руководители артелей. Так, Кассационная коллегия Украинского Верховного суда установила, что «председатель правления артели является ответственным за действия артели и несет в первую очередь всю ответственность при нарушении законов и распоряжений Советской власти по охране труда». (Опр. № 195 от 7 августа 1923 г.).
А. Н. Трайнин указывал, что «высшая администрация или владелец предприятия или учреждения могут привлекаться и в качестве соучастников, если они заведомо знали о правонарушении и не приняли должных мер к его устранению… и, напротив, наниматель освобождается от ответственности в том случае, если он докажет, что принял все зависящие от него меры к предупреждению или устранению правонарушений, и последнее имело место исключительно вследствие действий (или бездействия) высшей администрации или владельца предприятия (учреждения), в каковом случае последние и несут ответственность»[78].
К числу преступлений, которые по ряду признаков имели определенное сходство с деяниями, совершаемыми лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях (по УК РФ 1996 г.), можно также отнести еще два состава гл. IV УК РСФСР 1922 г. – ст. 127 и 129. Первая из этих норм предусматривала ответственность за бесхозяйственное использование заведующим учреждения рабочей силы, вторая – за расточение арендатором государственного достояния, предоставленного ему по договору. Если указанные действия рассматривать как злоупотребление служебными полномочиями, то эти составы имеют определенное сходство со ст. 201 УК РФ 1996 г.[79]
Во многом похоже по законодательной технике были сформулированы нормы в УК РСФСР 1926 г., предусматривающие ответственность за совершение должностных преступлений и за деяния, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Так, в целом аналогично трактовалось понятие субъекта должностных преступлений в примеч. к ст. 107 указанного источника. Сравнивая их с законодательным определением Уголовного уложения 1903 г., можно сделать вывод о том, что выполнены они с использованием одних и тех же приемов законодательной техники. Правда, больше недостатков имеют определения, сформулированные в УК 1922 г. и УК 1926 г., из-за использования предельно общих понятий. В связи с этим практически любого гражданина, работающего в общественном секторе экономики, можно было причислить к субъектам должностных преступлений, что, впрочем, во многом отвечало политическим реалиям (потребностям) того периода.
В то же время большой интерес представляет определение должностного лица, содержавшееся в примеч. к ст. 97 УК Украинской ССР 1927 г., согласно которому таковым считалось лицо, «занимающее постоянные или временные должности или исполняющее постоянно или временно те или иные обязанности в каком-либо государственном учреждении, государственном предприятии или товариществе с исключительным или преобладающим участием государственного капитала, в кооперативной, хозяйственной организации, а также в организации или объединении, которое по закону имеет определенные права, обязанности или полномочия в осуществлении хозяйственных, административных, судебных (по суду, следствию, защите и т. п.), просветительских и других задач публично-правового характера, а также отдельные члены таких организаций, если они наделяются правами, обязанностями или полномочиями в осуществлении указанных задач публично-правового характера».
Особенностью этого определения следует признать то, что в нем в традициях российской правовой мысли получила воплощение концепция о публично-правовой природе понятия должностного лица. Она проявляется в делегировании части государственно-властных полномочий конкретному представителю госаппарата, который осуществляет определенные управленческие функции в интересах общества от имени и по поручению государства. Но, несмотря на преимущества указанного определения по сравнению с ранее имевшимися, оно не изменило проводимой государством уголовной политики, связанной с установлением рамок должностных преступлений и определением их субъектов. Расширение круга лиц, признаваемых виновниками преступлений по должности, имело свои основания.
Во-первых, такой подход был обусловлен формированием новых экономических отношений в стране, граждане которой стали рассматриваться в качестве служащих одного всенародного государственного «синдиката».
Как писал в 1920 г. нарком юстиции РСФСР Д. И. Курский, должностные посягательства получили «вместе с Октябрьским переворотом исключительное значение, так как национализация промышленности и торговли превратила всех частных служащих и рабочих в должностных лиц. Современный строй не знает или почти не знает более частной службы. Все торговые приказчики и фабричные рабочие являются ныне экономическими чиновниками, внесенными в штаты соответствующих учреждений и получающими жалованье по определенным тарифным ставкам. Вследствие этого группа должностных преступлений должна чрезвычайно вырасти количественно, получить большое уголовно-политическое значение»[80].
А. Я. Эстрин в связи с этим отмечал, что «советское право… по принципиальным соображениям пошло в смысле расширения содержания понятия “должностное лицо” гораздо дальше буржуазного»[81].
Во-вторых, такое направление в уголовно-правовой политике было связано с изменениями, происходящими в сфере управления. Новым политическим приоритетом стало «привлечение трудящихся к повседневному выполнению государственных функций» как непосредственно, так и через различного рода общественные механизмы[82].
По этому поводу А. А. Пионтковский писал: «Для того чтобы понять круг должностных преступлений по советскому уголовному праву и уяснить их особенности сравнительно с буржуазным уголовным законодательством, необходимо исходить из своеобразия советского госаппарата. Основное отличие советского госаппарата от государственного аппарата буржуазии состоит в том, что буржуазный госаппарат стоит над массами, он чужд народным массам, а советский государственный аппарат не стоит над массами, а сливается с широкими массами трудящихся, и советским государственным аппаратом в широком смысле слова являются не только Советы с их органами власти, но и ”организации всех и всяких беспартийных объединений, соединяющих Советы с глубочайшими «низами», сливающих государственный аппарат с миллионными массами и уничтожающих шаг за шагом всякое подобие барьера между государственным аппаратом и населением“ (И. Сталин. Вопросы и ответы. М., 1925. С. 8)»[83].
Очевидно, что с учетом трансформаций, произошедших в сфере экономики и управления, позиции законодателя, правоприменителя и представителей правовой науки в части ответственности за преступления по должности существенным образом изменились.
Субъектами названных посягательств стали признаваться все служащие государственных органов, предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от занимаемой ими должности, наличия или отсутствия властных полномочий.
Как писал А. А. Жижиленко, «с точки зрения современного строя всякий служащий является в то же время должностным лицом, как бы ни была незначительна его функция в общей системе государственного устройства»[84]. Отсюда признавалось, что «должностное преступление может иметь место как со стороны низшего служащего (скажем, курьера, сторожа, канцеляриста), так и со стороны служащего, занимающего более высокую и ответственную должность»[85].
Кроме того, к должностным лицам относились и служащие в общественных организациях, на которые возлагались государственные задачи, поручалось выполнение политических функций. Считалось, что служащие общественных организаций, «которые выполняют имеющие общегосударственное значение задачи, наравне со служащими государственных учреждений, несут ответственность за нарушение своих служебных обязанностей как за должностные преступления»[86]. Таким образом, на начальных этапах советского строительства все общественные структуры (за исключением разве что религиозных общин) стали рассматриваться в качестве организаций, которые действуют в общегосударственных интересах. Поэтому служащий, по существу, любой формальной общественной структуры признавался в качестве возможного субъекта должностного преступления[87].
На практике предполагалось признавать должностными лицами служащих негосударственных организаций (кооперативов, товариществ, акционерных обществ и т. п.), которые выполняли различные задачи, возложенные на них государством. Большинство ученых-юристов 20–30-х годов в своих исследованиях также придерживались именно этой точки зрения, исходя из потребностей, диктуемых общественно-политической обстановкой и происходящими в стране преобразованиями, выполняя тем самым социальный заказ.
Так, например, в работе «Уголовный суд и преступления в кооперации» Г. К. Рогинский и М. С. Строгович прямо указывали, что «лица, занимающие те или иные должности в кооперативных органах (как по выбору, так и по договору личного найма), являются должностными лицами и за свои преступления, связанные с исполнением своих служебных обязанностей, несут уголовную ответственность по тем статьям УК, которые предусматривают должностные преступления»[88].
Характеризуя кооперацию, эти авторы отмечали, что «кооперация не является даже общественной организацией, это – принудительное объединение граждан, действующее на средства государства, по его плану и распоряжениям, то есть тот же государственный орган». Признавая, что в условиях нэпа юридическая природа кооперации изменилась и имели место взгляды, что кооперация стала обладать чертами частноправовой организации, они тем не менее полагали, что при таком положении кооперации она ни в коем случае не может быть приравнена к частной организации, но вместе с тем не является и государственным органом, «она обратилась в общественную организацию»[89]. Также указанные авторы считали, что для уголовного суда имеет значение отличие кооперативных организаций от частных лиц и организаций, но не от государственных учреждений и предприятий, так как кооперация вполне подходит под понятие организации, осуществляющей общегосударственные хозяйственные и, отчасти, просветительные задачи, указанные в примечании к ст. 105 УК (ред. 1922 г.).
Все связанные с кооперацией преступления Г. К. Рогинский и М. С. Строгович делили на три группы.
К первой группе они относили деяния, совершаемые лицами, обладающими организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями в той или иной кооперативной организации.
Во вторую группу авторы включали хозяйственные преступления контрагентов кооперации. Они отмечали, что «злонамеренные неисполнения договоров со стороны контрагентов кооперации достаточно многообразны, но все они сводятся к тому, что частное лицо, заключив договор, либо злонамеренно, то есть умышленно, не исполняет его, иногда даже вовсе не имеет в виду его исполнять в самый момент заключения, желая лишь получить аванс, либо же к выполнению договора относится явно недобросовестно, то есть не считает нужным принять надлежащие меры к выполнению договора».
Поскольку частный капитал вообще допущен на сцену хозяйственной жизни страны лишь в целях развития народного хозяйства, писали Г. К. Рогинский и М. С. Строгович, подобные преступления должны решительными мерами изгоняться из договорной практики, «а потому мера социальной защиты, применяемая к лицам, учинившим эти преступления, должна быть достаточно серьезна и ощутительна»[90]. К такого рода преступлениям в полной мере можно отнести, например, ст. 130 УК РСФСР 1926 г., которая так же, как и ст. 129 УК РСФСР 1922 г., предусматривала ответственность за расточение арендатором или уполномоченным юридического лица предоставленного ему по договору государственного или общественного имущества[91].
К преступлениям третьей группы авторы относили деяния частных лиц по созданию лжекооперативов и преступления должностных лиц по содействию лжекооперации.
В отличие от частных организаций, кооперативы имели ряд льгот и привилегий. Так, согласно ст. 57 ГК, кооперативные организации могли владеть предприятиями без ограничения числа рабочих рук на таковых. Также, по постановлению ВЦИК от 21 августа 1924 г., они имели преимущественное право перед частными лицами на получение от государственных органов подрядов, поставок и т. д. В тех случаях, когда представители частного капитала, желая воспользоваться предоставленными кооперации льготами, придавали своим предприятиям кооперативную форму, сам факт создания такого фиктивного кооператива с точки зрения уголовного закона считался преступлением. В соответствии с УК 1922 г. действия частных лиц, которые путем обмана получали различные имущественные выгоды и причиняли тем самым имущественный ущерб государству, рассматривались как мошенничество и влекли ответственность по ст. 188 УК[92].
В дальнейшем, «если организация кооперативного характера под влиянием проникших в нее ”дельцов“, получала лжекооперативный уклон, применялась ст. 109 УК (ред. 1926 г.)»[93].
Позже постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 9 сентября 1929 г., изданным в соответствии с постановлением СНК СССР от 29 декабря 1928 г., в УК РСФСР была введена специальная норма (ч. 2 ст. 129-а), предусматривающая уголовную ответственность за учреждение и руководство деятельностью лжекооперативов. Одновременно закон предусматривал и ответственность должностных лиц за содействие лжекооперации (ст. 111-а УК)[94].
Некоторые ученые выделяли также ряд более частных случаев применения положений и статей о должностных преступлениях к действиям работников различных хозяйственных и кооперативных организаций. Так, например, А. Я. Эстрин к их числу относил:
1) неправильное, слишком широкое, кредитование частных покупателей, в особенности своих родственников и приятелей;
2) устройство ненужных, дорогостоящих командировок;
3) всякого рода иные случаи использования служебного положения ради устройства своих личных дел[95].
Кроме того, он полагал, что за растраты, подлоги, взятки работники всех таких организаций должны были подлежать уголовной ответственности за должностные преступления, независимо от занимаемого ими служебного положения[96].
Точку зрения о приравнении к должностным лицам служащих различных хозяйственных и кооперативных организаций поддерживал также и А. А. Жижиленко. Он считал, что не только лица, находящиеся в непосредственном публично-правовом отношении к государству, признаются государственными служащими и считаются несущими службу в интересах государства. Наряду с ними стоят и лица, которые в особых публично-правовых отношениях с государством не находятся, – это служащие различных организаций, существующих в государстве и признаваемых им преследующими общегосударственные задачи. «Поскольку эти организации действуют в общегосударственных интересах, – писал он, – служащие их, подобно служащим государства в собственном смысле, наделены известными правами и полномочиями и связаны определенными обязанностями. Отсюда – возможность и необходимость их ответственности на том же основании, как и государственных служащих»[97].
Вместе с тем А. А. Жижиленко отмечал, что служба в организациях и объединениях, не преследующих общегосударственные задачи, не является с точки зрения УК интересом, нуждающимся в особой правовой охране. Поэтому «должностные лица любой артели… не являются должностными лицами в смысле примеч. 1 к ст. 109 УК РСФСР (ред. 1926 г.), так как артели не уполномочиваются государством выполнять его функции»[98].
Однако такой взгляд противоречил судебной практике и точке зрения Верховного Суда РСФСР. В своем разъяснении Вологодскому губернскому суду Пленум Верховного Суда РСФСР указывал, что старосты молочных кооперативов и артелей, зарегистрированных в надлежащем порядке, должны привлекаться к уголовной ответственности за растрату находящихся в их ведении сумм и имущества артели по статье, предусматривающей должностное преступление[99]. Аналогичное разъяснение давал Пленум Верховного Суда РСФСР и Главсуду Бурято-Монгольской АССР[100].
Близкой к точке зрения А. А. Жижиленко была позиция А. Н. Трайнина. В первом издании учебника «Уголовное право РСФСР» в 1925 г. он указывал, что в число должностных лиц входят субъекты, занимающие любую должность в любом государственном органе или органе, выполняющем возложенную законом государственную функцию. К организациям и объединениям, выполняющим общегосударственные задачи, А. Н. Трайнин относил хозрасчетные предприятия, работающие на широкий рынок, но ведущие хозяйственное строительство по твердому и регулируемому государственному плану. Также он отмечал, что хотя по общему правилу служащие кооперации, граждане, принадлежащие к профсоюзному аппарату и т. п., должностными лицами не являются, однако в те моменты, когда они исполняют определенную публично-правовую функцию по поручению государства (например, кооперация производит порученные государством хлебозаготовительные операции), они могут быть признаны таковыми[101].
В следующем издании учебника А. Н. Трайнин, формулируя эту позицию уже не столь резко, отмечал: «Лишь в той мере, в какой та или иная общественная организация является носительницей публично-правовых функций, и в те моменты, когда она эти функции конкретно исполняет, ее органы являются должностными лицами»[102]. Также он полагал, что вряд ли можно отнести к числу должностных лиц служащих такого кооператива, как, например, кооператив парикмахеров или булочников либо других кооперативов, не входящих в состав более широких объединений, и вряд ли к таким служащим могут быть применимы постановления о должностных преступлениях, так как они не могут считаться лицами, способными злоупотребить властью, превысить ее и т. п.[103]
Другого взгляда на данную проблему придерживался А. Р. Гюнтер. Он утверждал, что если какие-либо неясности в этом вопросе были возможны при старой редакции УК, то в редакции УК РСФСР 1926 г., где статьи о должностных преступлениях говорили не только о власти, но и о служебном положении, вряд ли есть основания для сомнений. «И вполне допустим случай, – отмечал он, – когда служащий кооператива парикмахеров или булочников проявит халатное отношение к возложенным на него по службе обязанностям, в результате чего для кооператива наступят вредные последствия, например, служащий такого кооператива поздно является на службу, вследствие чего образовываются очереди, вызывающие ропот публики, а кооператив, помимо подрыва доверия к кооперативной организации, терпит и непосредственный материальный от действия своего неисправного сотрудника ущерб. Или другой случай: приказчик булочного кооператива отпускает кому-либо из своих приятелей – вопреки существующим на этот счет прямым указаниям правления кооператива – товар в кредит; приятель этот уезжает, не покрыв своего долга кооперативу. В этом случае можно говорить о злоупотреблении приказчиком своим служебным положением либо о превышении им своих служебных полномочий; квалификация по той или иной статье зависит от общей обстановки совершенных деяний, но то, что перед нами деяние, которое может и должно быть квалифицировано по одной из статей о должностных (служебных) преступлениях, – это никакому сомнению не подлежит»[104].
Кроме различного вида кооперативов, артелей, товариществ и т. д., в годы проведения новой экономической политики существовали многочисленные акционерные общества с участием частного капитала. В связи с этим остро стояла проблема квалификации преступлений, совершаемых служащими таких организаций. Однозначного решения этого вопроса также не было.
По мнению А. А. Жижиленко, служащих смешанных обществ, как акционерных, так и товариществ с ограниченной ответственностью, являющихся формой участия государственного капитала, совместно с частным и кооперативным, следовало рассматривать как должностных лиц[105].
Иначе рассуждал А. Я. Эстрин. Он говорил, что в случаях, когда форма акционерного общества избирается для того, чтобы привлечь к организуемому предприятию частный капитал, «мы имеем перед собою уже не акционерную организацию чисто государственного характера, а смешанное акционерное общество, в руководящих органах которого некоторая часть персонала (по общему правилу меньшая часть, ибо обычно частным акционерам предоставляется менее 50 % акций) представляет не интересы советского государства, а интересы частных капиталистов-акционеров». Подобные организации, с точки зрения ученого, уже «не могут считаться организациями последовательно социалистического типа; они являются уже организациями государственно-капиталистического типа»[106].
Он указывал, что, входя в руководящие органы акционерного общества на основании устава, который в данном случае фиксировал и определенные договорные обязательства между государством и частными акционерами, представители последних не перестают оставаться частными лицами и должностными лицами не становятся. Если нарушение ими своих служебных обязанностей в некоторых случаях могло явиться поводом для привлечения их к уголовной ответственности, то таковая, по мнению А. Я. Эстрина, должна была наступать на основании и в порядке ст. 131 УК РСФСР (ред. 1926 г.), предусмат ривающей неисполнение обязательств по договору, заключенному с государственным или общественным учреждением.
Лиц, представляющих в руководящих органах смешанного акционерного общества интересы государства, как держателей большей части акций, он предлагал относить к должностным, по смыслу примеч. 1 к ст. 109 УК (ред. 1926 г.). Что касается иных служащих такого акционерного общества, в том числе и членов его руководящих органов, то, по словам А. Я. Эстрина, «поскольку оно, не будучи уже организацией последовательно-социалистического типа, не должно вообще рассматриваться как одно из звеньев аппарата пролетарской диктатуры, эти служащие, хотя и не должны рассматриваться как должностные лица в смысле уголовной ответственности, могут быть в некоторых отдельных случаях приравнены к последним, в особенности же в случае растраты к ним может быть применена ст. 116 (ред.




