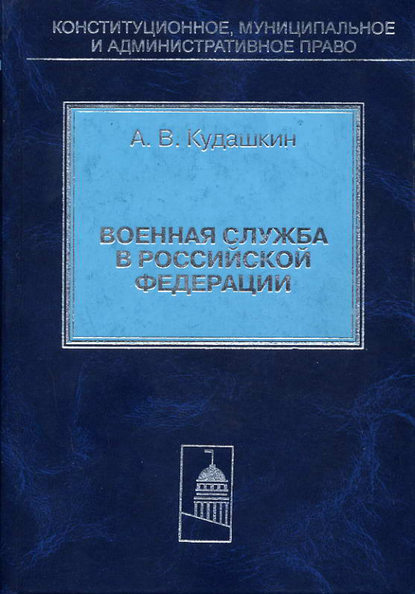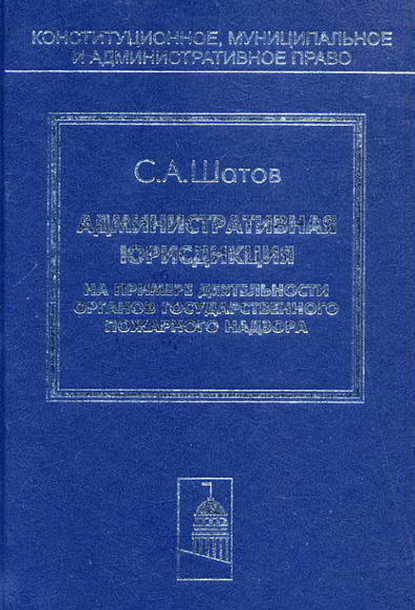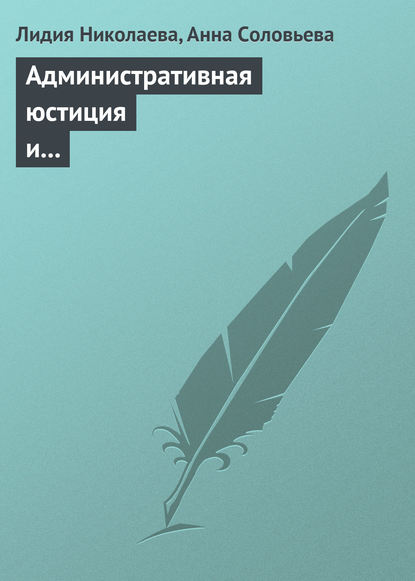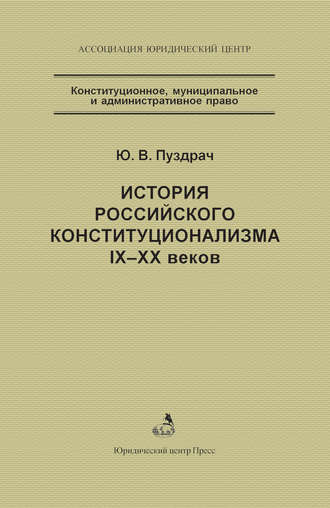
Полная версия
История российского конституционализма IX–XX веков
Ссылки Волоцкого и Топоркова на Библию укрепляли уверенность Грозного в богоизбранности собственной власти: «Всякая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти, кроме как от Бога: тот, кто противится власти, противится Божьему повелению» (1-е посл, к римлянам, 1–2; 5); «Надобно повиноваться не только из страха, но и по совести» (там же: 5); «Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения…» (2-е посл. св. ап. Петра, 17); «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как чревоугодники, но как рабы Христовы, выполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам… И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия» (Посл, к ефесянам, 5–9); «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым» (1-е посл. св. ап. Петра, 18).
Веря в свою богоизбранность, он считал себя орудием высших начал и не допускал мысли о каком-либо посягательстве на свою волю, тем более в виде непрошеного совета. Поэтому-то слушал он только тех, кого хотел слушать, награждал того, кого хотел награждать, и наказывал тех, кого считал нужным наказывать. Совершенно естественно, что при такой системе власти место боярского совета явно второстепенно, а влияние на политику государства ничтожно.[226]
В полемике с Курбским, говоря о власти самодержца и посягательстве на нее со стороны подданных, Грозный пишет, что пользуется ею не из гордости и хвастовства: «Нечем мне гордиться, ибо я исполняю свой царский долг и не делаю того, что выше моих сил. Скорее это вы надуваетесь от гордости, ибо, будучи рабами, присваиваете себе святительский и царский сан и учите, запрещая и повелевая».[227] Он обвиняет Адашева и Сильвестра в стремлении утвердить в Русском государстве систему ограниченной монархии, где царь «почтен» лишь «председанием», обладает лишь номинальной властью, в то время как власть реальная находится в руках его советников.
Обосновывая единовластие, Грозный приводит библейскую истину: «Горе мужу, которым управляет жена, горе городу, которым управляют многие!» (Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 25:24). При этом он ссылается на недавнюю русскую историю, вспоминая о разорении, которое было на Руси, когда в каждом городе существовали свои начальники и правители, и делает вывод: «Если не будет единовластия, то даже если и будут люди крепки, и храбры, и разумны, но все равно уподобятся неразумным женщинам, если не подчинятся единой власти», так как «при правлении многих – один хочет одного, другой другого».[228]Царство, раздираемое междоусобной распрей и смутой, нежизнеспособно, так как «царство разделенное не может устоять» (Мрк, 3:24).
В этом вопросе он соглашается с Пересветовым,[229] утверждавшим, что причиной гибели многих библейских государств, да и самой Византии, было подчинение царей вельможам, ибо представительное или коллективное правление не может привести к благу государства, так как власть не дается подданными, она от Бога, наследственная, всеобъемлющая и никому не подконтрольная.[230]
Пересветов призывал Ивана держать в узде вельмож и богачей, положить конец произволу бояр и проявлять к ним суровость. Пересветов ненавидит аристократию, хочет полного уравнения всех служилых людей, возможности развития талантов из среды простых шляхтичей, для достижения чего необходимо отодвинуть боярство от влияния на царя и создать сильную монархическую власть, опирающуюся на армию. Опора делается на средние слои населения, что непременно ведет к усилению демократической тенденции.
Государство, считал Пересветов, должно быть построено по военному образцу: правление должно быть грозным, юстиция – краткой, суд – суровым. Эталон – государство и войско Магомета II (1451–1481), покорителя Константинополя,[231] и Солимана П.[232] Дальнейший ход событий, в частности понятие о самодержавии, учреждение опричнины и «грозное правление», говорят о том, что идеи Пересветова оказали серьезное воздействие на Ивана IV.
Итак, после осознания своего великого предназначения Иван IV решил освободиться от тех, кто мешал реализации этого предназначения.
Учреждение опричнины и террор опричников были вызваны стремлением упрочить самодержавную власть, окончательно освободиться от опеки боярства, способного ограничить власть царя.[233] Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов детские обиды Ивана на бояр, его многочисленные жалобы на казнокрадство.[234]Именно с этими обстоятельствами было связано уложение в 1550 г. нового «Судебника», который был гораздо лучше систематизирован, чем предшествующий, и учитывал судебную практику, исходя из которой были отредактированы многие его статьи. В частности, впервые устанавливались наказания для взяточников – от подьячих до бояр.[235]
Если же обратиться к экономическим результатам опричнины, то можно заметить, что она не изменила структуру феодального землевладения в России. Крупные землевладельцы благополучно пережили опричнину, изменился их персональный, но не социальный состав.[236]
Говоря о социальных результатах опричнины, невозможно не обратить внимания на то, что она совершенно уничтожила остатки человеческой свободы, которая была противна Ивану и своеобразно им понималась.[237] Опричнина так повлияла на формы российского крепостничества, что юридически с течением времени оно все больше напоминало рабовладение: крестьянин был прикреплен в большей степени к личности феодала, чем к земле, никакие государственные нормы не регламентировали отношения барина и крепостных.[238] При Иване IV не только прекращен крестьянский переход, но и положение крестьян было доведено до крайности. Об этом свидетельствуют и работы Пересветова и Матфея Башкина, и публицистика представителей ортодоксально-церковного направления. Ермолай Еразм, Максим Грек, Вассиан Патрикеев и даже Иосиф Волоцкий обращали внимание царя на тяжелое положение крестьян и предлагали различные меры для его изменения.[239] Об угнетении народа[240]пишет и Курбский. Перечисляя бедствия всех чинов государства, он указывает, что «купеческий чин и земледелец… стражут, безмерными данями продаваеми».[241] Любопытна явная демагогия Грозного по поводу того, что он сам готов пострадать ради христиан в борьбе с врагами не только до крови, но и до смерти. Он верит в то, что ему, как рабу, предстоит Божий суд не только за свои грехи, вольные и невольные, но и за грехи подданных, совершенные из-за его (царя) неосмотрительности.[242]
Наконец, самое главное «завоевание» опричнины – с ее помощью был установлен такой деспотический режим, при котором возникло своеобразное равенство всех сословий: и бояре, и дворяне, и купцы – все стали рабами царя.
Характерной чертой правления Ивана IV, и не только его, было то, что власть организует все силы общества для войны, собирает промышленную деятельность для военных финансов; правительство хочет, чтобы таланты и капиталы всех служили ему одному. Оно берет на себя слишком много руководительства, ничего не оставляя самодеятельности общества. В этом заключался как источник великой силы и могущества Московского государства, так и главная опасность, так как общество молчало и правительство не могло знать о перенапряжении его сил.[243]
Подобная жесткая централизация приводит к тому, что общество перестает думать, а человек – самостоятельно принимать решения; зависимость от государства ведет к пассивности людей и преувеличению ими возможностей государства, представители которого также склонны преувеличивать свои силы и полномочия. Да и откуда может взяться самостоятельность, если право частной собственности и элементарные свободы отсутствуют?
Любые начинания государства, требующие массового участия и местной самостоятельности, чаще всего были сопряжены с колоссальными трудностями. Например, реформы местного управления проводились в жизнь чрезвычайно тяжело. Пожилые и не очень здоровые люди, ставшие губными старостами (было предписано избирать на эту должность лишь тех дворян, кто уже не способен к военной службе), не горели желанием бросать свои имения и бесплатно выполнять многотрудные административные обязанности. Многие отказывались целовать крест,[244] без чего нельзя было вступить в должность, некоторые уезжали из своих уездов в Москву. Новоявленных администраторов приходилось ловить, сажать в тюрьму или насильно отправлять в свои уезды.[245]
Однако очень скоро, после образования Московского государства, центральные органы управления стали строить свою работу не только по функциональному, но и по территориальному принципу, что явилось немаловажным фактором, обеспечивающим единовластие, поскольку подобное учреждение органов местного управления не предполагало развития политического самосознания. Вот что пишет по этому поводу П. Н. Милюков: «При самом начале развития наших учреждений мы наталкиваемся на огромную разницу с западом. Там каждая область была плотным замкнутым целым, связанным особыми правами… Наша история не выработала никаких прочных местных связей, никакой местной организации… Присоединенные к Москве области распадались на атомы, из которых правительство могло лепить какие угодно тела. Но на первый раз оно ограничилось тем, что каждый такой атом разъединило от соседних и привязало административными нитями к центру».[246]
Завершая разговор о времени и условиях становления самодержавия в России, по-видимому, следует солидаризироваться с мнением Г. В. Плеханова, который, отвечая на вопрос о том, что нового внес Иван IV в теорию и практику Московского государства, писал, что введенная им новизна означала полное уничтожение всего того, что так или иначе задерживало окончательное превращение жителей Московского государства в рабов перед лицом государя, совершенно бесправных как в личном, так и в имущественном отношении. Идеология русского самодержавия, возникшая во времена Грозного, есть идеология абсолютной монархии в «восточном смысле слова».[247] Думаю, однако, что Грозный, обладавший глубокими знаниями, черпал свою государственную инициативу не только из татарского прошлого Руси и византийского опыта, но и из Рима, поскольку последние имели общие корни.
И здесь необходимо обратить внимание на то, что Рим, создав мощнейшую политическую традицию, практически не был озабочен ее идеологической подпоркой, а жречество не оказывало значительного влияния на жизнь общества, в то время как Византия, напротив, обладала высочайшей духовностью, но ее внутренняя политика не принесла каких-либо серьезных инновационных элементов. России, прямой наследнице Византии и косвенной – Рима, удалось не только сохранить византийскую духовность (идеологию), но и воспользоваться некоторым политическим опытом Рима.[248]
Разговор о римском опыте вполне уместен, и примеров заимствования достаточно много. Скажем, не использовал ли Иван IV (Петр I, большевики и другие реформаторы) уроки проведения и результаты реформ Сервия Туллия (538–535 гг. до н. э.), предпоследнего римского императора? Уравняв по территориальному принципу патрициев и плебеев и разделив их по экономическому принципу, Сервий Туллий подорвал могущество старой родовой знати и вывел на политическое поле силы, ранее и не помышлявшие об участии во власти, что было, по-видимому, первым шагом к равенству всех перед государством; а заменив родовое войско единой военной обязанностью для всего населения, ввел новый принцип комплектования армии – народное ополчение; он положил начало образованию двух классов общества – имеющих и не имеющих политические права,[249] каждый из которых обладал разными правами и обязанностями по отношению к государству[250].
Аналогии здесь вполне уместны: Грозный брал на вооружение только то, что вписывалось в его понимание власти. Если же говорить о последнем тезисе и политических правах, основанных на собственности, то надо сказать, что российский вариант такого общественного деления выглядел более экстравагантно, чем римский.[251] Все будущие реформаторы России, за исключением, пожалуй, только П. Столыпина, рассуждая о вопросах прав человека, думали прежде всего о политических правах и никогда о правах экономических. Видимо, это еще одно подтверждение известного тезиса о том, что политическая составляющая общественного развития не может развиваться без экономической базы. Политическое сознание возникает только на основе собственности, которая, в свою очередь, дает некоторую, безусловно относительную, независимость от государства.
В результате в России сложилось два уклада, при этом принесенные ими принципы организации так глубоко внедрились в массовое сознание, что любое развитие общественной, и тем более государственной, жизни виделось и во многом продолжает видеться как некая относительно устойчивая комбинация характеристик, свойственных удельному и единодержавному укладу.[252]
Необходимо сказать, что политический спор между Грозным и его оппонентами при его жизни закончен не был, и Иван, впрочем как и многие из его критиков, так и не узнал о том, сбылись ли те или иные его пророчества. Думаю, будет справедливо сказать, что основные принципы государственной власти, достроенной Иваном Грозным, остались незыблемыми и после его смерти. Об этом писал Д. Флетчер в своей книге «О государстве Российском».[253] Приведем его отдельные наблюдения:
– «правление у них чисто тираническое»;
– «дворянству дана несправедливая и неограниченная свобода повелевать простым, или низшим, классом народа и угнетать его во всем государстве, куда бы лица этого сословия ни пришли, но особенно там, где они имеют свои поместья или определены царем для управления»;
– «и дворяне и простолюдины в отношении к своему имуществу не что иное, как хранители царских доходов, потому что нажитое ими рано или поздно переходит в царские сундуки»;
– «жизнь человека считается нипочем»;
– «о состоянии низшего класса и простого народа… о свободе их можно судить по тому, что они не причислены ни к какому разряду и не имеют ни голоса, ни места на соборе или высшем земском собрании. Они сами себя признают холопами, т. е. крепостными людьми или рабами, так точно, как, в свою очередь, дворяне признают себя холопами царя»;
– «что касается до земель, движимого имущества и другой собственности простого народа, то все это принадлежит ему только по названию и на самом деле нисколько ни ограждено от хищничества и грабежа как высших властей, так даже и простых дворян, чиновников и солдат»;
– «дворяне и духовенство… довольствуются тем, чтобы все бремя лежало на простолюдинах и что могут облегчить сами себя, сваливая все на них»;
– «закон, обязывающий каждого оставаться в том состоянии и звании, в котором жили его предки, весьма хорошо продуман для того, чтобы поддержать подданных в рабстве… сын мужика, ремесленника или земледельца остается навсегда мужиком, ремесленником и проч. и не может идти далее, кроме того чтобы, выучившись читать и писать, достигает до повышения в священники или дьячки».[254]
Наконец, Д. Флетчер писал, что политика Ивана Грозного «так потрясла все государство и до того возбудила всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что это должно окончиться не иначе как гражданским пожаром».
Так, собственно, и случилось: после смерти Ивана IV началась смута, и развитие государственности на Руси вполне могло пойти по польско-литовскому сценарию, где отсутствовало единство государства и шляхта каждой области создавала маленькое, вполне самостоятельное общество со своим парламентом, который направлял в общегосударственный сейм своих депутатов, наделяя их полномочиями, связанными с интересами местной корпорации. Однако этого не произошло.[255]
Глава 2
Зарождение и попытки ограничения самодержавия в XVI–XVII вв.
§ 1. Субъекты и изначальные попытки ограничения самодержавия
Несмотря на выстроенную московскими царями систему власти, борьба за ограничение самодержавия велась параллельно с его упрочением и началась одновременно с первыми попытками усилить власть единоличную. В этом заключается, может быть, главный парадокс российской истории.
Предположительно с тех времен, когда в России стала выкристаллизовываться идея единовластия, возникли, развивались и сохранялись, в той или иной степени организованные[256] и влиятельные, общественные группы, которые в разное время и с различным успехом создавали известный противовес княжеской, а затем и царской власти. Как уже говорилось, это православная церковь в лице своих высших иерархов, боярство и служивое сословие.
Попробуем проанализировать поведение духовенства и боярства в борьбе за участие во власти и ответить на вопрос, почему они так и не сумели ограничить российское самодержавие.
Церковь. Христианизация Руси (а россияне, как известно, были обращены в христианство последними в Европе) принесла с собой мощное культурное влияние Византии. Появляется новый общественный класс – духовенство, возникает новое, церковное общество, у которого свои правила и законы, иерархия, свой круг лиц и подведомственных учреждений. Все это положило начало постепенному развитию нового взгляда на общественные отношения.
Выбор Русью православия был вполне естественным, если принять во внимание тогдашнее богатство и могущество Византии, а также особое значение для Древней Руси торговых отношений с ней. Однако то, что Россия восприняла христианство у Византии, а не у Рима, имело далеко идущие последствия для ее дальнейшего исторического развития. Она стала единственным государством Европы, унаследовавшим византийскую схему построения государственно-общественных отношений. Видимо, это стало одним из наиболее судьбоносных факторов российской истории.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма. М., 2001. С. 20.
2
Юридическая энциклопедия. М., 2001. С. 441–442.
3
«Что такое „бюрократия“? Не что иное, как неограниченное правление…» (см.: Витте С. Ю. Избр. воспоминания. М., 1997. С. 283).
4
Это понятие сформулировал С. Ю. Витте в своей записке «Самодержавие и земство» (см.: Шипов Д. Н. Воспоминания о думах и пережитом. М., 1918. С. 127).
5
См.: Корелин А. П., Степанов С. А. Витте С. Ю. – финансист, политик, дипломат. М., 1998. С. 246.
6
См.: Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. М., 1981. С. 81.
7
См.: Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1986. С. 241.
8
В связи с этим уместно вспомнить чрезвычайно любопытную мысль B. О. Ключевского: «Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий» (см.: Ключевский В. О. Афоризмы и мысли по истории // Тайны истории. М., 1994. C. 151).
9
См.: Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. М., 1993. Т. 3. С. 512.
10
См.: Ильин И. А. Соч. М., 1998. Т. 6. Кн. 3. С. 233.
11
Существенным для наших дальнейших рассуждений будет понимание земли как термина, который является аналогом современного понятия «общество». Основание для такого понимания дает нам Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля.
12
См.: Костомаров Н. И. Мысли о федеративном начале Древней Руси // Бунт Стеньки Разина. М., 1994. С. 16.
13
В скандинавских сагах Русь именуется как «страна городов» – Гардарика, что свидетельствует о богатстве и определенном общественном развитии.
14
По свидетельству Нестора, славяне обходились без княжеской власти (см.: Валишевский К. Иван Грозный. М., 1993. С. 23).
15
См.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Древней Руси // Раскол. М., 1994. С. 134, 136.
16
Там же. С. 137.
17
В литературе встречается еще один территориальный термин того времени – «становище», т. е. место, и один раз в год, чаще зимой, останавливался князь и значительная часть его дружины для проведения полюдья. Поскольку большой разницы между становищем и погостом не усматривается, можно предположить, что становищем был один из погостов, выбранный князем.
18
Целью наезднического понятия о власти была разбойничья добыча, а средством для достижения цели – дружина, пестрая шайка удальцов, набранных отовсюду. Летописец описывает такой случай. Дружина Владимира, зазнавшись, не захотела есть деревянными ложками и потребовала серебряных. Владимир исполнил просьбу: «Серебром и золотом не найду дружины, а дружиною найду серебра и золота; так и отец и дед мой дружиною доискались серебра и золота» (см.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Древней Руси. С. 138).
19
См.: Рыбаков Б. А. Мир истории. М., 1987. С. 107–108.
20
См.: Там же. С. 109.
21
Может быть, именно с этого времени и начались традиции русского государства как государства, по классификации Ж. Бодена, развивающегося по принципам «синьориальной» монархии, при которой правитель является собственником своих подданных и их имущества. В подобных государствах политическая и экономическая компоненты сливаются в единую систему властвования. При такой организации власти отсутствуют законоправие и личные свободы, кроме того, правитель в своих действиях ничем не ограничен и рассматривает свою власть как собственность.
22
См.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Древней Руси. С. 141.
23
См.: Соловьев С. М. Начало русской земли. СПб., 1879. С. 18; Ключевский В. О. Русская история. Т. 1. С. 20.
24
Так начали складываться отношения между центром и провинциями.
25
См.: Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. М., 1991. С. 49–57.
26
Вершиной развития вечевого порядка организации жизни был Новгород. Важно отметить, что новгородский строй не имеет подобия с устройством современных ему западноевропейских городов. Если же говорить о какой-либо схожести, то Новгород ближе к древним греческим республикам, чем, скажем, немецким (см.: Костомаров Н. И. Начало единодержавия в Древней Руси. С. 149).
27
Наиболее интересен, на взгляд автора, анализ А. Е. Преснякова (см.: Пресняков А. Е. Княжеское право в Древней Руси: Лекции по истории Древней Руси. М., 1993).
28
См.: Вернадский Г. В. Киевская Русь. М., 1996. С. 194–204.
29
Иными словами, уже в Древней Руси при организации власти применялся русский вариант идеи разделения властей.
30
В то же время многие авторы, например, Н. Костомаров, говорят о том, что власть князя в дотатарское время не подвергалась со стороны земли притеснениям и ограничениям в мелочах. Во всяком случае, договоры (ряды) с князьями не носили подробного характера, а касались только общих традиционных вопросов управления и суда. Для князя существенным было только одно – воля земли. Таким образом, у него было несколько путей к власти: выборы или сила и хитрость. Второй вариант требовал посредничества лояльных ему партий и последующего обязательного признания землей. Именно последнее обстоятельство свидетельствует о том, что князья стали использовать негативные стороны прямой демократии и научились манипулировать общественным сознанием.
31
Сравнение договоров с князьями, которые заключали с ними Новгород и Псков в XIV и XV вв., с договорами дотатарского времени говорит не только о повышении политической роли веча и, соответственно, о снижении значения князя в системе организации власти, но и о республиканской тенденции развития общества. Такого рода договоры с князьями можно считать прообразом Конституции.