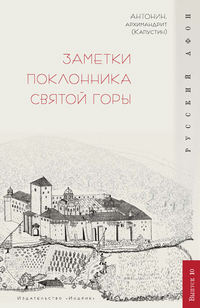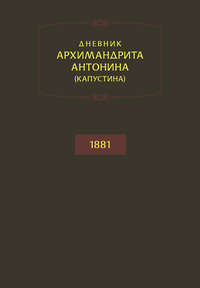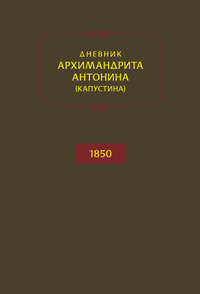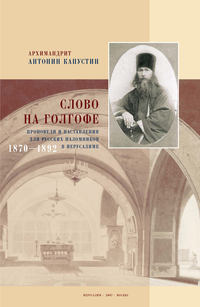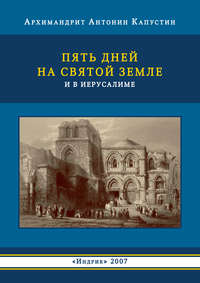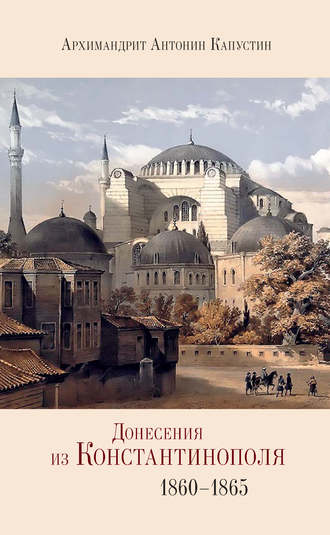
Полная версия
Донесения из Константинополя. 1860–1865
5 сентября 1861 г. Антонин отмечает в Дневнике: «Писал письмо к московскому великому старцу. Читал заметки оного по болгарским делам, из коих вывел заключение, что майское письмо мое к нему не доставлено. Как это объяснить?»[67] 18 сентября он получил новые замечания митрополита Филарета. Назревавший конфликт с митрополитом Филаретом вызвал у Антонина опасения, что его отправят в Россию. «Старец, я думаю, постарается упечь меня куда-нибудь посевернее Царьграда», – сетовал он.[68] Однако быстро развивающиеся события в Константинополе требовали участия архимандрита Антонина.
Российской дипломатии удалось нанести болгарской унии удар весьма оригинальным способом. 6 июня 1861 г архиепископ Иосиф Сокольский был приглашен на посольскую дачу в Буюк-Дере на Босфоре, и в ходе разговоров он взошел на русский корабль, который доставил его в Одессу. Из Одессы Иосиф был препровожден в Киев, где с тех пор проживал в Киево-Печерской лавре. Похищение Иосифа было представлено в официальной версии как желание найти убежище в России и вернуться в православие. Для ускорения этого были приняты все меры. Более того, Киевский митрополит Арсений сослужил с ним литургию, что расценивалось как шаг необдуманный и поспешный. Признание Иосифа в России с канонической очки зрения было невозможно без принятия его в церковной общине Константинопольским Патриархом. Задача переговоров с Патриархом по этому вопросу была возложена на Антонина. При первом разговоре Иоаким II ответил категорическим отказом. Однако надежда на благоприятное решение вопроса оставалась. «Надобно, чтобы святейший Патриарх отступил от своего строгого суждения о Иосифе, которое выразил архимандриту Антонину, и чтобы согласился оставить Иосифа без преследования, – писал митрополит Филарет. – Нельзя ли поручить архимандриту Антонину смиренно довести до сведения Вселенского Патриарха, что российское духовенство находит полезным для Православной Церкви, чтобы Иосифу было оказано снисхождение».[69] Это поручение, переданное Антонину через посланника, было выполнено им 30 мая 1862 г. В результате беседы с Патриархом выяснилось, что Иоаким II не только не был намерен идти навстречу пожеланиям российского Св. Синода – признать Иосифа Сокольского в сущем сане, но и высказывал мнение, что католики вообще не являются христианами, так как не практикуют правильного таинства Крещения (донесение от 1 апреля 1862 г.). Ввиду неуступчивости Патриарха, по совету митрополита Филарета, и Русская Церковь воздержалась от официального признания архиерейского сана Иосифа Сокольского. Несмотря на не однократные просьбы о возвращении на родину, из Киевской лавры он отпущен так и не был и скончался там 30 сентября 1879 г.
Между тем с июля 1862 г. в Константинополе начала заседания смешанная греко-болгарская комиссия, которая была призвана выработать программу примирения. Болгары настаивали на включении в патриарший Синод половины архиереев-болгар. Патриархия соглашалась допустить не более четырех. Не добившись единогласия, обе стороны в сентябре отправили в Порту свои предложения. Султанское правительство, по обыкновению, отложило решение на будущее время. В октябре сосланные митрополиты были перемещены ближе к Константинополю, что оценивалось как заигрывание Порты с болгарскими лидерами. В феврале 1863 г. Аалипаша внес предложение, чтобы в Синоде заседали митрополиты в зависимости от численности христианского населения епархий, что давало явное преимущество болгарам. 2 июня 1863 г. Порта заявила о роспуске комиссии ввиду безрезультатности ее действий. Воспользовавшись неудачей в работе комиссии, противники Иоакима II 20 июня 1863 г. подали Порте на него жалобу. Главными обвинениями, кроме неспособности решить болгарский вопрос, была невозможность справиться с долгами Патриархии и с проблемой имуществ в Молдавии и Валахии.
Вопрос о монастырских имуществах составлял, наряду с болгарским вопросом, вторую неразрешимую задачу для Константинопольского Патриархата. Обширные земельные владения (метохи) восточных монастырей (Афонских, Синайского, Патмосского) и церквей (Александрийской, Иерусалимской), которые были в XVII–XVIII вв. «преклонены» (дарованы) молдовлахийскими господарями, составляли до ¼ территории княжеств. Со времени начала борьбы Молдавии и Валахии за национальную независимость неоднократно вставал вопрос о статусе этих земель. Вопрос не был решен ни Парижским трактатом, ни парижской конференцией августа 1858 г. Последующие годы прошли в более-менее безрезультатных переговорах между Портой, представителями держав и румынским правительством во главе с А. Кузой. В ноябре 1862 г. Куза секвестировал доходы монастырей в пользу казны, а 24 декабря 1863 г. правительство Соединенных Княжеств приняло решение о конфискации монастырских имуществ. Естественно, такие действия вызвали энергичный протест со стороны владельцев. Для решения вопроса в 1864 г. в Константинополе была образована комиссия из представителей держав-поручительниц Парижского трактата. На стороне восточных владельцев выступила фактически одна только Россия, которая по-прежнему исходила из принципа поддержки православия на Востоке. Франция открыто встала на защиту князя Кузы, что объясняется ориентацией правительства Соединенных княжеств на Францию.[70] Англия и Австрия старались наладить контакт с восточными владельцами, но главной их целью было нейтрализовать русское влияние на ход дела. Работу комиссии затрудняло то обстоятельство, что представители восточных владельцев не представляли документов на собственность и часто в виде протеста вообще не являлись на заседания; не могли они и преодолеть разногласия между собой (прежде всего это касалось выплаты взноса в константинопольскую патриаршую казну со стороны монастырей, подчиненных вселенскому престолу и имевших метохи в княжествах). В качестве компромиссного варианта еще в 1859–1860 гг. предлагалась выплата денежной компенсации владельцам; однако и эта мера не была выполнена, так как ни один банк не мог поручиться за уплату бухарестским правительством столь большой суммы (приблизительно 150 миллионов пиастров). Разумеется, Куза сам не располагал такой большой суммой и предполагал взять ее взаймы у тех же константинопольских банкиров Г. Зографоса и Х. Зарифиса. Этим негласным соглашением между Кузой, Патриархом Иоакимом II и неофанариотами объясняют кунктаторскую политику Патриархата и, позднее, падение Кузы.[71]
Шаткое положение Кузы в его борьбе с Церковью и внутренней оппозицией побуждало его искать поддержки у держав и Порты. Этим объясняется его визит в Константинополь в июне 1864 г., где он находился под защитой французского посольства. В результате переговоров британским послом Х. Бульвером был составлен акт, согласованный с его австрийским коллегой А. фон Прокешем; назывался этот документ «Дополнительный акт к конвенции 1859 г.» и был оглашен послами на конференции 16/28 июня 1864 г. Главным содержанием его было невмешательство внешней силы в дела княжества; Кузе предоставлялись условия и время для реформирования правительства. Российское посольство было полностью отстранено от участия в разработке этого проекта. Куза даже не посетил Е. П. Новикова, и переговоры велись втайне от российских дипломатов. Российскому посольству приходилось получать неполные сведения о ходе дел от британского посла. Принятие данного документа и одобрение держав послужили платформой для дальнейших реформ: в августе 1864 г. было принято аграрное законодательство, в декабре – новый свод законов. В декабре 1864 г. была провозглашена полная независимость Румынской Православной Церкви, не признававшаяся Константинополем до 1886 г.[72] На фоне практически полного разрыва отношений с духовными властями Константинополя несколько театральным выглядит посещение А. Кузой Патриархата и проведения там в мае 1864 г. церемонии руковозложения его Патриархом Софронием (подробно описана в донесении архимандрита Антонина от 9 июня 1864 г.). По всей видимости, в Патриархате надеялись таким образом сдвинуть с мертвой точки вопрос об имуществах.
Неудивительно, что отношения Кузы как с восточными владельцами имений, так и с поддерживавшей их Россией могли после этого только ухудшиться. Особенно оскорбительным для Константинополя было демонстративное изгнание из Румынии в 1865 г. архимандрита Клеовула, который был специально командирован к князю Кузе для переговоров по церковным делам.[73] Не добившись практических результатов, международная комиссия прекратила свою работу, а восточные монастыри и церкви остались без значительной части своих доходов. Дело монастырских имуществ было первым «пробным камнем» для прибывшего в Константинополь в 1864 г. посла Н. П. Игнатьева. Не будучи в состоянии повлиять кардинальным образом на его решение, российское посольство смогло только предотвратить соглашение между державами без участия России, что Игнатьев рассматривал как немалый успех.[74]
Весной и летом 1863 г. Антонин совершил поездку на родину – единственную за свою 35-летнюю службу на православном Востоке. Поэтому обстоятельства патриаршего кризиса в Константинополе и избрания нового Патриарха Софрония III он узнал уже по возвращении из России. Из депеши Е. П. Новикова от 27 августа/8 сентября 1863 г. выясняются обстоятельства предвыборной борьбы. Наибольшей поддержкой со стороны высшего духовенства пользовался бывший Патриарх Анфим, кандидатура которого вызывала у русской дипломатии сомнения. Во время своего первого патриаршества во время Крымской войны он уступил давлению английского посла Стратфорда Редклифа и издал окружное послание, в котором объявлял русский народ отступившим от веры предков.[75] Симпатии посольства были на стороне местоблюстителя, митрополита Рашко-Призренского Мелетия. Выборы состоялись 20 сентября/2 октября 1863 г. Патриархом был избран Амасийский митрополит Софроний. Несмотря на то что новый Патриарх считался креатурой министра иностранных дел и слыл человеком слабым, российское посольство было склонно воспринимать его избрание положительно. «Избрание митрополита Амасийского признается весьма превосходным разрешением опасностей, сопряженных с избранием Патриарха. Этим выбором обязаны счастливому соединению влияния духовных и светских лиц, принадлежавших к консервативной партии, почти тех же самых, которые действовали в пользу нынешнего местоблюстителя; благодаря этому соединению был опровергнут заговор Зарифи, который вел ни к чему другому, как к порабощению Церкви опасной hégémonie финансовой олигархии», – комментировал в своем донесении Е. П. Новиков.[76] Из этого донесения становится ясно, что российское посольство было хорошо осведомлено о тех рычагах, которые служили к возведению и низложению Патриархов. Х. Зарифис в самом деле приобрел к началу 1860-х гг. огромное влияние на дела Церкви не в последнюю очередь из-за поддержки курса реформ, который проводился с османской стороны Аали-пашей.[77] От Порты новый Патриарх получил указание как можно скорее покончить с церковной распрей; в этом же ключе состоялся и его разговор с управляющим российским посольством Е. П. Новиковым.[78] Не находя способов уладить конфликт, в феврале 1864 г. Патриарх созвал новый собор, в котором участвовали бывшие Константинопольские, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский Патриархи, члены Синода, богословы и депутаты от греческих общин. С болгарской стороны участвовали три архиерея и светский представитель, Г. Крыстевич. Болгары вновь настаивали на принятии «8 пунктов» и снова их программа была отвергнута как антиканоническая.[79]
В августе 1864 г. в Константинополь прибыл новый посланник, Н. П. Игнатьев, бывший начальник Азиатского департамента МИДа, хорошо знакомый с болгарским вопросом.[80] Главной задачей Игнатьева было вывести болгарский вопрос из того состояния стагнации, в котором он находился. Для Игнатьева было ясно, что мирным путем распря преодолена быть уже не может, но на первых порах он не исключал возможности добиться урегулирования путем выполнения основных требований болгар под дипломатическим нажимом России. При всем личном сочувствии делу болгар, новый посланник не мог не считаться с интересами Патриархии и был вынужден проводить политику компромисса. К идее образования автономной Болгарской Церкви, чт о соответствовало требованиям крайнего крыла болгар, Игнатьев придет значительно позднее, когда все средства для достижения компромисса будут уже исчерпаны. Первым делом он постарался войти в доверие глав обеих противоборствующих партий. Чтобы повысить свой авторитет в среде болгар, он добился у Порты возвращения в сентябре 1864 г. в Константинополь Илариона Макариупольского и Авксентия Велесского. После переговоров с болгарскими и греческими лидерами Игнатьеву удалось получить согласие умеренных представителей той и другой партии принятия своей программы; что касается великого визиря Али-паши, то он категорически возражал против деления епархий на болгарские и смешанные. Не поддержали Игнатьева и крайние представители греческой и болгарской сторон.
Рассчитывая на поддержку Патриарха Софрония, МИД принял сторону восточных владельцев в споре по монастырским имуществам в Молдавии и Валахии. Однако ощутимых результатов, особенно в среде константинопольских греков, миротворческая политика Игнатьева не принесла. Дело монастырских имуществ было очевидно проиграно, что лишало Патриархию важной статьи ее доходов и делало ее еще более непримиримой в болгарском вопросе. В декабре 1866 г. Игнатьеву удалось добиться смещения неуступчивого Патриарха Софрония. Н. П. Игнатьев высоко ценил дипломатические способности архимандрита Антонина и нашел в его лице деятельного помощника. Подбирая себе молодых и энергичных сотрудников в константинопольское посольство, Игнатьев с подачи Антонина проявлял не меньшую озабоченность относительно состава клира посольской церкви. Во время дискуссий по поводу дел Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Игнатьев, не желая расставаться с Антонином, разрабатывал проект, согласно которому миссия и константинопольская посольская церковь будут управляться одним лицом. Этот план, быть может, и пришелся бы Антонину по вкусу, однако оказался совершенно невыполним. Антонин же, в свою очередь, ратовал за учреждение в Константинополе апокрисиариатства – духовного представительства Русской Церкви в Османской империи, независимого от МИДа. Весьма вероятно, что в качестве главы такого учреждения он видел именно себя.
Понимая малую результативность непосредственных официальных встреч по поводу спорных вопросов, Антонин устанавливал прямые контакты с влиятельными представителями неофанариотских фамилий, от которых, по сути, зависела политика Константинопольского Патриархата. От них же он получал дополнительную информацию о ходе дел в Патриархии. Особенно активными были его переговоры со Стефаном Карафеодори, членом смешанного совета, одним из главных руководителей светской партии. «Виделся с г. Карафеодори и взял на себя отправку его панфекты ко владыкам столиц русских», – писал он 15 ноября 1861 г.[81] Антонин высоко оценивал достоинства С. Карафеодори и считал, что привлечение его на сторону России могло бы способствовать установлению более близких отношений с неофанариотскими кругами. В самом деле, семья Карафеодори была более других расположена в пользу сближения с Россией; позднее сын Стефана, Александр, вместе с сыном Николая Аристархиса, Ставраки, действовали в качестве посредников между посольством, Патриархией и неофанариотами; благодаря их сотрудничеству с Н. П. Игнатьевым состоялось избрание угодного России Патриаха Григория VI в 1867 г.[82] Антонин неоднократно настаивал на награждении Карафеодори русским орденом, однако его предложение не было принято: ведь Карафеодори выступал самым непримиримым противником болгарских требований.
Непосредственные служебные обязанности Антонина в Константинополе, связанные с богослужением, обустройством посольских церквей в Пере и Буюк-Дере и встречами по церковно-политическим вопросам, оставляли много свободного времени для занятий научными исследованиями, написания статей и очерков, археологических экскурсий по городу и его окрестностям. Эти занятия нашли подробное отражение в дневнике Антонина, дополняя тот материал, который предоставляют нам его официальные донесения. Впрочем, и сами депеши о. Антонина касались не только текущих политических дел. Так, 13–14 января 1861 г. он составил для Св. Синода проект преобразования русских духовных академий.[83] После одобрения со стороны Лобанова-Ростовского проект под названием «Несколько мыслей» был отправлен обер-прокурору А. П. Толстому. Антонин рекомендовал в качестве ректоров духовных академий архимандрита Порфирия (Успенского), архимандрита Иоанна (Соколова), А. В. Горского и А. Н. Муравьева. С первых дней своего пребывания в Константинополе Антонин проявил большую заботу о приведении в порядок помещения посольской церкви. В церкви были заменены окна, покровы; кроме того, Антонин оставил для нее часть старинных икон, присылавшихся из России для балканских церквей. К концу 1861 г. у него созрел план постройки отдельного здания русской церкви в Пере (с фасадом на Топханскую улицу); он начертил ее план и с согласия посланника писал митрополиту Петербургскому с просьбой о содействии.[84] Однако повторить то, что ему удалось в Афинах, в Константинополе суждено не было. Проект был отвергнут МИДом. «От князя получил известие, что мечты наши о постройке здесь отдельной церкви признаны министерством за то, что суть на самом деле», – пишет он 19 января 1862 г.[85] Предметом особой заботы Антонина во всех местах его служения было хорошее церковное пение, что он считал важным для поддержания авторитета России среди единоверцев и существенным элементом миссионерства. Состав певчих в Константинополе не мог оставить его равнодушным, что нашло выражение в письме к Игнатьеву от 12 сентября 1864 г. В последующие годы, уже будучи в Иерусалиме, Антонин продолжит обсуждение этого вопроса и адресует послу целый ряд своих соображений.
В настоящем издании впервые публикуются 24 дипломатические донесения архимандрита Антонина из Константинополя за 1861–1864 гг., хранятся в архиве Св. Синода (РГИА). Основная часть их – автографы, некоторые – копии. Почти все донесения представлены полными вариантами текстов. Вместе с ними издаются мнения митрополита Филарета на эти донесения и некоторые другие эпистолярные материалы, также имеющие к ним отношение. Донесения располагаются нами в хронологическом порядке за исключением тех случаев, когда они формируют комплексы по содержанию.
Донесения и письма архимандрита Антонина
1. Письмо архимандрита Антонина А. П. Толстому
16 января 1861 года
Тревожный вопрос болгарский подает некоторую надежду на мирное разрешение. Патриарх Вселенский высказал мысль о возможности независимой болгарской метрополии Тръновской с подведомыми ей епископиями, но учреждение такой же митрополии Охридской для болгар по сю сторону Балканских гор, считают невозможным.{1} Болгары подали от себя просьбу Порте о даровании им:
1. независимого архиепископа,
2. права избирать архиереев народом и
3. права независимого духовного управления в областях своих.
В двух присоединенных к тому пунктах они обещают денежное пособие Патриархии и принятие на себя части ее долга. Порта находит затруднительным церковное отделение болгар от Патриархии. На этом стоит пока дело.
РГИА. Ф. 797. Оп. 27. 2 отд. 2 ст. Д. 426. Ч. III. Л. 163. Выписка.
2. Записка архимандрита Антонина
29 января 1861 года
20 числа текущего месяца я был у Его Святейшества Вселенского Патриарха Иоакима. Желая избыть тягостной необходимости участвовать в прискорбных распрях двух, одна другую обвиняющих сторон, равно нам близких и равно ищущих нашего сочувствия, я уклонялся от общения как с греками, так и с болгарами, не имея никаких относительно сношений с ними наставлений Святейшего Синода, и даже взгляда его не зная на предмет, волнующий здешнюю Церковь. Однако ж, получив стороною намек, что уклончивость моя может быть объясняема греческим духовенством или нерасположением, или страхом, или даже невежеством с моей стороны, я воспользовался предлогом визита своего к секретарю Синода (о. Александру Ласкари), посетившему меня незадолго перед тем, отправился сказанного числа в Патриархию и зашел к Патриарху. Он сидел за бумагами и писал, при нем был один из митрополитов, членов Синода. Извинившись, что беспокою Его Святейшество не вовремя (было часа два пополудни), я объяснил ему случайность своего посещения, и свел все дело на одно желание получить его благословение. На что он с легким упреком заметил, как я мог подумать, что мое посещение может беспокоить его. Я поблагодарил его за ласковое слово и изъявил мое желание осведомиться, в каком положении находится дело об одобрении Великой Церковью греческой службы Святым Отцам Афонским. Патриарх сказал мне, что книжка передана на обсуждение одного греческого иерарха (преосвященного митрополита К. Типальдо{2}, если не ошибаюсь), что в самой службе нет ничего, затрудняющего одобрение ее, но что в Синаксаре ее есть несколько выражений, довольно резких, против предержащей власти, которые в России не имеют, конечно, никакого значения, но здесь могут навлечь на Церковь неприятность. В заключение же Его святейшество просил извинения перед Святейшим Синодом за медлительность его в отношении к означенному делу, прибавивши, что у него как-то скопилось теперь много хлопот.
Я ловил случая привязать к беседе «Болгарский вопрос» и потому не мог упустить столь благоприятной минуты заговорить о нем. Я заметил, что у Его Святейшества есть дела несравненно большей важности. «Да! Вы их знаете», сказал он со вздохом. Я присовокупил, что Святейший Правительствующий Синод Всероссийский без сомнения весьма озабочен исходом болгарского дела, и что я нахожусь в печальной невозможности сообщить ему что-нибудь утешительное. Патриарх сказал мне: «Святейший Синод Российский сам есть иерархическая власть, и он может понимать, что за положение Патриарха, у которого епископы выходят из послушания». «Прискорбные недоразумения», – начал было я. «Обвинения несправедливые! – перебил Патриарх. – Требования беззаконные! Нас выдают за грабителей, справедливо ли это, Вы сейчас увидите. В Терновской епархии, например, есть около 60000 христианских (душ или семейств, не припомню). Годовой доход пиастров положим 160 тысяч, наконец, пусть будет 200 тысяч.[86] Разложите эту сумму на население. Вы увидите, что придется по три пиастра на (душу или дом, не помню, вероятнее последнее). Назовете ли Вы это обременительным? А между тем сколько порицаний на нас за это!» Я поспешил заметить Его Святейшеству, что, по-видимому, не этот пункт есть существенный в жалобах болгар на В[еликую] Церковь. «Знаю, – отвечал живо Патриарх. – Мы преследуем якобы их! Какая бесстыдная клевета! Я 12 лет был иеродиаконом при болгарской церкви в Софии. Я был архиереем в Иоаннине. Видел, могу сказать, все те места, откуда идут на нас жалобы, и могу уверить Вас положительно, что все эти упреки нам в стеснении языка болгарского чистая выдумка. Пусть укажут мне хоть одну церковь, из которой изгнано было славянское богослужение и введено вместо его греческое! Пусть скажут, какое болгарское училище мы закрыли! Не старались ли, напротив, ввести преподавание славянского языка в училищах греческих? Доказательство Вам – Халкинское училище. Там и теперь все обязательно учатся славянскому языку{3}. В училище этом есть и греки, и болгаре. Мы никакого предпочтения не делаем одним перед другими. Но говорят, что архиереев в Болгарию мы посылаем все греков. Неправда. Когда мы находим между болгарами людей способных и достойных, мы их рукополагаем так же, как и греков, без малейшего различия. Но дайте нам таких». При этом слушавший разговор наш митрополит сказал: «Были из них рукоположены двое, но что будете делать: оказались пьяницами». «Оставьте это, – строго перебил его Патриарх. – Это частности. Одни могли не удаться, другие удадутся. Нет, возлюбленный мой архимандрит, это все предлоги, – продолжал он, обращаясь ко мне снова и, видимо, скорбя. – Тут замешалось христоненавистное честолюбие одного человека. Ему хочется быть Патриархом – вот и все!»
Я знал жестокое озлобление Великой Церкви против Преосвященного Илариона{4} и попытался представить его в лучшем свете, сказав, что его, вероятно, заставляет действовать против В[еликой] Церкви народ. «Уловки», – перебил живо Патриарх. Я указал на доброе сердце его, на его глубокое уважение к лицу Патриарха, намекнул, что, если бы болгаре получили от Е[го] С[вятейшест]ва чего желают, Преосвященный Иларион первый того же дня прибег бы к Его Святейшеству лобызать его святую десницу. «Еще бы не пришел! Конечно! – проговорил, улыбаясь, Патриарх. Я продолжал, что он, Патриарх, не имеет в виду быть, – удовольствовался бы титлом архиепископа, даже Епископа… «Даже архимандрита, – живо подсказал моим тоном Патриарх и засмеялся, – лишь бы быть независимым! Но в этом-то и затруднение! Если бы дело шло об этой табакерке, я бы дал ему ее сию минуту. Но независимости я не могу, я не имею права дать ему. На это надобно иметь согласие всей Церкви, – моего Синода, других Патриархов, да даже – самой вашей Церкви. Согласится ли вся Православная Церковь на противоканонический акт отделения Болгарской Церкви? Да и что такое Церковь Болгарская? Где, и как, и что она? Говорят, Терново, но Терново… Вам известно, что?» Мне действительно известно было, что «Терновская» сторона болгарского вопроса слабее «Охридской» и что об этой, а не о той надобно рассуждать с Патриархом, когда дело вызывается им на суд канонический, и потому я поспешил отвесть его от Тернова к Охриде, сказав ему, что болгаре уверяют, что они ничего другого не ищут, кроме канонического восстановления Охридской (и всея Болгарии) архиепископии, противоканонически упраздненной в 1767 г. «Далась им эта Юстинианова Юстиниана! – заметил Патриарх. – Но ведь архиепископии Юстиниановой Церковь не признавала и не утверждала никогда. Вы не найдете ни одного соборного, ни даже патриаршеского акта, которым бы признавалась ее независимость». «Однако же самый акт присоединения ее в 1767 г., – заметил я, – есть уже вместе с тем и акт признания бывшей ее независимости до присоединения». «Но, – возразил Патриарх, – присоединение это было по желанию самой же Болгарии. Вам известны тогдашние обстоятельства».