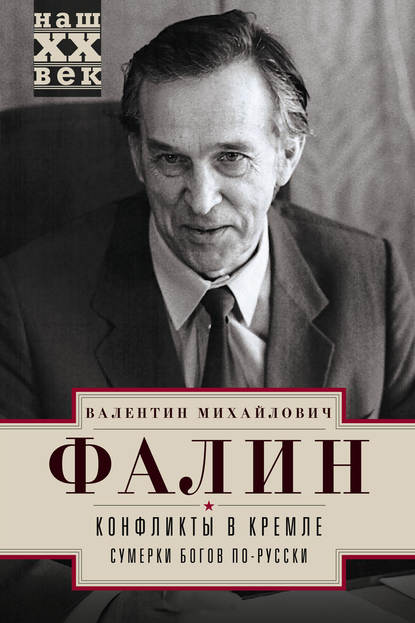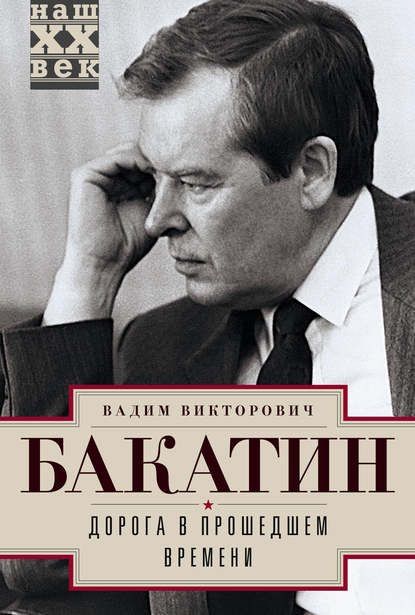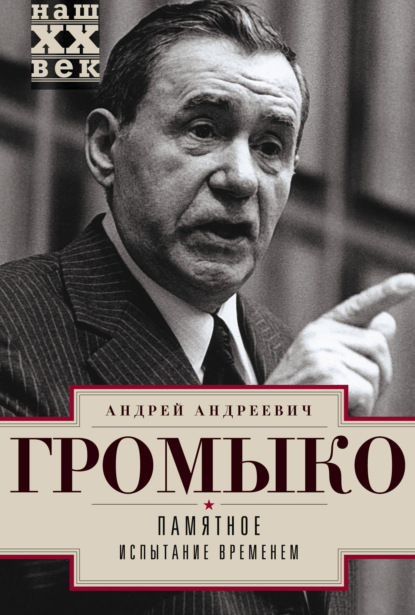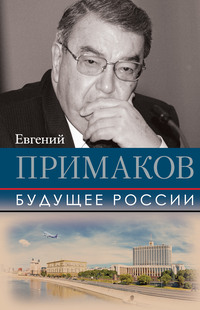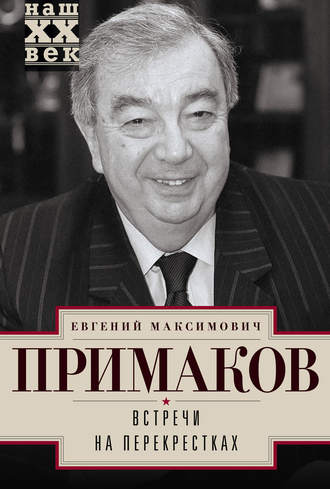
Полная версия
Встречи на перекрестках
После моего выступления многие подходили и пожимали руку. Конечно, оно было далеко не главным в прекращении этой бессмысленной, волюнтаристской и совершенно неподготовленной антиалкогольной кампании, но вскоре ее свернули, а повсеместно созданные антиалкогольные комитеты канули в Лету.
Много шишек набил себе ИМЭМО, доказывая изменившийся характер капитализма. Очень нелегко было вопреки совершенно очевидным вещам, в эпоху научно-технической революции, быстро меняющей облик всего мира, преодолеть сопротивление тех, кто все еще считал, что производственные отношения при капитализме выступают как тормоз развития производительных сил. В штыки встречались догматиками – а они верховодили во всяком случае в соответствующих секторах отделов науки и пропаганды ЦК КПСС – такие бесспорные теоретические положения, выдвигаемые сотрудниками ИМЭМО и некоторых других институтов, как способность производственных отношений меняться в рамках капитализма, приспосабливаясь к требованиям научно-технической революции. Писали, в том числе и я, что этот процесс затрагивает такую политэкономическую «святая святых», как собственность, причем меняются не только ее формы, но и содержание.
Мы показывали, насколько серьезных успехов добился современный капитализм в контролировании инфляции, а подчас и в использовании ее для роста производства, вообще в регулировании на макро– и микроуровнях.
Известно, что Ленин, говоря об историческом месте капитализма, выстраивал следующую цепочку: свободная конкуренция способствует концентрации производства – концентрация в свою очередь приводит к монополии – монополия ограничивает и стесняет свободную конкуренцию. Конечно, и Ленин не считал, что монополии охватывают все, но главное все-таки заключалось в его выводе о том, что монополия является антиподом конкуренции, которая, как известно, выполняет функцию силы, движущей технический прогресс. А как сложилась жизнь, особенно во второй половине XX века?
Во время моего директорства в ИМЭМО мы создали кафедру на экономическом факультете Московского государственного университета, которую на общественных началах я возглавил. На 1 сентября 1996 года в 9 часов утра была назначена моя лекция для студентов третьего курса. Я тщательно к ней готовился, но, несмотря на последовавшие положительные отзывы, не заблуждался – был далек от успеха. В аудитории сидели студенты, не видевшие друг друга несколько месяцев летних каникул, и им было куда интереснее поделиться друг с другом своими впечатлениями. В общем, такого состояния, когда «слышно, как муха пролетит», в аудитории не было. Но все-таки вопросы задавали, и в том числе недоуменные по той части моей лекции, где я сказал: «Требует корректировки понятие монополии, которое так часто трактуется в научной и учебной литературе со ссылкой на Ленина. Во-первых, хотел бы обратить внимание на неустойчивость монополий в капиталистическом мире в современных условиях – возросшая зависимость от рынка поставила даже многие крупные компании на грань банкротства. При высоком научно-техническом уровне современного производства те, кто получает первыми новую технологию, могут ликвидировать монополию, выйдя на рынок с аналогичной продукцией. В таких условиях, приспособляясь к обстановке, преобладающее большинство монополий превращаются в многоотраслевые корпорации. Во-вторых, в капиталистическом мире происходит рост немонополизированного сектора. В 80-х годах на долю этого сектора в капиталистических странах приходилось более 40 процентов валового внутреннего продукта и 60 процентов численности занятых – и не только в наукоемких, но и в «традиционных» отраслях. В-третьих, конкуренция бурно развивается не только на национальном, но и на транснациональном уровне. Таким образом, можно сделать вывод, что концентрация и централизация капитала в новых условиях не вытесняет конкуренцию и не тормозит научно-технического прогресса».
Можно считать, что впервые в ИМЭМО вовсю заговорили об интеграционных процессах, о качественном сдвиге, связанном с созданием транснациональных компаний (ТНК).
Это кажется ныне забавным, но ИМЭМО не без причины считал тогда одним из своих несомненных достижений «идеологический прорыв», который заключался в том, что впервые было заявлено о необратимости и объективном характере экономической интеграции в Западной Европе.
А к каким только выкрутасам не прибегали, чтобы подтвердить «годную для всех времен» правоту Ленина, который «поверг ниц» Каутского, доказывая неизбежность абсолютного обнищания рабочего класса при капитализме!.. Это была далеко не шуточная проблема. Ведь из этого постулата выводилась универсальная неизбежность революции, свергавшей капиталистический строй. Особенно трудно стало догматикам доказывать незыблемость представления об абсолютном обнищании рабочего класса, когда перестал существовать железный занавес и те, кто выезжал за границу – а их становилось немало, – убеждались, насколько улучшалась жизнь, поднимался ее материальный уровень за рубежом.
Для того чтобы отстоять вывод о том, что абсолютное обнищание рабочего имманентно капитализму во все времена, прибегали даже к такому «объяснению»: потребности трудящихся с развитием научно-технического прогресса растут быстрее, чем реальная возможность удовлетворять эти потребности. При этом игнорировался относительный, а не абсолютный характер обнищания даже в такой, тоже не соответствующей действительности, ситуации.
В ИМЭМО открыто дискутировались такие проблемы.
Новому осмыслению начало подвергаться и такое, казалось бы, «железобетонное» положение марксизма-ленинизма, как неизбежность циклических кризисов при капитализме, разрушающих производительные силы и отбрасывающих все общество назад. Этому противопоставлялось в виде несомненного преимущества бескризисное развитие при социализме. Вместе с тем становилось все очевиднее, что, во-первых, циклические кризисы в капиталистических странах теряли свою первоначальную остроту, видоизменялся сам цикл и, во-вторых, именно на время спада производства приходилась наиболее активная фаза его структурной перестройки в пользу наукоемких направлений и его модернизации, что позволяло делать очередной рывок.
Переосмысливалось отношение и к структурным кризисам капитализма. Я выступил с докладом на ученом совете ИМЭМО по энергетическому кризису, разразившемуся в середине 70-х годов. Стремился не только показать неизбежность его развития, но и способность капиталистических стран справиться с кризисом, возникшим после того, как энергетическая составляющая стоимости продукции и услуг взлетела чуть ли не до небес.
На Западе действительно успешно отреагировали на кризис, начиная с экономии энергии, но не в банальном понимании этого, а целенаправленно изготавливая изделия, орудия и средства производства, потребляющие значительно меньше энергии, а также развивая новые «нетрадиционные» источники энергии.
Вместо того чтобы действовать так, как на Западе, адаптируя к новым условиям все свое хозяйственное развитие, мы сделали ставку на то, чтобы получить в этих условиях максимальную выгоду от увеличения экспорта нефти и других энергоносителей, а на вырученные средства закупали, увы, далеко не высокотехнологичное оборудование. К чему это в конце концов привело – хорошо известно.
Но самым главным препятствием, мешавшим реальному представлению об окружавшей нас действительности, было, пожалуй, отрицание конвергенции, то есть взаимовлияния двух систем – социалистической и капиталистической. Защита понятия конвергенции считалась полным отступничеством от марксизма-ленинизма. Впервые Ленин, а затем, в гораздо более отчетливой форме, Сталин утверждали, что, в отличие от всех других исторических формаций, социализм, как таковой, не возникает в недрах предшествовавшего ему капитализма. Материально – заводы, рудники, города, сельскохозяйственные угодья – да, это достается по наследству. Но ни одного элемента, составляющего отношения к производительным силам. Отсюда и «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем (лишь после полного разрушения. – Е. П.) мы наш, мы новый мир построим».
Отрицание конвергенции не укладывалось даже в систему самих марксистско-ленинских идеологических представлений, но это мало кого волновало. Утверждали же, что социализм оказывает влияние на все мировое развитие. Если так, то как можно абстрагироваться от того, что он влияет на капитализм, видоизменяя его хотя бы в определенных пределах? Но от признания этого – один шаг до признания и обратного воздействия. Открытых шагов ни в одном, ни в другом направлении сделано не было.
Но косвенное согласие с тезисом о взаимовлиянии двух систем содержалось во многих экономических работах академических институтов и в меньшей степени – в работах высших учебных заведений. Главный вывод, который отстаивали мы, состоял в тезисе о совместимости социализма с рынком, рыночными отношениями. По этому вопросу ученые ИМЭМО, ЦЭМИ, Института экономики и некоторых других «наглухо» разошлись со многими обществоведами, преподавателями политэкономии[7]. Сама жизнь подталкивала к этому выводу. Здесь сказывалось большое влияние практики, которая демонстрировала ряд преимуществ рыночных отношений.
Что касается влияния социализма на капитализм, то без понимания этого трудно объяснить те изменения, которые произошли в капиталистическом мире, особенно после Великой депрессии 1929–1930 годов.
В этом вопросе я разделяю взгляды Г.Х. Попова, изложенные в его интересной книге «Будет ли у России второе тысячелетие». Я так же, как и он, считаю, что в применении к сегодняшнему дню нет никаких оснований оперировать такими категориями, как социализм и капитализм. В чистом виде их попросту нет.
В работах ИМЭМО исподволь проглядывала эта идея. Были и «живые» примеры, ее подтверждающие. В середине 70-х годов я познакомился с Василием Васильевичем Леонтьевым – одним из крупнейших американских экономистов, получившим всемирное признание за разработку и внедрение в экономическую практику США линейного программирования. Леонтьев в 20-х годах работал в Госплане, в Москве, был направлен в торгпредство в Берлин, стал «невозвращенцем», а затем переселился в Соединенные Штаты, где смело и умно применил некоторые госплановские навыки и идеи.
В 70-х он был гостем ИМЭМО, и Иноземцев пригласил его поужинать к себе домой. Это, правда, не имело никакого отношения к теории конвергенции, но просто интересный эпизод. Незадолго до этого Ник Ник въехал в шикарную квартиру – построили дом для членов политбюро, но те в последний момент не захотели жить все вместе. Этот «нестандартный» дом отдали Академии наук, которая распределила квартиры среди ученых. Василий Васильевич обошел многочисленные «закоулки» – зимний сад, библиотеку, гардеробную, сервировочную комнату, холлы – и, прищурив глаз, спросил: «Николай Николаевич, вот смотрю и думаю, а может, мне и не стоило уезжать?»
Международные отношения: что за кадром
Следовало отходить от догматических представлений и во внешнеполитической и военно-политической областях. Задача эта становилась весьма актуальной, но, приступая к ее решению, мы в ту пору и здесь прикрывались… Лениным. Вспоминаю, как я отыскал цитату, где ранний Ленин говорил, что в ряде случаев интересы всего общества могут стоять выше классовых интересов трудящихся, и переслал ее для использования Иноземцеву в то время, когда он трудился на даче. Цитата нашла свое применение.
«Свежему» прочтению подверглась и Декларация о мире – самый первый внешнеполитический документ Советской России – и, самое главное, ленинские комментарии к ней на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. Подчеркивались слова Ленина о том, что призыв к справедливому демократическому миру был адресован не только народам, но и правительствам, так как, по словам Ленина, игнорирование правительств (империалистических со стороны созданного в России народного правительства) может привести к затягиванию заключения мира. «Важно также отметить, что предложение о справедливом демократическом мире, иными словами, о внедрении в международную практику абсолютно новых принципов, ни в коей мере не означало в понимании советского руководства отказа от всего, что было в системе международных отношений до рождения советской власти в России», – писал я в одной из работ, ссылаясь опять-таки на ленинские слова о необходимости «разумно принимать все пункты, где заключены условия добрососедские и соглашения экономические».
Через такие трактовки протаптывался и обосновывался путь к необходимым внешнеполитическим компромиссам, способным разрядить международную обстановку в условиях холодной войны.
В этой связи прежде всего встала проблема мирного сосуществования социалистической и капиталистической систем. Традиционно оно рассматривалось как «передышка» в отношениях между социализмом и капитализмом на международной арене. С появлением ракетно-ядерного вооружения, способного уничтожить не только две сверхдержавы, но и весь остальной мир, стали относить мирное сосуществование к категории более или менее постоянной. Но при этом не забывали добавлять, что это не означает прекращения противостояния и не притупляет идеологическую борьбу. Такое видение отношений с Западом, умноженное на стремление достаточно сильных и авторитетных кругов в США и некоторых других западных странах расправиться с Советским Союзом[8], порождало перманентную нестабильность, неустойчивость на мировой арене. Создавался замкнутый круг, в котором раскручивалась гонка вооружений.
В конце концов установилось ценой огромных усилий и жертв с нашей стороны необходимое на тот период ядерное равновесие. Но гонка вооружений продолжалась, приближая все более вероятный сценарий уничтожения всего человечества. В это время в ИМЭМО и некоторых других научных центрах, от него отпочковавшихся, – особенно в Институте США и Канады, а затем в Институте Европы, возглавляемом академиком В.В. Журкиным, – началась разработка новых внешнеполитических подходов с целью переломить тенденции, ведущие к термоядерной войне, и одновременно оптимизировать соотношение, с одной стороны, между средствами, выделяемыми в СССР на надежную оборону, и с другой – на рост гражданского производства и развитие социальной сферы. Появился термин «разумная достаточность».
Дело в том, что мы не только вынужденно наращивали свои вооружения, но отвечали США «зеркально». Между тем игнорирование принципа «достаточности» для сдерживания с учетом возможности нанесения «неприемлемого ущерба» для другой стороны стоило нам очень дорого: ВВП СССР был намного меньше американского, а на производство единицы национального дохода мы, по расчетам ИМЭМО, в 70-х годах тратили основных фондов больше почти в два раза, материалов – более чем в полтора раза, энергии – более чем вдвое.
Одновременно в ИМЭМО и ряде других институтов Академии наук серьезно анализировали деятельность Организации Объединенных Наций, которая, по нашему мнению, должна была сыграть самую активную роль в установлении нового миропорядка. Не скажу, что уже в то время мы всерьез задумывались над тем, что в конце 90-х годов США будут искать замену ООН в виде «натоцентристской модели», стремясь таким образом сохранить свою превалирующую роль при отходе от двуполюсного конфронтационного мира. Но уже в те времена, еще до отхода от глобальной конфронтации, мы в ИМЭМО и других институтах международного профиля просматривали варианты преобразований в ООН, которые позволили бы адаптировать эту организацию к реальностям будущего.
Основной фигурой в этих исследованиях был мой друг профессор Григорий Иосифович Морозов. Один из умнейших людей, с которыми я встречался, он прожил сложную жизнь, на которую тяжелым отпечатком легла его женитьба на дочери Сталина Светлане. Брак закончился трагически: Сталин развел этих любивших друг друга людей, отец Морозова был арестован, Григория Иосифовича лишили возможности видеться с сыном, он был вынужден подрабатывать на жизнь, пописывая статьи чужими именами.
Когда Светлана эмигрировала, а затем с дочкой, родившейся в США, вернулась в Москву, Григорий Иосифович сделал все, что мог, чтобы помочь им войти в нашу жизнь, обустроиться. Возможно, Светлана рассчитывала на восстановление прежних отношений, но они стали к тому времени слишком разными людьми. В последние десять лет к Морозову наконец-то семейное счастье повернулось лицом – у него очаровательная, добрая и любящая его жена Оля, которая, будучи врачом, продлевает ему жизнь.
В 70-х и первой половине 80-х годов, когда у нас были лишь эпизодические контакты с США и другими западными странами по правительственной линии – разве сравнить с сегодняшними периодическими встречами на высшем и высоком уровнях, постоянными телефонными разговорами лидеров, заседаниями министров, регулярными обсуждениями на межправительственных комиссиях? – особое значение приобрели дискуссии по самым злободневным внешнеполитическим вопросам, так сказать, на организованно-общественном уровне. Если по линии Советского комитета защиты мира (я был заместителем, а затем первым заместителем его председателя) мы главным образом пытались разъяснять нашу политику, приобрести друзей и единомышленников за рубежом, апеллируя, как правило, к интеллигенции, деятелям науки, культуры, то появились и другие каналы.
Вначале они решали такие же задачи, что и Советский комитет защиты мира. Но постепенно возник другой акцент – зондирующая возможность договориться по животрепещущим проблемам. Сыграли в этом свою роль связи ИМЭМО со Стратегическим центром одного из крупнейших в США научно-исследовательских институтов – Стэнфордского (SRY). Не обходилось без казусов. Так, на нашей встрече в Вашингтоне (другие проходили и в Москве, и в Калифорнии) представители Пентагона чуть ли не зааплодировали профессору (впоследствии он заслуженно был избран действительным членом АН СССР) Револьту Михайловичу Энтову, который «разложил по полочкам» и доказал порочность и абсолютную непригодность методики подсчета советского военного бюджета, предложенную специалистами из Эс-ар-ай. Оказалось, что за эту методику военное ведомство США заплатило институту кругленькую сумму, – как было не порадоваться военным, когда «ученые-шпаки», получив деньги и, наверное, не раз подчеркнув при этом свою значимость, оказались нокаутированными.
Торжествовали свою «маленькую победу» и мы. Сколько сил было потрачено на то, чтобы Энтова выпустили в США, да еще и в первую его поездку за границу! Хорошо, что в КГБ были толковые руководители и во втором главке, например В.К. Бояров, к которому я обратился, и он в конце концов решил вопрос. Помогал нам в этом плане и заместитель начальника Управления КГБ по Москве В.И. Новицкий.
Сопоставление методик подсчетов военных бюджетов подводило к началу сокращения вооружений. Большую роль в этом сыграли два движения – Пагуошское и советско-американские Дартмутские встречи. Первое объединяло ученых различных стран, в основном естественников. Особое место в нем занимали физики, в том числе выдающиеся. Много сил отдали этому движению с нашей стороны академики А.В. Топчиев, М.Д. Миллионщиков, Н.Н. Семенов, М.А. Марков, В.И. Гольданский, В.С. Емельянов. В недрах Пагуошского движения формировались общие идеи о смертельной опасности для всего человечества использования ядерного оружия. Участники движения провели расчеты, осуществили моделирование, доказав, что в случае ядерной войны в мире наступит «ядерная зима» – резкое понижение температуры, при котором нет шансов выжить не только людям, но и всему живому.
Немало сделали участники движения для того, чтобы запретить ядерные испытания в атмосфере, приблизиться к мораторию на испытания ядерного оружия во всех сферах.
Что касается Дартмутских встреч, то они регулярно проводились для того, чтобы обговаривать и сближать подходы двух супердержав по вопросам сокращения вооружений, поисков выхода из различных международных конфликтов, создания условий для экономического сотрудничества. Особую роль в организации таких встреч играли два института – ИМЭМО и ИСКАН с нашей стороны, у американцев – группа политологов, отставных руководящих деятелей из Госдепартамента, Пентагона, администрации, ЦРУ, действующих банкиров, бизнесменов. Долгое время американскую группу возглавлял Дэвид Рокфеллер, с которым у меня сложились теплые отношения. У нас – сначала Н.Н. Иноземцев, а затем Г.А. Арбатов. Активно участвовали в Дартмутских встречах В.В. Журкин, М.А. Мильштейн, Г.И. Морозов. Я вместе с моим партнером Г. Сондерсом – бывшим заместителем госсекретаря США были сопредседателями рабочей группы по конфликтным ситуациям. Нужно сказать, что мы значительно продвинулись в выработке мер нормализации обстановки на Ближнем Востоке. Естественно, что все разработки обе стороны докладывали на самый «верх».
Встречи происходили и у нас, и в Штатах. Появлялась столь необходимая и непросто достигаемая по тем временам человеческая общность. Так, во время проведения встречи в Тбилиси в 1975 году родилась идея пригласить американцев и наших в грузинскую семью. Я предложил пойти на ужин к тете моей жены Лауры Васильевны – Надежде Васильевне Харадзе. Профессор консерватории, в прошлом примадонна Тбилисского оперного театра, она жила, как настоящие грузинские интеллигенты, довольно скромно, поэтому одолжила у соседей сервиз, и в результате весь дом, конечно, знал, что в гости к ней приедет сам Рокфеллер. Кстати, там были и чета Скотт, который, будучи сенатором, выступил с инициативой импичмента президенту Никсону, и бывший представитель США в ООН Чарльз Йост, и главный редактор журнала «Тайм» Дановен. Спросили разрешения у Шеварднадзе, который был первым секретарем ЦК компартии Грузии, – в те времена это был далеко не жест вежливости – и, получив его согласие, двинулись в гости.
Квартира Надежды Васильевны на четвертом этаже, лифта в доме не было, стены подъезда городские власти не успели к нашему приезду побелить и нашли «оригинальный» выход, вывернув электрические лампочки. Мы поднимались во тьме, но подсвет был на каждом этаже – совсем как в итальянских кинокартинах, нас ждала одинаковая сцена: открывались двери каждой квартиры и нас молча рассматривало все ее население – от мала до велика.
Вечер удался. Прекрасный грузинский стол, пели русские, грузинские и американские песни. Д. Рокфеллер отложил вылет своего самолета и ушел вместе со всеми в три часа утра, после того как помог хозяйке вымыть посуду. Позже он мне много раз говорил, что этот вечер запомнился ему надолго, хоть вначале недооценил искренность хозяев и, может быть, считал все очередной «потемкинской деревней». Он подошел к портрету Хемингуэя, висевшему на стене над школьным столиком моего племянника Сандрика, и, отодвинув портрет, убедился, что стена под ним выцвела – значит, не повесили к его приходу.
В Тбилиси Рокфеллер пользовался особой популярностью. Тэд Кеннеди, который одновременно с нашей группой был в столице Грузии, жаловался, что стоило ему появиться на улице, как вокруг кричали: «Привет Рокфеллеру!»
Дэвид Рокфеллер старался много сделать для развития отношений между нашими странами. Этот незаурядный и обаятельный человек пригласил нашу группу, в том числе меня с женой, во время одной из поездок в США в свой родовой дом, непринужденная, теплая обстановка которого способствовала продвижению к договоренности по самым сложным международным вопросам. Кое-что в этом отношении удавалось, так была создана своеобразная «лаборатория» для анализа проблем, часть из которых в дальнейшем нашли решение на официальном уровне.
Большой смысл приобрели встречи (организатор с нашей стороны ИМЭМО) с японским Советом по вопросам безопасности («Ампокен»). В первой половине 70-х годов по предложению бессменного инициатора таких встреч Суэцугу мы с Журкиным были в Токио и договорились о периодичности, составе группы и содержании диалога. Активно помимо Суэцугу в нем участвовали с японской стороны профессора Иноки, Саэки и многие другие, пользовавшиеся большим авторитетом в стране, но, может быть, еще важнее – влиятельнейшие фигуры (как и весь «Ампокен» в целом) в правящей Либерально-демократической партии.
Вначале такие ежегодные круглые столы напоминали скорее разговор глухих. Каждая сторона высказывалась о важности развития отношений между СССР и Японией, но в то же время наши японские коллеги не переставая твердили, что это невозможно без решения вопроса о северных территориях, а мы с не меньшим упорством отвечали, что такой проблемы не существует.
Но постепенно «лед трогался». Сказывалось, несомненно, и уважительное отношение друг к другу. Я, например, никогда не забуду того, как Суэцугу, узнав, что я потерял – это было в 1981 году – сына, всю ночь каллиграфически выводил иероглифы древнеяпонского изречения и подарил мне эту запись, смысл которой заключался в необходимости смиренно переносить все невзгоды, думая о Вечном. Конечно, японская мудрость не могла даже приглушить страшную боль от неожиданной смерти 27-летнего сына, но я высоко оценил и ценю по сегодняшний день этот порыв души японского коллеги.