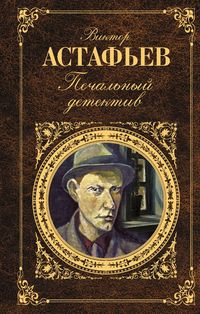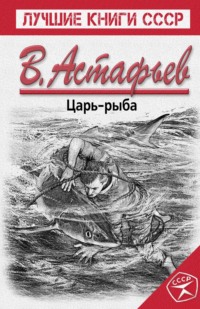Полная версия
О любви (сборник)
– Иди ты! – гаркнул Арсений. – Путаешься тут, лезешь!
Растерянный, мокрый, с грязной тряпкой в руках, он шел на Фису, будто собирался ляпнуть этой тряпкой в лицо. Таким Фиса его еще никогда не видела.
– Я ж помочь хотела.
– Помо-очь! Помогла уж. Уваливай!..
И она ушла, вся как-то разом завянув. Ее и в самом деле легко было обидеть.
Вечером он отыскал ее, хотел попросить прощения, даже слова какие-то заготовил, но Фиса сделала вид, будто ничего и не произошло, и он с облегчением забыл эти слова и вел себя подчеркнуто весело, шутил, смеялся, Фиса тоже смеялась, но глаза у нее были грустные-грустные, и она поспешила в этот вечер рано уйти домой.
Есть такие люди, которые умеют прятать свою грусть, переживают ее в одиночку и оттого кажутся на людях всегда веселыми и беззаботными.
И назавтра она уже была прежней Фисой, безмятежной Фисой – и все-таки что-то уже произошло. Она сделалась чуть сдержанней с Арсением, и это «чуть», не высказанное словами, оказалось той границей, через которую Арсений уже не мог переступить.
Он провожал ее до дому, целовал. Но она не давала ему очень увлечься этим приятным занятием, убегала от него.
Арсений не задерживал Фису и даже чуть упивался собственным благородством. Вот, мол, и мог бы, а не стану, потому что есть у меня сила воли, потому что мужчина я, а не бочонок с квашеной капустой. И характер я выдержу. И вообще, может, все это к лучшему. Жизнь моя впереди. Встретятся еще и девушки, и женщины, и не одна. Пристал к первой попавшейся. Пройдет это, пройдет. Вот уедет она, и все пройдет.
Настал день отъезда.
Машины стояли возле штаба. Сбросаны в них нехитрые пожитки военных девушек, и солдаты, уже не таясь, в открытую прогуливались подле машин со своими «симпатиями», часто заворачивали за угол штаба и, несмотря на близость начальства, целовались там напропалую, целовались до того, что вспухали губы.
Арсений держал Фису за руку и за штаб не уводил. Она перекатывала сапогом обломок кирпича и как никогда пристально всматривалась в лицо Арсения. Он прятал глаза, балагурил, обещал писать ей по два раза в день.
Она молчала.
От этого молчания Арсению сделалось не по себе, и он поспешно сорвал пилотку с головы, покидал в нее яблоки, которыми были набиты его карманы, и, когда она приняла пилотку, рассмеялся:
– Бери да помни!
– Спасибо, – тихо отозвалась Анфиса. – У меня память хоть и девичья, короткая, как говорится, но буду помнить. – Лицо ее немного побледнело, рука была вялая и холодная, маленькие и реденькие конопатинки на носу обозначились резче, и в глубоких дитячьих глазах было недоумение. Она, кажется, не совсем верила, что вот скоро, сейчас, возьмет и уедет, и потому, должно быть, ни с того ни с сего начинала улыбаться шутливым словам Арсения, и тогда скуластенькое лицо ее озарялось сполохом румянца, который тут же пугливо гас.
Она была так мила сейчас, так застенчива, что вся красота, подаренная ей природой, до капельки объявилась и ничего не осталось про запас. Такая красота может держаться, если беречь ее. Очень уж хрупкая, очень уж вешняя она: дунь холодный ветер – и ничего не останется, все облетит, осыплется, завянет.
Арсений примолк, стал отогревать ее руки своими ладонями, и она вдруг попросила:
– Арся, не забывай меня! – и отвернулась. – Не забывай, ну? – И опять принялась катать сапогом кирпичик. – Я знаю, со мной трудно. Ненормальная какая-то. И если бы я… Мы были бы вместе… – И, подняв голову, взглянула на него с тревогой: – Разве я виновата, Арся?
– Нет, Фиса, ты ни в чем не виновата. Ты хорошая девушка…
– Давай не будем об этом!
Кругом суетились люди, что-то говорили друг другу на прощание, шоферы занимали места в кабинах, заигрывая напоследок с девчатами.
– Скоро уж машины пойдут, – проговорила Фиса.
– Кажется, скоро.
– Арся, ты все еще сердишься на меня?
– Я? Откуда ты взяла? Это ты дуешься чего-то.
Но она не обратила внимания на его последние слова:
– Я вижу. Я все вижу. Я знаю, ты не напишешь мне ни одного письма. Да и зачем? Ну встретились. Ну расстались. Говорят, вся жизнь состоит из этого.
– Да, говорят. Знаешь что, давай не будем выяснять отношений сейчас. Не время. Простимся как люди, без фокусов.
– Ладно, Арся, ты иди. Не надо, чтобы ты ждал, когда машины пойдут. Мне нехорошо как-то. Я, наверно, заплачу. А я не хочу, чтобы ты видел, как я заплачу. Мне чего-то жаль, очень жаль…
Они поцеловались. Арся помог забраться Фисе в кузов, чуть задержал ее руку в своей, хотел еще что-то сказать, но махнул рукой: всего, мол, хорошего! – и пошел от машины. Но тут Фиса окликнула его и протянула разрисованный цветными карандашами конвертик:
– Вот… На память…
Он протянул было руку, но Фиса по-мышиному юркнула в кузов, сунула конверт за ворот гимнастерки.
– Нет, Арся, это я так. Я пошутила. Иди уж. – Голос у нее дрогнул. – Все равно уж…
Семнадцать лет спустя Арсений Каурин, преподаватель педагогического института, плыл с группой туристов вниз по Каме на шлюпках до Куйбышевской ГЭС. Настроение было прекрасное оттого, что погода стояла солнечная, и весь отпуск впереди, и ни о чем не надо было заботиться, и хоть на время можно скрыться с глаз ревнивой жены, со скрипом отпустившей его в поход.
В старинном районном селе, где, кажется, церквей было больше, чем домов, туристы остановились и рассыпались кто куда в поисках достопримечательностей, съестного и курева. Арсению было поручено купить соленых огурцов. Загорелый, в войлочной с бахромой шляпе, в рубахе-распашонке, с наляпанными на ней лунами и яблоками, он шлялся по рынку, весело приценивался к товару, шутил с торговками, разморенными духотой и бездельем.
Покупателей на рынке мало, лишь суетились пассажиры с только что причалившего парохода и возле пивного ларька на бочках уютно расположились и потягивали из стеклянных банок бледное пиво колхозные шоферы. Возле них митинговал безногий инвалид:
– Гитлера распатронили? Распатронили! И Чомбе распатроним! Чомбе – тьфу! Мизгирь!..
Тетка с накрашенными губами торговала щавелем, прошлогодним хреном и кудрявистыми таежными ландышами. Ландыши у нее пассажиры раскупали нарасхват, а хрен никто не брал. Тетка обратилась по этому поводу к Арсению:
– Чудной народ! Цветочки берут, а хреном пренебрегають. А хрен – это ж такая закусь, это ж… – Она, как гранату, подняла длинную скобленую хреновину и с пьяненьким вздохом кинула обратно: – Э-эх, сады-садочки, цветы-цветочки, над страной проносится военный ураган! – И тут же с песни переключилась на инвалида: – Митька! Я те дам Чомбу! Крой до дому и организуй цветки! Чтоб одна нога здесь, другая – там! Чего ты около шоферни отираешься? Я сама в состоянии тебе опохмелить!
Арсений улыбнулся и пошел дальше, обмахиваясь мягкой шляпой. Пот лил с него, катился за распахнутый воротник рубахи.
Духота все густела и густела.
Но тучи были еще где-то далеко, и дождь никак не начинался. По рынку бродили пыльные куры с беспомощно открытыми клювами, привычно шуровали лапами шелуху от семечек. У ног торговок, под прилавком, беспечно лежала облепленная репьями коза, полураскрытым глазом наблюдая жизнь.
На Каме сердито взревел пароход, пассажиры заторопились. Арсению на рынке тоже надоело. Он направился к овощному ряду, остановился подле колхозной машины. Парень с папироской в зубах прямо из бочки зачерпывал склизкие, перекислые огурцы тарелкою от весов.
Арсений почувствовал на спине своей пристальный взгляд. Он подумал, что опять глазеют на модную рубаху, но взгляд проникал, кажется, дальше, внутрь, тревожил его. Он настороженно осмотрелся и встретился глазами с женщиной, спустившей от жары полушалок на плечи. По правую руку от нее лежали редьки величиной со стодвадцатимиллиметровые снаряды, поточенные на острие червяками, грудка моркови с кудряшками бледной зелени и стоял ведерный туес с солеными огурцами, из которого свесились стебли укропа.
– Может быть, попробуете моих огурчиков? – тихо, не спуская глаз с Арсения, поинтересовалась женщина. И его что-то совсем уж встревожило и обеспокоило. В глазах женщины, чуть сощуренных, была не то усмешка, не то испуг, в уголках губ задумчивые, горестные складки. Руки женщины в земляных трещинках и под ногтями земля. Руки были мыты, хорошо мыты, но это была та земля, что впитывается в кожу надолго, иногда навечно, – пашенная земля.
– Что ж, можно и ваших, – отозвался Арсений с наигранной веселостью. Так уж почему-то принято разговаривать с торговками.
Женщина усмехнулась, подала ему на кончике ножа коренастый, на диво сохранившийся огурчик и что-то при этом сказала одними губами, какие-то незнакомые слова. Но Арсений не обратил особого внимания на слова, он с хрустом откусил огурца и зажмурился:
– Класс!
– Сколько вам?
– Немного. Вот, – все так же беспечно сунул он модную шляпу. – Сколько сюда войдет, столько и сыпьте.
– Ну, зачем же такую вещь портить? Это ж не яблоки, выпачкают. Для вас готова и газету схлопотать, – напевно, с каким-то скрытым смыслом говорила она, не переставая загадочно улыбаться. Она вылавливала огурцы из туеса. Усмешка, так тревожившая Арсения, разом как-то свяла на губах женщины, и она, уронив деревянный черпак, подалась к нему. – Арся, ты неужели меня не узнаешь?
Арсений оторопел:
– Вас? Простите… Э-э, нет, простите…
– Да я ж Анфиса.
– Какая Анфиса?
– Ну, Фиса.
– Фи-иса!
Теперь уже он пробежал по лицу ее торопливым и цепляющимся взглядом, словно пролистал книгу, и только по глазам, в которых далеко-далеко еще таилось полудетское простодушие, по голубым глазам, как бы уже тронутым ранним инеем, узнал ее.
– Ангелица?!
– Не забыл! – радостно и в то же время горько улыбнулась она. – Она самая.
И тут наступила та самая минута, которая всегда наступает в такие моменты. Надо бы говорить, а говорить-то и не о чем. И вот появились, как обычно, самые неподходящие, самые ненужные слова, и он, потоптавшись, сказал эти слова:
– Ну, как живете-можете?
– А что, Арся, разве по мне не видно? – снова усмехнулась женщина и, помогая ему справиться со смущением, поинтересовалась, глядя на яркую рубашку-распашонку: – Сам-то как? Хотя тоже видно. Здоров, бодр. Отдыхать едешь? Поседел вон только. – Она чуть было не протянула руку, чтобы дотронуться до его волос, но вовремя опомнилась и спрятала руки в рукава телогрейки, будто ей разом сделалось холодно. – Умственная, видать, у тебя работа?
– Да, трудная работа. Преподаю. В институте преподаю. Студенты, они, знаете… – И, стыдясь чего-то, добавил: – Седеть начал рано. Всякое было. Учился после армии, на одной стипендии тянул, трудно было… – И, чувствуя, что разоткровенничался, закончил: – Сами знаете, жизнь нашего брата не баловала.
– Да, не баловала, – подтвердила Анфиса и тут же словно бы встрепенулась. – Ну, все равно в люди выбился. Я знала, ты не пропадешь. А я вот, – у нее опять появилась усмешка, только на этот раз усталая, вымученная, – право, ангелица, сразу и в путы. – Анфиса обернулась, тряхнула за рукав стоявшую за другим прилавком торговку: – Тетка Александра, присмотри за моим товаром, – и предложила Арсению: – Пойдем, Арся, отсюда, провожу тебя маленько. Ты ж провожал меня когда-то… Извини, что я с тобой на «ты» – по старой памяти.
– Ну, что ты, что ты, пожалуйста.
Вышли с рынка. Тетка с накрашенными губами, облокотившись на прилавке, жевала лист щавеля и что-то пробормотала, подмигнув им вслед. Торговки за прилавком громко захохотали.
Далеко-далеко буркнул коротко гром, и сделалось совсем тихо.
– Вот где довелось встретиться, – прервала молчание Анфиса и, глядя на подернутую маревом реку, призналась: – Поначалу я тебя все ждала, все встретиться надеялась. Сюда, на пристань, часто бегала. После во сне только видела, а потом уж и сны стали другими, все стало другое… – Арсений не мог найти слов, чтобы поддержать разговор, и Анфиса задумчиво прибавила: – Время, время. Вот ты уж и седой, а все такой же на слово скупой.
– Да нет, почему же, я тебя слушаю.
– Меня? Что ж меня слушать? Ничего интересного. Как за русской печкой: пыль да лучина, темь да кручина. – И она опять, в который уже раз, искоса поглядела на его рубаху с намалеванными на ней желтыми лунами и красными яблоками по голубому фону. И он вдруг вспомнил луну над садами, тронутое росою яблоко, вынутое Фисой из темноты. Ему сделалось неловко и жаль чего-то. Он подосадовал на себя, на жену. Это она купила рубаху с невзаправдашними лунами и яблоками. Модно! Она и себе и ему покупает все только модное. Все еще молодится. Он знает – молодится для него. И как-то услышал, она призналась подруге, которая позавидовала ей: «Ах, милая, мне все трудней и трудней становится быть молодой!»
«Но зачем все это вспоминать сейчас? И к чему? Теперь уже ничего не изменить. Да и молчание становится неловким. Надо разговаривать, разговаривать, и отстанут эти воспоминания. Неловкость пройдет. Подумаешь – рубаха! Разве в рубахе дело? Она вон в телогрейке, и руки можно бы тщательно помыть, и не обманул же я ее, в конце концов. Ничего такого не было. Ну, обещал писать и не написал, так это ж пустяк, да и как давно это было! Очень давно».
– Ты замужем? – спросил у Фисы Арсений.
– Давно. Полгода после демобилизации подевичилась, и дядя сосватал меня. У меня ведь никого нет, кроме дяди. А сам он ребятами оброс. Куда-то надо было голову приклонить. В возрасте уж девка. Молоко брызжет. Семью надо, детей надо. Бабе бабье мнится. А ты женат?
– Женат. С ребенком взял женщину. Трудно было. Но она ничего… добрая женщина. Тоже в институте работала. Там и сошлись. Дочь нынче в консерваторию поступила.
– А родное дитя есть?
– Есть. Как же.
– Сын, да?
– Сын.
– Как зовут?
– Валерием.
– Валерием? Славно. А моего – Пашкой. А дочь – Нина. Тоже двое у меня.
Снова стало не о чем говорить. Над городом томилась все та же душная тишина, и от каменных плит тротуара, меж которых росли трава и тощие цветки шалфея да пуговки угарной мяты, несло, как от раскаленных печек. Арсению жгло подошвы сквозь кеды, и он обрадовался, когда они сошли на прибрежный песок с засохшими на нем коровьими лепешками.
Река кипела у берегов. Купались ребятишки. А вдали, в густой медовой пелене, бурлил винтом пароход. Он словно бы стоял на месте и растворялся в колеблющемся мареве, делаясь все меньше и призрачней. Перед дождем свирепствовал овод. Детсадовские ребятишки были в волдырях и до шейки закапывались в песок. Воспитательница сидела на обносе изуродованного катера, до палубы вросшего в песок, обмахивалась веткой полыни, безотрывно читая толстую книгу, должно быть, роман про любовь, и время от времени нудно твердила:
– Дети, не забредайте глубоко. Дети, утонете.
– Хорошо это – дети, – как бы найдя повод для продолжения разговора, с облегчением сказал Арсений. – Для них живем. Нам время тлеть, а им – цвести.
– Да-а, им цвести, нам тлеть. Верно. Пушкин, кажется, сочинил? Мудрый был человек! А муж-то у меня, Арся, пьяница. Бьет меня и детей бьет, – глухо проговорила Анфиса и отвернулась. И он опять не знал, что делать: утешать ли ее или не мешать ей молчать.
Впрочем, Анфиса быстро укротила себя, сломала звон в голосе и посмотрела на него сбоку с виноватой улыбкой, с той улыбкой, которая ему запомнилась издавна.
– Ну вот, расчувствовалась. Баба и есть баба. Не обращай внимания, Арся. – И быстро, быстро, сглатывая слова: – Да ничего такого и нет. Ребята зимой учатся в школе, летом на огороде и в поле работают. Я по домашности. Муж – тракторист. Он и ничего бы, только не любила я его никогда. А он это чувствует, вот и лютует пьяный. Кулаками любовь-то добывает. – Скороговорка ее неожиданно сменилась тоскливым возгласом: – Эх, Арся, Арся! Зря я тогда сберегла себя. Зря тебя мучила. Ему ведь все равно, лишь бы баба. Ну, ладно, Арся, наговорила я тебе семь верст… Расстроила, вижу. Вон красными веслами машут. Тебя небось зовут. Прощай, Арся!
– Прощай, Фиса.
– Я в деревне Куликовой живу, недалеко отсюда. Заходи, если случится быть.
– Хорошо, хорошо, – поспешно согласился Арсений, – непременно. Мы иногда бываем в деревнях, картошку копать ездим…
Анфиса, кажется, не слушала его. Она подала ему руку, тряхнула головой:
– Нет, не надо. Пусть уж будет, как было. Пусть останутся воспоминания… – Голос у нее осекся, тень легла на тронутое морщинами лицо. – У меня ведь это лучшее, что было в жизни, Арся. Никому дотронуться не даю. В себе таю. Прощай!
Арсений давнул ее руку и, как тогда, у машины, кивнул: всего, мол, хорошего, – но внезапно вспомнил:
– Послушай, какой ты конверт хотела мне отдать тогда и не отдала?
Анфиса наморщила все еще красивые, сломанные у висков брови и вдруг просветленно улыбнулась:
– А-а, вон чего ты вспомнил?! Клочок волос упаковала. В книжках про это вычитала, и вот… Тогда я еще читала книжки. – Она застенчиво потупилась, махнула рукой, словно бы не прощая себе такого чудачества, и пробормотала: – Слепота я, слепота… – быстро пошла от него, черпая стоптанными сандалиями песок.
Арсений постоял минуту, пытаясь вникнуть в смысл этих вполголоса оброненных слов, и оттого, что не мог понять скрытого в них смысла или не хотел понять, раздраженно пожал плечами:
– Вот так встреча! Бывают же чудеса в жизни!..
Он попытался настроиться на шутливый лад и даже помурлыкал на ходу: «А я сам! А я сам! Я не верю чудесам!» – но тут на него разом навалились стыд, растерянность, зло, и он почувствовал такую усталость, что едва добрался до своей шлюпки и обессиленно опустился на ее борт.
– Где ты шлялся? – напустились на него попутчики.
Он смотрел на них, но слова не доходили до него.
– Почему не принес огурцы?
– Какие огурцы? Ах да, огурцы. Забыл. Оказывается, забыл… – беспомощно развел руками Арсений. Заметил шляпу, нахлобучил ее до бровей и не знал, что делать дальше.
– Вот тебе и раз! А мы водки взяли.
Арсений встрепенулся, услышав об этом, отыскал глазами бутылку, по-солдатски ударил ее о колено. Пробка хлюпнула, взлетела и поплыла по воде. Он налил себе полный стакан и выпил одним духом под веселые возгласы попутчиков – товарищей по институту, которые знали, что пьет он редко и тайком от супруги – побаивается. Но когда он налил себе второй стакан, они зароптали:
– Что ты! Не дури! Захмелеешь ведь с непривычки. А нам плыть, и гроза надвигается.
Но Арсений выпил и второй стакан, чтобы оглушить себя, забыться. Однако хмель не брал его, и забыться никак не удавалось.
И дождь все не шел и не шел, задержался где-то за горами. Хоть бы скорее грянул дождь, крупный, холодный, с громами и молниями, и смыл бы всю эту застоявшуюся, густую духоту.
1961
Руки жены
Он шагал впереди меня по косогору, и ослизлые камни по макушку вдавливались в мох под его сапогами. По всему косогору сочились ключи и ключики, загородившись от солнца шипучей осокой, звонко ломающимися купырями, ветками смородины. Над всей этой мелочью смыкались вершинами, таили чуть слышные, почти цыплячьи голоски ключей черемухи, ивы и ольшаники. В них перепархивали птицы, с мгновенным шорохом уходили в коренья мыши, прятались совы, вытаращив незрячие в дневном свете глаза. Здесь птицы и зверьки жили, плодились, добывали еду, пили из ключей, охотились друг за другом и потому жили постоянно настороже. Петь улетали в другое место, выше, на гору, откуда птицам раньше было видно всходившее и позже закатывающееся солнце. И когда они пели, на них никто не нападал.
Я видел только спину Степана Творогова. Он то исчезал в кустах, то появлялся на чистине. На спине его под вылинялой рубахой напряженно глыбились лопатки, не в меру развитые. Шел Степан, чуть подавшись вперед, и правое плечо его тоже было выдвинуто чуть вперед. Он весь был напружинен, собран, ноги ставил твердо, сразу на всю ступню. Рук у него не было, и он должен был крепко держаться на ногах.
Иногда он все же падал, но падал обязательно на локти или на бок, на это, чуть выдвинутое вперед плечо. Падал легко, без шума и грохота, быстро вскакивал и шел дальше.
Я с трудом поспевал за ним, хватаясь за кусты, за осоку и за все, что попадалось на пути. Об осоку, по-змеиному шипящую под ногами, я порезал руки и про себя ругался, думал, что Степан нарочно выбрал этот проклятый косогор, чтобы доказать мне, как он прытко ходит по тайге.
Один раз он обернулся, спросил участливо:
– Уморились? – И, не дожидаясь ответа, предложил: – Тогда давайте посидим.
Я сел возле ключика, который выклевал себе щелку в косогоре и кружился в маленькой луночке под мохом, а потом ящеркой убегал в густую траву. В ней он отыскал другой ключик, радостно проворковав, бросался к нему с крутобокого камня. В луночке, где рождался ключик, был крупный, добела промытый песок. И чуть шевелился и вместе с песком плавал то вниз головой, то кверху брюшком муравей. Должно быть, луночка казалась ему огромным морем, и он уже смирился с участью и только изредка пошевеливал лапкой, стараясь уцепиться за что-нибудь.
– Охмелел, – улыбнулся Степан. Он взял култышками сучок, сунул его в луночку. Муравей уцепился за сучок, трудно выполз на него, посидел, посидел и рванул в траву, видно, вспомнил про жену и семейство. Степан выкинул сучок и упрятал обрубки рук в колени. Я уже заметил, что, когда он сидит, обязательно прячет култышки с подшитыми рукавами. Лицо его было задумчиво. Морщин на лице немного, но все они какие-то основательные, будто селились они не по прихоти природы и были не просто морщины, а вехи, отмечающие разные, не пустячные события в жизни этого человека. Белесые ресницы, какие часто встречаются у людей северного Урала, были смежены, но сквозь них меня прощупывал внимательный, строгий взгляд.
Я напился из ключа и курил. Степан вроде бы дремал, а может, давал мне возможность отдохнуть на природе. Рядом лежало его ружье, на груди, возле самого подбородка висел патронташ. Патроны он доставал зубами и зубами же вкладывал их в стволы ружья. Курок спускал железным крючком, привязанным ремнями к правой култышке. Он целый год придумывал это приспособление и однажды увидел на двери собственной избы обыкновенный дверной крючок из проволоки. Сено Степан косил, засовывая култышку в железную трубку, приделанную к литовищу вместо ручки, другую культю он просовывал в сыромятную петлю. Это он изобретал около двух лет. Топорище приспособил быстрее – всего за полгода. Длинное топорище, с упором в плечо и с петлей возле обуха. В петлю он вставлял култышку и рубил, тесал, плотничал. Сам избу срубил, сам сено поставил, сам пушнину добывает, сам лыжи сынишке смастерил, сам и флюгер-самолет на крышу дома сладил, чтобы как у соседского парнишки все было. Как-то на Новый год один заезжий железнодорожник полез двумя лапами к его жене – Наде, Степан отлупил его. Сам отлупил. Железнодорожника еле отобрали, и теперь он в гости к Феклину, свояку, больше не приезжает.
Руки Степану оторвало на шахте взрывчаткой. Было ему тогда девятнадцать лет. Нынче нет шахты в поселке – выработались пласты, заглох и опустел поселок. Осталось всего несколько жилых домов: лесника, работников подсобного хозяйства и охотника Степана Творогова – бывшего шахтера.
Обо всем этом я уже расспросил Степана, и все-таки оставалось еще что-то, оставалось такое, без чего я не мог писать в газету, хотя имел строгий наказ привезти очерк о безруком герое, лучшем охотнике Райзаготпушнины.
– Поздно вы приехали, – с добрым сочувствием проговорила Надежда. – Вёснусь надо было. Степа тогда пушнины на три годовые нормы сдал. А сейчас никакого процента мы не даем. Я при доме, Степа тоже до зимнего сезона своими делами занимается.
– У человека наказ, – строго сказал Степан, – есть ли, нет у нас процент – это начальства мало касается. Отдай работу, и все. Обскажите, что и как. Может, он сообразит. – И, помедлив, тоже посочувствовал: – И попало же вам заданье! Ну что о нас писать? Мама, ты покажи фотокарточки всей родни нашей, может, там чего подходящее сыщется…
Я знаю теперь всю родословную Твороговых. Знаю и о том, как тяжко и долго переживала мать грянувшее горе. Степан у нее был единственным сыном, а «сам» без вести пропал в «нонешнюю» войну. И все-таки, все-таки…
– Вы на охоту набивались, чтобы посмотреть, как это я без рук стреляю? – прервал мои размышления Степан.
– Да. Собственно, нет, – смешался я, – просто хотелось пройтись по уральской тайге, посмотреть.
– Посмотреть? – сощурился Степан. Он наклонил голову, откуда-то из-за ворота вынул губами рябчиный манок, привязанный за ниточку, и запищал. В кустах тотчас ему задорно откликнулся петушок и, хлопнув крыльями, поднялся с земли. Глаза Степана оживились, и он подмигнул мне: – Сейчас прилетит! Тут их пропасть, рябков-то…
Степан еще пропищал, и рябчик, сорвавшись с ели, подлетел к нам, сел на гибкую иву, закачался, оглядываясь с задиристым видом, дескать, которые тут подраться звали.