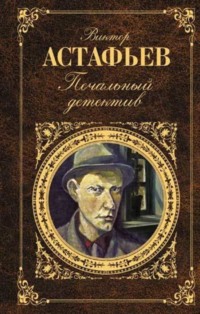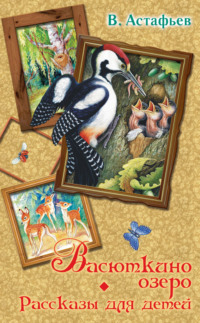Полная версия
О любви
– Идите!
Я удивился: в голосе майора мне почудилась пристыженность.
Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем, закурил, ткнувшись цигаркой в огонек коптилки, и пояснил свои действия хмуро глядевшему майору:
– Шибко я потрясенный. Покурю в тепле, – и курил молча до половины цигарки, а потом вздохнул протяжно: – Жись не в одной вашей Москве протекает, товарищ майор… По всему Эсэсэру она протекает, а он, милый, о-го-го-о-о-о! Гитлер-то вон пер-пер да и мочой кровавой изошел! Оказалась у него задница не по циркулю пространствия наши одолеть! И на агромадной такой территории оч-чень жизнь разнообразная!.. Например, встречаются еще народы – единым мясом или рыбой без соли питающиеся; есть, которые кровь горячую для здоровья пьют, а то и баб воруют по ночам!.. И молятся не Царю Небесному, а дереву, скажем, ведмедю или даже змее…
Майор, часто моргая, глядел на Андрюху Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал.
Плюнул в ладонь Андрюха, затушил цигарку, как человек, понимающий культуру.
– Вам вот внове знать небось, какой обычай остался в нашей деревне? – Андрюха помолчал, улыбнувшись воспоминанию. – Родитель – перетягой или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесешь…
– К-как это? Вина?
– Вина-а! – хмыкнул Андрюха. – Вина само собой. Но главное – плюху! Желательно такую, чтоб родитель с копытов долой! Сразу он тебя зауважает, отделиться позволит… Я вот своротил тяте санки набок и, вишь вот, до шофера самоуком дошел! Кержацкую веру отринул, которая даже воевать запрещает… А я худо-бедно, фронту помогаю… Не в молельню ходил, божецкие стихиры слушать, а в клуб, на беседы. Оч-чень я люблю беседы про технику, про устройство земного шара, а также об окружающих мирах…
– Идите! – устало повторил майор.
Андрюха, баскобайник окаянный, подморгнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю.
Все правильно. Все совершенно верно. Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода. Боец Андрюха! Большого достоинства боец! Не то что я – чуть чего, и залыбился: «Чего изволите?» Тьфу!..
Командир дивизиона попил чая из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту.
– Ишь какой! Откуда что и берется! – буркнул он сам себе под нос. – Снюхался с хохлушкой, часть опозорил! А еще болтает о мирах! Наглец!.. Н-ну, погодите, герои, доберусь я до вас! Наведу я на этом ЧМО порядок!..
Письма Андрюхины майор проверил, или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя, но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо к Галине Артюховне не открыл, поимел совесть, хотя и сказал, насупив подбритые брови и грозя Андрюхе пальцем:
– Чтобы не было у меня больше никаких ля-амурчи-ков!
«Э-э, товарищ майор, – отметил я тогда про себя, – и вас воспитывает война тоже!..»
Андрюха Колупаев с тех пор покладистей стал и молчаливей, ровно бы провинился в чем, и беда какой неряшливый сделался: вонял бензином, брился редко, бороденка осокой кустилась на его щербатом, заметно старящемся лице. Иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось.
Лишь к концу войны Андрюха оживать стал и однажды признался нам в своей тайной думе:
– Эх, ребята! Если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал в хутор один, стал бы на колени перед женщиной одной… Очень это хорошая женщина, ребята! Она бы меня простила и приняла… Да детишков-то куда же денешь?
Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину, ни к ребятишкам своим в Забайкалье… Во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы и от войны, он наехал на противотанковую мину – и машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я – телефонист истребительного артдивизиона Костя Самопряхин.
1971
Тревожный сон
Ружье было засунуто в штанину от ватных спецодежных брюк, а дальше укутано в детскую распашонку, в онучи и разное лоскутье, промасленное насквозь. Когда Суслопаров распеленал из этого барахла ружье и оно растопырилось двумя курками, желтыми от старого густого масла, Фаина как бы издалека спросила:
– Заржавело небось?
Суслопаров хотел сказать – посмотрим, мол, поглядим, и уже взялся обрубком пальца за выдавленный рычажок замка, собираясь открыть ружье, но тут же до него дошло – в голосе, которым спрашивала Фаина, нет сожаления о том, что ружье заржавело и она потерпит убыток. А есть в этом голосе надежда, чуть обозначившая себя, но все же обозначившая, все же прорвавшаяся.
«Ну зачем оно тебе, зачем?» – хотел сказать Суслопаров и не сказал, а только быстро взглянул на Фаину и опустил глаза. Фаина стояла, прислонившись поясницей к устью русской печи, опираясь обеими руками на беленый шесток, готовая в любую минуту забрать ружье и положить его обратно в сундук со звонким замком, ключ от которого, похожий на большую, искусно выпеченную из железа кренделюшку, уже давно и безвозвратно утерян. Во взгляде Фаины, открытом и усталом, были одновременно и смятение, и покорность, и все та же надежда, что все обойдется, все будет как было, и в то же время во взгляде этом, не умеющем быть недобрым, таилось отчуждение и даже враждебность к нему, Суслопарову, который может насовсем унести ружье.
Суслопаров, так и не подняв глаз, давнул на рычажок. Ружье с хрустом открылось. Скорее по привычке, а не для чего-либо, Суслопаров заглянул в стволы, потом ногтем, пощелкивая, прошелся по ним, вдавил в отверстия ладонь и осмотрел синеватые вдавыши на буграх ладони, как печать с мудреными знаками. После всего этого он шумно дохнул на тусклую от масла щеку ружья и вытер ее рукавом. Еще дохнул, еще вытер, и серебристая щека ружья бросила веселого зайца в избу.
Фаина поняла, что это последняя, далеко уже не главная прикидка к вещи, что участь ружья решена, и с нескрываемым сожалением вздохнула:
– Ружье без осечки. Теперь таких уж не делают.
И Суслопаров, лучше, чем она, знающий это ружье и тоже почему-то убежденный, что до войны ружья делали лучше, в тон ей добавил:
– Да, теперь таких нету. Потому и беру, – и, спросив тряпку, как бы окончательно отмел все возможные попытки к сопротивлению с ее стороны.
Фаина почти сердито, издали бросила ему пегую от стирки онучу и опять нахохленно прислонилась к печи, но уже с мотком ниток, натянутых на ухват. Она сматывала шерстяные нитки, то и дело промахиваясь мимо клубка, сматывала, остановившись взглядом в окне.
Суслопаров досуха в каждой щелке и скважинке протирал ружье и всецело отдался этому занятию, едва сдерживая далеко затаившуюся охотничью дрожь. Руки метались по ружью, гладили его, а по избе метался заяц, и раза два он угодил в глаза Фаине. Она досадливо морщилась и взглядывала в сторону Суслопарова. Но тот увлекся, ничего не замечал вокруг. Душа его в эти минуты полна была охотничьими предчувствиями, а голову тревожили воспоминания, и он горевал по-мужицки, обстоятельно и по-русски щемливо, как будто обидел кого или его обидели.
Ружье это они покупали с мужем Фаины, Василием, его другом детства, в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году. Покупали в только что построенном магазине Лысмановского леспромхоза. Василий тогда работал в тарном цехе на круглой пиле и года два как был женат на Фаине, тоже работавшей в тарном цехе и тоже на пиле, только на двухручной – тяни к себе – отдай напарнику.
Василий, как в праздник, надел новое полупальто, только что подшитые валенки, оставляющие на снегу мелкую, как просяное семя, строчку, и вместе с Суслопаровым подался в магазин. Там они с пристрастием и дотошностью выбирали это ружье из десятка таких же замазученных, необмундированных и оттого смертельно чужих двустволок. Наконец, отложили одну. Народу к этой поре у прилавка скопилось уже дивно. Василий, сунув руку под полупальто, глубоко за пазуху, стиснул там деньги и даже малость побледнел: вынуть их, эти деньги, или не вынимать. Но оторвать взгляда от ружья он уже не мог и раздумать был уже не в силах. Заручаясь поддержкой, вытаращил глаза на дружка своего Суслопарова и с натугой выдохнул:
– Ну?!
У Суслопарова не хватило духу ответить сразу. Он оробело разводил руками, с вопросительной улыбкой глядел на людей, на продавца, на Василия. Уж кто-кто, а он-то до глубины понимал важность момента.
Это он вместе с Васькой еще пацаном мастерил деревянные ружья и пулял из них по чему попало, разил зверье, птиц и людей наповал. Стали школьниками, вместе же смастерили поджиг, добрый поджиг – ствол из латунной трубки, ручка – сухая береза, окованная жестью от консервной банки. Ствол туго-натуго набили спичками и еще пороху щепотку натрясли из старой коробки, чтоб уж жахнуло так жахнуло. Пальнуть хотелось каждому. Тянули соскобленные спички.
Васька вытащил обломок. Суслопаров, зажмурившись, ширкнул коробкой по спичке, приложенной к дырке в трубочке, – и тут жахнуло. Так жахнуло, что пистоля вместе с пальцами Суслопарова, зацепив еще половину уха, разлетелась в разные стороны. Остались на правой руке Суслопарова три колышка вместо пальцев и траурная сыпь пороха на щеке. Но это нисколько не подействовало на Суслопарова. Вырос он и стал таскаться с пистонками, должно быть, еще пугачевских времен, разными обрезами, берданками, от которых все чего-нибудь отваливалось. Ружье настоящее он пока еще видел во сне, и потому растерялся даже больше, чем Василий. Но он был в эту минуту всего-навсего сватом – не женихом. А у свата, как известно, ответственность совсем не та, что у жениха, и потому Суслопаров решительно хватил целым кулаком по прилавку так, что заговорили тарелки на весах:
– Берем!
Они несли по поселку ружье гордо, как носят женщины бесценного первенца. Широкое, стесанное клином у бороды, наподобие штыковой лопаты, лицо Василия все сияло, и по нему пробегали разные хорошие чувства – и довольность собою, и отчаянность, и вдруг накатывающий испуг: шутка ли – ведь возврата вещей в казенной торговле нет…
Но испуг гасила закипавшая любовь к этому пока еще необтертому, необстрелянному, еще шибко лаковому, шибко вороному ружью.
– Жена! Отворяй ворота! – закричал на весь барак Василий, и чистенькая, ладненькая Фаина, давно уже проглядевшая окно (на покупку ружья ее как бабу из суеверных соображений не взяли), выскочила в коридор.
– Мамочка моя родная!.. – охнув, прижала она руки к груди. Фаина знала, что ружье принесут. Она вместе с Васей своим копейка по копейке, рубль по рублю откладывала на него, и все же покупка эта казалась ей далекой, почти неосуществимой. А тут на тебе! И во взгляде Фаины, в ее голосе – неподдельный испуг, потому что выросла она в семье небедовой, где никаких ружей, никакой пальбы сроду не бывало, а тут такая гремучая силища поселится в их комнатушке, да еще над кроватью. Вдруг пальнет?! Ружье-то и незаряженное, говорят, раз в году стреляет. Да и Василий очень уж пугать ее любит. Вон и сейчас сияет, доволен, что вбил в испуг. Но опять же он твердит, что без ружья, без охоты жизни не понимает. Она и сама видит, не слепая – недостает чего-то человеку, томится он, а ей мнится, что от недостатков это ее женских каких-то.
Суслопаров с Василием внесли ружье в комнату, терли его подолами и рукавами чистых рубах, дышали на него, опять вытирали, взялись, как дети, курками щелкать. Фаина вздрагивала при каждом щелчке, ожидая, когда пальнет. Мужики же забыли о ней совсем, подолгу глядели в стволы, отыскивая каких-то три теневых кольца, а их оказывалось то два, то вовсе ни одного, спорили, ругались, снова глядели, защурив один глаз. У Фаины шевельнулось ревнивое чувство к ружью. Суслопаров, крупный парень с большой головой, большими руками и маленьким носом, еще не был пока женат и ружья не имел, но держал старшинство. Заметив упавшее настроение Фаины, пробасил важно Василию, готовому теперь по подозрению Фаины не только днем, а и ночью обниматься с ружьем:
– Все! Дело за пристрелкой!
Фаина колдовала у плиты над сковородкою, в которой швырчала картошка. Суслопаров, глядя на окатистую спину Фаины, пока смутно представлял, какие чувства могут происходить с мужчиною, если обнять такую фигуристую бабенку, все же с двусмысленным значением заключил:
– Береги ружье! Оно, как жена, на уход и ласку добром тебе ответит! – сказал и подвинулся к столу.
Мужики выпили маленько и пошли на Лысманиху с ружьем и патронами. Палили там в торцы бревен и в старый таз. Вернулись довольные собой и всем на свете. Еще малоношеная кепка Василия вся была, как терка, в дырьях, и назавтра в цехе Василий всем показывал эту кепку, бахвалился. Мужики одобрительно трясли головами, прищелкивали языками: «кучно», «резко», «дает», «сыплет» и всякие непонятные слова добавляли.
О Фаине Василий как будто совсем забыл, и вдруг возникшее отчуждение мужа повергло Фаину в обиду, готовую привести к слезам. Василий и раньше не очень-то обращал на нее внимание в цеху, на работе, – при людях, в особенности при мужиках. Нежнее, чем Файка, не кликал и вообще по возможности редко встречался там с нею и держался предельно сурово. Но Фаина-то знала, что на самом деле он ручной, ласковый. Дома зовет ее Фаинушкой, а приспичит, так и Фаюшкой, и горошинкой, и синичкой, и такие слова ей говорит, какие под страхом казни в другом месте другому человеку никогда не скажет.
Фаина понимала – так надо. Он – мужик. И в нем гордость такая мужицкая сидит. Но гордость гордостью, а она все же вопрос поставит ребром – жена или ружье!
Порешив так, Фаина, перекрывая звон и визг пил, которым был переполнен маленький цех, еще более тонким и властным голосом позвала Василия обедать. Расстелив на коленях платок, она стала лупить яйцо себе, а он себе, предварительно стукнув яйцом ее по лбу так, что хрустнула скорлупа, но она не улыбнулась шутке.
Съели харчи, выпили из бутылки молоко. Василий спустился к Лысманихе, вымыл бутылку в проруби и, вернувшись, сказал, что через неделю уйдет на три дня в лес, охотиться. И так он это буднично сказал, что с Фаины весь гранит ссыпался и стало ей ясно – возражать бесполезно: в жизнь их вошла перемена. Заранее попыталась Фаина представить, как ей будет одиноко и тревожно без мужа, но представить до конца не могла, потому как никогда еще в разлуке с мужем больше ночи не живала.
Первый раз Фаина провела почти целую неделю без сна и покоя, потому что вместо трех дней Василий пробыл в лесу семь. Она металась по бараку. Она бегала в контору и требовала искать мужиков и поражалась спокойствию и равнодушию людей. Она проклинала Суслопарова, который сманил Василия «на сохатого».
Пропади он пропадом, этот сохатый, вместе с Суслопаровым, это ружье и эта тайга. Вот только явятся (явились бы!), и она сделает Суслопарову от ворот поворот, а потом станет точить мужа и доточит до самого корня. Они возьмут расчет и уедут в город. Из города не больно в тайгу ускачешь! Она, брат, тоже умная!
Но к той поре, как прибыть домой мужу, Фаина так уже исстрадалась и обессилела, что хватило ее лишь на то, чтобы привалиться к дымом пахнущей телогрейке Василия и зарыться в нее носом. Василий был в редкой стальной щетине, диковато-шалый. Зверем пахли руки его, тискавшие и мявшие Фаину. И был он совсем-совсем усталый.
Он что-то начинал рассказывать и тут же перешибал себя, просил баню истопить, пытался поесть, но только выпил семь кружек чаю с сахаром, а сверх того еще стакан браги, с которой вдруг захмелел, ослабел и ничего разумного уже ни сказать, ни сделать не мог.
Назавтра из тайги привезли во вьюках окровенелые мешки, а на закорках Василий приволок голову сохатого с разъемистыми рогами, напоминавшими закостенелые листья цветка – марьиного корня. Голову свалили около плиты на скамейку – чуть оскаленную, с еще недожеванной веткой в зубах, с тихо остывшим глазом цвета речного голыша, по которому рассыпался золотой крупой и осел на дно глазного яблока дрожливый всполох ружейного пламени.
Фаина шарахалась от плиты по совсем уж теперь тесной комнатушке, роняла посуду, табуретки и, что делать с головою, как подступиться к такой горе мяса, не знала. Но Василий сам со всем управился. Мясо сдал в магазин, голову опалил, изрубил на студень, а рога спрятал под кроватью.
И сколько было потом у Фаины этих волнений, этого нетерпеливого ожидания, так и не ставшего спокойной привычкой. Сколько было забот, хлопот, торопливых сборов в охотничью пору. Сколько она услышала от Василия рассказов с перескоками, с захлебом, рассказов, обрывающихся провальным сном. От рассказов о темных ночах, о лосях, о берлогах, о медведях дух захватывало, сон летел прочь. Но без всего этого жизни уже не могло быть, не мыслилась она по-другому.
А вообще-то они разлучались редко. Как-то Василий ездил на три месяца в город на курсы, раза три-четыре на военную комиссию – и все. Он никогда заранее не предупреждал о приезде. Он любил удивлять ее. Любил, чтобы все у них было весело и необычно.
А она, по женской норовистости, все делала вид, что не нравится ей такой семейный уклад, что все у них не как у добрых людей, и, когда муж возвращался домой, она, заслышав его шаги, отворачивалась. Вовсе она и не чует, как он открывает, дверь, как крадется к ней. Сердце вот только млеет да по спине холодок идет. Однажды, так вот подкравшись, он кинул ей на плечи что-то легкое, пушистое, живое будто. Это был платок оренбургский – ее давняя мечта,
И вот уж все, сердиться дальше невозможно, припасенные слова тут же куда-то делись. Слабая баба Фаина. Трогает руками платок, гладит его и целует за обновку расплывшееся до ушей лицо мужа и говорит ему совсем другие слова: «Ну, что мне с тобой делать? Вся кровь моя почернела. Буду я рожать детей припадочных из-за тебя, лешего…»
А он хохочет, и ничему не верит из ее слов, и никакого значения им не придает, только норовит поздороваться, рукою трогает чего не надо. Она хлопает его по руке: «Не балуй!»
А то раз на работе, пробегая по цеху, мимоходом сказал: «Фай! А ты пельмени из рябков ела?» Подозревая розыгрыш или еще какую затею, она неуверенно спросила: «А что?» – «Да ничего, так», – сказал Василий и зевнул при этом. Но она-то знала, чем все это кончится.
В воскресенье Василий до снегу умчался в лес. Пришел поздно вечером, весь в паутине, и закричал: «Фая! Зарублено! Завтра пельмени из рябка делаем!»
Провались в тартарары этот сохатый вместе с Суслопаровым, это ружье и эта тайга. Вот только весь в паутине, и закричит: «Фай! Зарублено! Завтра пельмени из рябков делаем!»
И назавтра покажет, как нужно обрезать мясо с костей рябчиков, с каких именно костей, как разводить мясо молоком, до какой густоты, какие нужно делать маленькие-маленькие пельмешки и в каком пахучем-пахучем бульоне их варить. Покажет, как всегда, раз только, а потом уж пеняй на себя. Он всему учился с маху, все одолевал за раз и сердился, если то же самое люди делали за два раза.
Фаина забеременела и сделалась вовсе похожей на горошинку. Она все чего-то шила и строчила, да скоблила столы, да подбеливала и без того чистенькую печку. Василий затеял дом над Лысманихой, за поселком, у березового колка, где много травы и ветру, речка рядом, чтобы сын, по его замыслу, сразу же хлебнул всего этого и сделался бы охотником. Василий даже имя придумал сыну, легкое имя, перекатывающееся во рту, как камешек-голышок, – Аркашка.
Но родилась Маришка.
Дом к этой поре был наполовину готов, и они сбили в нем печку, переселились весною в кухню, а горницу Василий думал за лето отделать.
В ту весну Василию в тайгу некогда было бегать. Он томился по охоте. Иной раз уж поздно вечером, когда плотничать становилось нельзя, Василий забрасывал за плечо ружье, брал на руки дочку, кликал с собой Фаину, и они шли на берег Лысманихи. Усадив жену на обсохший бугорок, Василий чуть отбегал в сторону, к срезу березовой рощицы, и оттуда голосом давал знать о себе: «Я здесь, Фаюшка, недалече!..»
А ей все равно немножко боязно сначала. Но обсидевшись, пообвыкнув к весенним шорохам и шумам, она переставала с недоверием озираться, опускала руки, притиснувшие дочку. Ее охватывало покоем и умиротворенностью. Маришка спала, не выпуская груди, и через какое-то время начинала быстро-быстро причмокивать. Томительная дневная усталость мягко пеленала Фаину, и она чувствовала, как эта трудовая усталость, этот покой, что пришел из мира в душу ее, вместе с молоком сочатся в дочку, насыщая ее и передавая ей материнскую доброту, трудолюбивость – все, что в ней есть, все ее соки, всю ее душу, всю любовь к этому привычному, но каждую весну обновляющемуся миру, который она и с закрытыми глазами, и даже во тьме ночной может представить себе отчетливо и ясно.
И вот уже видит она верткую, порывистую веснами, а летом, в межень, говорливую, светленькую и утихомиренную, как божья старушка, Лысманиху со студеной водой, которая в чаю крепка, а в бане мягка. Волос от такой воды куделистый делается, и перхоть исчезает, и шелудивость с кожи мигом сходит. А с виду – речка и речка, кто не знает – мимо пройдет; кто ведает – плюнуть в нее не решится.
Вокруг поселка по косогорам и осыпям, в особенности по валу маленькой плотинки, желтая россыпь цветов мать-и-мачехи. Кажется Фаине, что все искры, вылетевшие за зиму из труб поселка, раздуло вешним ветром по земле. Возле ног Фаины по бережку речки клонятся долу, закрываются к вечеру белыми ушками лепестков тонконогие ветреницы, а промеж них синеют, ерошатся хохлатки с кружевными листьями. Хохлатки всегда упруги и холодны, потому что в трубочках синерозовеньких цветков даже днем не высыхает роса. Когда Фаина была маленькая, высасывала росу из хохлаток и медуниц, говорили ей: «Красивая будешь!» И не зря, видно, росой пользовалась – Василий уверяет: «Самая красивая!»
Травою густо и холодно пахнет, а березняком резко, горьковато. Березник весь в сережках и забусел в вершинах, а на стволах трепыхаются, хлопаются белые пленки. Береза старую кожицу меняет на новую. Новая кожица срыжа, и под кожицей этой ходит, бродит сок и будит в ветках листья. И как листья прочикнутся на ветках, сок в дереве остановится. Зелено все станет кругом, тепло будет, дочка начнет ползать по траве… Благодать!
А пока самая сейчас работа у земли, самые хлопоты, самое круженье, самые радостные песни. Под песни и одолеет она все: снег лежалый смоет, лед унесет, мусор травою укроет, грязь высушит. «Большая земля-то, родливая, добрая. Без земли что мы были бы?»
Так сидит над Лысманихой Фаина, укачивая дочку и себя неторопливыми тихими думами. Землю ослаивает легкий туман, низкий, студеный. В пелене его шумит затяжелевшая Лысманиха и, обгоняя медленный туман, мчится во всю мочь до самой Камы. Толкнувшись в большой и мягкий бок большой реки, засыпает тревожный поток.
Туман быстро истаивает, будто выдохнула его земля и снова замерла, чтобы не мешать матери и дочери, вдруг сладко, по-взрослому зевнувшей и открывшей глазишки, видеть и слышать, и жить в самих себе, но в то же время в этом близком и до зябкости ощутимом мире.
Но вот вдали, там, где за березняком запекается и тоже успокаивается красное небо, раздается отрывистое «цвырк», похожее на вскрик вспугнутой трясогузки, и вслед за этим ровно бы поскрипывание грубой кожи. Еще вскрик и еще скрежет кожи. В нем чудится какая-то непонятная, чужая, но зовущая музыка. Но только ухо начинает привыкать к кожаному скрипу, как его снова четко, словно нитку ножницами, отрезает тревожный вскрик.
Фаина видит, как поднимается с пенька и напряженно выпрямляется со вскинутым ружьем Василий. Она тоже напрягается, и дочка начинает беспокойно возиться у груди, потому что все в Фаине цепенеет и даже молоко останавливается. Она, притиснув дочку к себе, не дает ей шевельнуться, пискнуть. Ждет.
Из зари, покрывшейся темно-синей окалиной, из тлеющих вершин березника, как из далеких молчаливых веков, с зовущим криком и хорканьем возникает темная тень птицы, и замерший лес вдруг наполняется трепетным ожиданием. Кажется, облетает его постовой, чтобы проверить, как в нем и что в нем, в этом еще мокром, неприбранном голом лесу. Длинноклювая, неуклюжая с виду птица с неуклюжим названием, которое перевирают во всех русских деревнях, роняет на землю зовущие звуки, как будто отсчитывает последние секунды своей жизни. Фаине хочется закричать Василию, остановить птицу, но она не в силах оторвать от птицы взгляда, как птица не в силах остановить своего, наполненного любовным ожиданием, полета.
«Как все-таки жестоко убивать за любовь!» – думает Фаина, но она уже научилась понимать, что все в жизни жестоко-разумно. Чтобы жить, человек должен косить и рвать красивые цветы, рубить зеленые, ни в чем не повинные деревья, убивать больших, до обидного незлых животных, ловить и стрелять птиц. Кабы человек мог жить только святым духом, он бы с радостью и удовольствием населил землю одними цветами, нюхал бы их и сам, наверное, был бы кратковечен, хил и беззащитен, как цветок, закрывающийся белыми ушками к ночи и не знающий той древней радости, того азарта и внутренней силы, бросающей человека на тяжкие охотничьи дороги, в смертельные опасности, от горести неудач к радости добычи; той добычи, которой обязан своей вечностью человек.