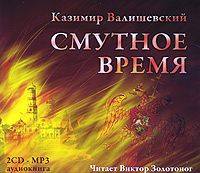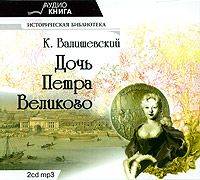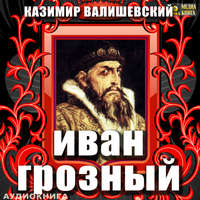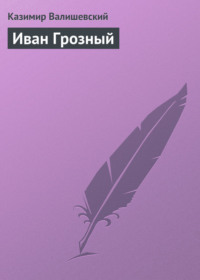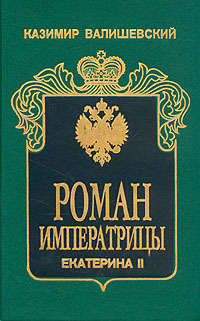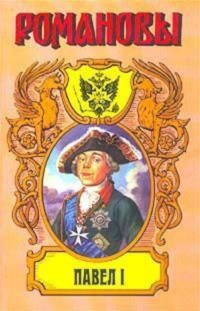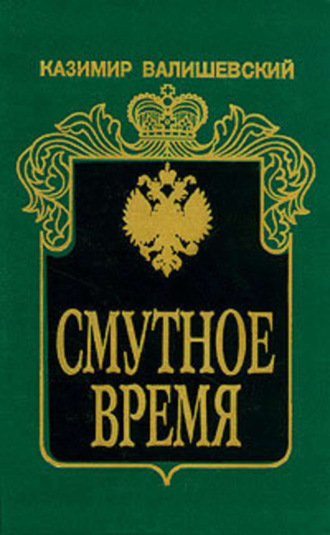 полная версия
полная версияСмутное время
В следующие дни резня продолжалась. Жизнь в Москве сделалась невозможной. В жестокий холод несчастные жители столицы разбрелись по окрестным деревням. По указаниям летописцев, на улицах валялось до 7 000 трупов; впрочем, и на этот раз их надо подозревать в преувеличении. Наконец, в великий четверг Гонсевский принял депутацию из нескольких граждан, которые поручились, что все население снова присягнет Владиславу. Тогда он согласился прекратить избиения. В знак покорности москвитяне, принявшие этот новый договор, должны были носить особый холщовый пояс. Но вскоре, когда распространилась весть, что приближаются 30 000 казаков под предводительством Прозовецкого, уже известного нам московского партизана, теперь сделавшегося помощником Заруцкого, битва и избиения снова начались. Благодаря Струсю натиск Прозовецкого был отражен; но он отступил только к главной армии ополченцев, а в понедельник на Пасхе вся эта армия расположилась лагерем под стенами столицы. Мархоцкий определяет численность ее в 100 000 человек.
6 апреля (стар. ст.) после безуспешных схваток осаждающие внезапно заняли самую большую часть Белого города. Последовали ежедневные стычки, при которых, по указаниям летописцев, особенно отличался Ляпунов, «рычавший, как лев». В начале мая на возвышенности, господствующей над городом, на Поклонной горе, появился и Сапега. Он снова завел переговоры с ополченцами; не сойдясь с ними, он напал на них, был разбит и тогда присоединился к полякам. Но в наполовину разрушенном, наполовину осаждаемом городе помощь эта обратилась лишь в тягость: для выручки гарнизона она была недостаточна и только увеличивала число едоков, которых надо было кормить. Поэтому Гонсевский, приведя в лучшее состояние, в смысле защиты, части города, занятые его войсками, поспешил избавиться от помощника, который мог всячески мешать ему. С усиленными ласками он отослал старосту усвятского к Переяславлю-Залесскому, дав ему несколько своих эскадронов и поручив им обеспечить гарнизону снабжение продовольствием.
Гарнизон, таким образом, умалился до 3 000 поляков. Отражая победоносно все приступы, они ничего лучшего не могли сделать и ждали, что Сигизмунд, наконец, решится помочь им; а осаждающие насмехались над ними: «Да, король пришлет вам подкрепление и провизию: 500 человек и одну кишку». В самом деле, была весть о прибытии отряда королевской армии под предводительством Кишки (kiszka – по-польски колбаса). «Радуйтесь, – кричали они снова, – Конецпольский приближается». И в этой жестокой игре слов (koniec Polski значит «конец Польши») издевались над бессильными попытками другого начальника польского отряда, действовавшего в окрестностях столицы.
Сам Сигизмунд все еще стоял под Смоленском, упорно осаждая город и переговариваясь с В. В. Голицыным и Филаретом. В ночь с 21-го на 22-ое мая новое внезапное нападение отягчило положение осажденных в Москве: у них была отнята часть Белого города, в которой они еще держались; но в то же время королю удалось, со своей стороны, одержать двойную победу.
IV. Последние триумфы ПольшиВ феврале 1611 г. непримиримые члены великого посольства согласились уже, чтобы некоторое число поляков было впущено в Смоленск, жители которого должны были присягнуть Владиславу; но вскоре успехи ополченцев сделали Голицына с товарищами менее сговорчивыми. Сигизмунда убедили, что он ничего не добьется от них убеждением; и вот Голицын и Филарет были приглашены на совещание в королевский лагерь, отделенный Днепром от местопребывания посольства. Там им объявили, что они – пленники и будут отправлены в Вильну. В оправдание этой западни польские историки утверждают, будто Голицын послал письмо Шеину, коменданту Смоленска, подстрекая его к сопротивлению; но Жолкевский об этом ничего не говорит.[410]
Послы были временно заперты вместе с сопровождавшими их москвитянами в жалких избушках, где они печально провели праздник Пасхи, жалуясь на плохое помещение и питание. К пасхальному столу, однако, король прислал им кусок говядины, старого барана, двух ягнят, козу, четырех зайцев, тетерева, четырех молочных поросят, четырех гусей и семь кур. Он извинялся при этом, что не может лучше угостить их, потому что русская земля по отношению к нему самому недостаточно гостеприимна.
Это грубое насилие в связи с тем, что тогда творилось в Москве, очевидно, не могло побудить защитников Смоленска пойти на мировую. И потому, несмотря на скорбут, который страшно опустошал ряды их, гораздо больше, чем неприятельские пули, они менее чем когда-либо думали о сдаче. Но познания немецких инженеров, нанятых на службу Сигизмундом, в конце концов сделали свое дело, и новый приступ, на который решились в первых числах июня, открыл полякам ворота города. Москвитяне приписывали это измене. Таково обычное оправдание побежденных, и впоследствии, в 1634 г., благодаря такому обвинению несчастный Шеин поплатился головою за потерянное сражение с поляками под стенами того же Смоленска. В 1611 году он, кажется, до конца исполнил свой долг. Один перебежчик, правда, указал осаждавшим место, где заложена была мина; но в момент, когда она взорвалась, поляки были уже в крепости, и, по некоторым сообщениям, мину эту, в порыве отчаяния, подожгли сами осажденные. Безусловно верным оказывается то, что начатое таким образом разрушение они распространили потом, поджигая свои дома. Некоторые жители заперлись в соборе; когда поляки проникли туда, взорам их представился архиепископ Сергий, в архиерейском облачении, громко молившийся перед распростертой толпой. Пастырь этот, еще молодой, с ниспадающими на плечи белокурыми волосами, золотистой бородой, навел религиозный ужас на нападающих: им показалось, что пред ними сам Христос, и они пощадили храм. Но пламя добралось уже до архиепископского дворца, где в погребах было скрыто большое количество драгоценностей, принадлежащих жителям, и 160 пудов пороху; произошел новый взрыв, и во власти победителей остались лишь окровавленные развалины.[411]
Сигизмунд объявил о своей победе московским боярам в письме, в котором обвинял в «измене» Голицына и Филарета, приписывая их влиянию продолжительное сопротивление Смоленска и распространение мятежного движения по всей стране. Несмотря на эти преступные злоумышления и на их последствия, Господь сохранил московский трон «для того, кому Он его предназначил», и бояре будут повиноваться воле Господней, если сохранять верность «королю и королевичу». К виновным послам они должны поскорее присоединить выборного, чтобы он побуждал их лучше исполнять свои полномочия, ведь эти «изменники» действовали заодно даже с «вором» в Калуге перед его смертью. Разве только бояре предпочтут избрать другое посольство.[412]
Ответ Мстиславского и ему подобных доказывает, насколько они тогда чувствовали, что их дело теперь неразрывно связано с успехом короля. Они выражают свое сожаление по поводу пролитой под Смоленском христианской крови «из-за непокорности Шеина и других дурных людей» и поздравляют государя с приобретенным им успехом. Сообщая ему вместе с тем о своем бессилии остановить мятежное движение, они предупреждают его о возникших между ополченцами и королем шведским сношениях по вопросу о вступлении на московский престол одного из сыновей этого узурпатора; они отмечают враждебное отношение новгородцев, где сын Михаила Салтыкова, Иван, недавно был подвергнут пытке и посажен на кол; но они выражают надежду, что король уже не станет теперь медлить и поможет «своим верным подданным».[413]
Увы! Сигизмунд остался глух и к этому призыву. Оставив в Смоленске гарнизон, он распустил остаток своей армии, которую он с таким трудом удерживал под оружием, и поспешил вернуться в Варшаву, чтобы там вкусить плоды своей победы. 29 октября 1611 года он устроил себе торжественный «въезд» в стиле римских цезарей. В колеснице, запряженной шестеркой лошадей, участвовали в кортеже бывший царь Шуйский и его два брата; они были затем торжественно представлены королю Жолкевским. Гетман произнес длинную речь, в которой распространялся о мужестве короля, о результатах его победоносного похода и о могуществе московских царей, последний из которых находится теперь перед Его Величеством. В этот момент Василий Иванович покорно склонился, коснулся правой рукой земли и поднес ее затем к губам. Брат его Дмитрий «ударил челом в землю», а второй брат, Иван, с плачем три раза повергнулся ниц. Жолкевский, продолжая свою речь, сказал, что привел Шуйских к королю «не в качестве пленников, а как живой пример превратности человеческой судьбы»; заканчивая свою речь, он испрашивал милости для Шуйских. Несчастные повторили свои унизительные движения и были допущены к целованию руки Триумфатора. Но среди присутствующих раздались возгласы протеста. Некоторые сенаторы требовали мщения за резню 17 мая; воевода сандомирский требовал правосудия для своей дочери.[414]
Эти протесты отразились на участи побежденных. Их отправили в Гостынинский замок, в 45 лье (180 слишком верст) от Варшавы. Русские историки говорят, что у них предварительно отобрали все, что они еще имели, так что невестка бывшего паря, Екатерина Петровна, должна была расстаться даже со своей серебряной коробочкой для белил. Но опись, составленная после смерти пленников, противоречит этому указанию. В описи этой упоминается о большом количестве драгоценных вещей, посуды и драгоценностей, полученных ими, напротив, от щедрот короля или польских вельмож.[415] Замок Гостынинский, в настоящее время обратившийся уже в развалины, по-видимому, никогда не был пышной резиденцией; однако, гости 1611 года не испытывали в нем лишений: на их содержание ежемесячно отпускалось 200 злотых. Им недолго пришлось томиться в плену: Василий Иванович, жена его и брат Дмитрий умерли через несколько месяцев, причем в Москве пытались приписать смерть их насилию или последствиям дурного обращения с ними. Иван, вскоре выпущенный на свободу, поступил в Польше на службу; в 1619 году, при обмене пленников, он возвратился на родину, где жил в безвестности. В 1620 г. останки его братьев и невестки были перевезены в Варшаву и с пышностью погребены в часовне, местонахождение которой все еще служит предметом горячих споров. Достоверно только то, что в 1817 г., по странной игре судьбы, превратности которой Жолкевский как будто предчувствовал, это место, или другое близ него, должно было послужить местом сооружения православной церкви. И ему не суждено было избавиться от этой участи, потому что проект этот, вначале заброшенный, недавно был осуществлен. В 1893 году к гимназии, в которой потомкам победителей 1611 года польская история недавно еще преподавалась на русском языке, пристроен был храм, на византийском куполе которого возвышался крест, отлитый из бронзы пушек, отнятых в 1612 году у польских защитников Кремля.[416]
Надпись, некогда сделанная на усыпальнице несчастной семьи, служила в России предметом неправильных толкований, напрасно придававших ей оскорбительный смысл. Карамзин,[417] однако, с точностью воспроизвел ее, и она делает честь чувствам Сигизмунда, который, как гласит эта надпись, хотел, «чтобы в его царствование даже враги и узурпаторы не были лишены подобающего погребения». Надпись эта исчезла вместе с усыпальницей. В 1635 г., после заключения мира в Поляновке, временно примирившего Польшу с Московией, сын завоевателя Смоленска, Владислав, отослал печальные останки в Москву, где они преданы были окончательному погребению в общей усыпальнице московских государей в Архангельском соборе.[418]
Итальянский художник Долабелла, служивший в это время в Польше, изобразил в двух посредственных картинах взятие Смоленска и унижение Шуйских.[419] Эти картины дольше оставались в Варшаве, но и они впоследствии были тоже переданы Августом II Петру Великому.
В. В. Голицын и Филарет были также подвергнуты, хотя и тяжкому, но немногим более жестокому заключению. После полугодового пребывания в одном из владений Жолкевского, в Камионке, их заключили в великолепный замок Мальборг (Мариенбург) ввиду того, что они оказались очень неподатливыми. В 1619 г. Голицын получил свободу, но умер на пути в Вильне. Филарет возвратился в Москву, чтобы там занять первенствующее место среди устроителей новой судьбы своей родины, уже освобожденной и умиротворенной.
В 1611 г. по всей Европе прогремела слава, выпавшая, казалось, на долю Польши и короля Сигизмунда. В то время как в Варшаве и Кракове происходили народные ликования, празднества и апофеозы, в Риме с блеском торжествовали победу католической цивилизации над московским варварством. 7 августа папа даровал полное отпущение грехов богомольцам в церкви св. Станислава, патрона Польши. В доме иезуитов, находившемся рядом с этой церковью, на Кампидольо, отцы приняли участие в этих торжествах, устроив празднество, во время которого был зажжен фейерверк – аллегория, изображавшая белого орла Польши, превращающего одним прикосновением в пепел черного орла Московии.[420]
Эти торжества, уже сами по себе неприличные при тогдашних обстоятельствах, получили еще более неуместно оскорбительный характер, вследствие сопровождавших их толкований. Хотя Жолкевский придавал своим речам относительно умеренный характер, зато его товарищи в сенате и польском правительстве не проявляли такой же сдержанности. Полковник Винцент Крукевницкий, говоря в Смоленске от имени польской армии, сам коронный вице-канцлер Феликс Крыский в Варшаве говорили о завоевании Московии, как о деле конченном. «Глава государства и все государство, государь и его столица, армия и ее начальники – все в руках короля», заявил Крыский.[421]
Неуместность этого нелепого заявления усугублялась жалкой лживостью его. В это самое время польский гарнизон, окруженный волной мятежа, вел в Москве отчаянную борьбу, которая с каждым днем становилась безнадежнее. Сигизмунд употребил все свои усилия, на которые был способен, а Польша, удовлетворенная достигнутой победой, продолжала упорствовать в отказе средств на продолжение борьбы. Тщетно осенью 1609 года король обращался к сеймикам, раньше так благоприятно расположенным: с небывалым единодушием они на этот раз отклонили всякое свое участие в предприятии, так блестяще начатом. В этот промежуток времени отсутствием короля воспользовались участники недавнего rokosz'a, Гербурт и Стадницкий «Дьявол»; они снова принялись ковать козни в стране, войдя в сношения с Гавриилом Баторием, племянником знаменитого Стефана, подбивая его требовать себе наследие дяди; и шляхта, хотя и не действовала заодно с этими агитаторами, под их влиянием проявляла свою склонность перечить правительству.
Уже надвигались сумерки над этими богами liberum veto, и их ближайшие потомки принуждены будут из года в год ожидать возвращения сомнительного рассвета, повторяя из рода в род печальную местную поговорку: «Пока солнце взойдет, роса очи выест».
Смоленск на время оставался владением Польши; но, овладев городом приступом и придав истинному положению дел и этому успеху характер, наиболее противоречивший чувствам, которыми они должны были бы вдохновляться, король и поляки повернулись спиной к цели, которой не должны были выпускать из виду. Сигизмунд сильно повредил своим московским «верноподданным», и вся Польша давала в руки сторонников ополчения грозное оружие. Если, несмотря на свое отчаянное положение, Гонсевский и его товарищи еще целый год вели эту героическую, но совсем бесполезную борьбу, это надо приписать тому, что военные качества их противников не соответствовали числу и мужеству бойцов, а особенно и тому, что эти беспорядочные отряды, как мы знаем, с политической точки зрения, по самому составу своему оказались непригодными для исполнения взятой ими на себя задачи.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Движение против смуты
I. Несостоятельность национализмаНикакой триумвират не может обойтись без цезаря. Этого положения добивался Заруцкий, личность энергичная; большинство ополченцев было в числе его сторонников. Он очень гордился приобретенным в Тушине боярством. Рассчитывая воевать и править по-казацки, он перебивал на деле у Ляпунова командование войсками и не покидал мысли укрепить престол за сыном Марины, который жил с матерью в Коломне. Рязанский воевода охотнее подумывал о кандидатуре шведского королевича и предпочитал даже Владислава «воренку», как в его кругу величали маленького Ивана. Он пытался одерживать верх своим авторитетом. На соборе казаки не имели большинства; один из их отрядов состоял под начальством кн. Трубецкого, и большинство начальников было из высшего и мелкопоместного дворянства. 30-го июня 1611 года это собрание приняло ряд постановлений, входивших в состав целого плана административных, законодательных и политических преобразований, которые очень чувствительно отзывались на элементах населения, представителем которых был Заруцкий. Вопреки его желанию, сначала покончили с политическим наследием второго Лжедмитрия и Сигизмунда. Как известно, в Тушине, в Калуге и под Смоленском претендент и польский король за счет Московии соперничали в щедрости, награждая чинами и пожалованиями всякого рода. Не объявляя их недействительными, служилые люди, заправлявшие собором, намеревались применить к ним установленную обычаем мерку; другими словами, подобно тому, как сами московские государи часто проводили систему подравнивания, и они желали низвести преимущества чересчур щедро награжденных к более приличному уровню. Эта мера лично задевала Заруцкого, получившего огромные поместья. В то же время намечались особые правила относительно всего казачества. Установлено было различие между старыми участниками войн, веденных более или менее сообща приблизительно с 1606 года, и новобранцами; первые за деньги или, по желанию, за земельный надел должны вступить в сословие служилых людей; вторые, казаки по ремеслу в тесном смысле, и крестьяне, вступившие под казачьи знамена, возвращались в прежнее положение – одни в свои степи, другие на пашню или в холопы. А это означало, что национальное движение, развившееся, поддержанное и донесенное до Москвы обдуманным содействием народного элемента, теперь отрекалось от освободительного, революционного начала, которое одно только и обеспечивало содействие народа. Ведь для всей этой голытьбы, которую оно соблазнило и увлекло в ряды ополченцев, слово «казачина» означало: свобода и дележ поровну всех благ, которые предстояло завоевать, – богатства и власти. Второй раз этой попыткой восстановить порядок в пользу исключительно аристократических привилегий революция отрекалась от присущего ей принципа, а на долю других классов уделяла лишь то, что среди них создавала новую категорию привилегированных.
Для исполнения задуманной программы, так как гражданская и военная власть сосредоточивались в руках триумвирата, учреждались приказы по обычному порядку, и вот второй раз, не имея возможности овладеть столицей, стан ополченцев готовился перехватить у нее власть.[422]
Заруцкий подписал протокол постановлений, вернее, не умея писать, предоставил Ляпунову расписаться за себя. Возлюбленный Марины наверное рассчитывал, что эти постановления останутся мертвой буквой, как это и оправдалось на деле. Затевать закономерные государственные преобразования среди такой разрухи и при подобном составе лиц было безумной дерзостью. Первыми нарушителями новых правил оказались даже не казаки. Случилось так, что некоторые из них захвачены были на месте преступления при грабеже; М. Плещеев, один из членов собора, не считаясь с только что установленными судебными порядками, распорядился утопить виновных без всякого суда и следствия. Вспыхнул бунт; в этом превышении власти обвинили самого Ляпунова; он пытался скрыться в Рязань, но казаки вернули его в лагерь, и с той поры он сделался их пленником. Через насколько недель настал его черед стать жертвой огульной расправы.
Свидетельства опять говорят различно об этом прискорбном событии. Некоторые польские и московские известия возводят вину за это дело на «боярина» Гонсевского; чтобы избавиться от самого опасного из противников, Гонсевский будто бы решился на довольно-таки гнусную проделку: подделал руку и распространил за подписью Ляпунова окружную грамоту сторонникам ополчения, должностным лицам в областях, чтобы они поступали с казаками подобно тому, как только что поступил Плещеев. В настоящее время преобладает мнение, что документ этот был подлинный, содержавший только наказы согласно недавно выработанным собором постановлениям, но его превратно истолковали. Казаки не соглашались на них; они потребовали Ляпунова в свой круг, и триумвир был изрублен в куски. Заруцкий не присутствовал при этом, но общий голос называл его подстрекателем к убийству; а Трубецкой не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить его.[423]
На другой день после этой катастрофы, происшедшей 22 июля 1611 г.,[424] не осталось и следа от только что учрежденного правительства. Его сменило другое, где господами были казаки.
II. Правление казаковЗаруцкий поспешил показать, что движение ничего не потеряло от гибели Ляпунова. Двести поляков с несколькими верными им казаками еще занимали Девичий монастырь. Оставшийся победителем соперник рязанского воеводы велел идти на приступ, и маленький отряд сдался на капитуляцию; однако, многие потом были перебиты. Монахини тоже должны были покинуть монастырь. Большинство из них сначала изнасиловали, отобрали у них всю одежду, а потом их отослали во Владимир. Принятые в эту общину бывшая королева Ливонии и несчастная Ксения разделили общую участь.[425]
Положив таким путем начало новому порядку, думали поддержать созданную Ляпуновым организацию управления, но превратить ее в орудие вымогательства в пользу новых хозяев. «Земские люди», т. е. не принадлежавшие к казачеству, жаловались, что не получают ни жалованья, ни съестных припасов. Многие решились разойтись по домам, где их присутствие становилось необходимым: не довольствуясь сбором исключительно в свою пользу всевозможных налогов, казаки всю их совокупность считали только частью своих доходов и творили при этом гнуснейшие насилия. Разбой стал законом для подчинившейся их расправе страны.
В это же время в Новгороде политика Ляпунова достигла уже после смерти его успеха, но в таком смысле, какого он несомненно не желал. Воеводы, поставленные им в городе после смерти Ивана Салтыкова, были уполномочены вести переговоры с Карлом Шведским о кандидатуре на московский престол его сына Карла-Филиппа и присылке отряда вспомогательных войск. Но переговоры затянулись. Шведы возобновили под Новгородом ту же игру, какую разыгрывал под Смоленском Сигизмунд, и думали только о захвате крепости. При соучастии одного из воевод, Василия Ивановича Бутурлина, и при помощи пленного крестьянина Ивана Шваля, 15-го июля 1611 года Делагарди ночью овладел одними плохо охраняемыми воротами. Бутурлин бежал, не думая о сопротивлении, а казаки его последовали за ним, успев однако разгромить множество домов и лавок, – «чтобы не оставлять неприятелю слишком богатой добычи», говорили они. Один только атаман, Тимофей Шаров, выступил во главе нескольких стрельцов и был убит. Незадолго перед этим поссорившиеся из-за религиозных несогласий: протопоп собора св. Софии Аммос и митрополит Исидор помирились на глазах неприятеля; приняв благословение владыки, скромный священник точно так же сопротивлялся до смерти в своем доме, подожженном шведами. Исидор со вторым воеводой, кн. Иваном Никитичем Одоевским старшим, вступили тогда в переговоры с победителями, и все жители Новгорода присягнули шведскому королевичу, даже не выговорив, чтобы он принял православие, и, согласившись на добрую волю короля, кого из сыновей отпустит он в Москву на царство – старшего, Карла-Филиппа, или младшего, Густава-Адольфа. Договор с «государством Новгородским» признавался действительным, даже если «государства Владимирское и Московское не признают его».[426] Это значило, что, возвращаясь к преданиям о своей былой республиканской свободе, покоренный город как бы отделял свою судьбу от судьбы московской Руси. Но уже не в восстановлении республики заключалось дело! В действительности Новгород подчинялся господству шведов; в этом краю правление казаков привело к расчленению отечества.
В это время под грозой шведов и поляков, терзаемый вместе с тем бушующими партиями, Псков едва не достался третьему грабителю. Московский дьякон Матвей, у летописцев обыкновенно именуемый Сидоркою, незадолго до того появился в Новгороде и пытался объявить себя Дмитрием. Узнанный на рынке, он скрылся в Ивангороде, где население провозгласило его царем 23 марта 1611 г. Трехдневным звоном колоколов и пушечной пальбой праздновали народную радость, и тотчас все казаки ближних мест сбежались на призыв, так что и новый претендент оказался обладателем собственной армии. Вскоре и он, со своей стороны, мог вступить в переговоры со шведским королем, который одно время склонялся к признанию царем этого явного самозванца, чтобы предложить ему союз против Польши в обмен на часть русской территории.[427] Смерть короля-перевертня разом прекратила эти переговоры, и Сидорка двинулся к Пскову. Он держал город в осаде с 8-го июля по 23-е августа, ведя переговоры с жителями, которые собирались было открыть ему ворота, когда приближение шведов обратило в бегство казаков. Но этих новых врагов встретили гораздо хуже; скоро отступили и они, и Сидорка мог возобновить свои попытки с б(льшим успехом.