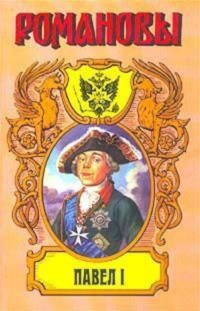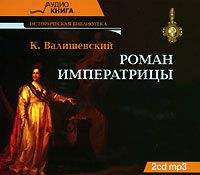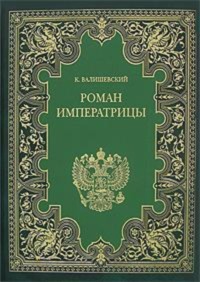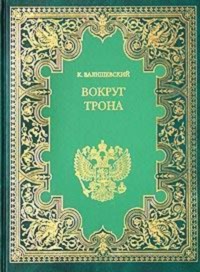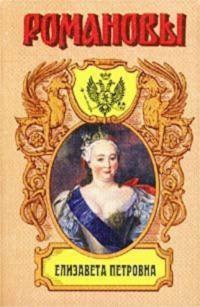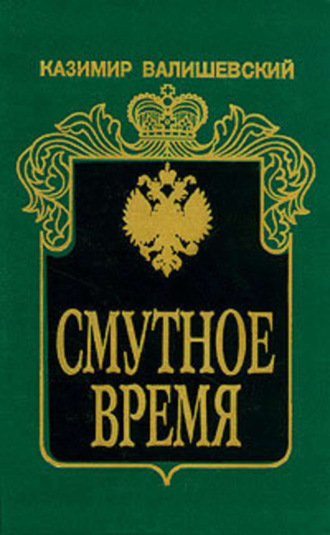 полная версия
полная версияПолная версия
Смутное время
– Молчать! б….. дети!
Крики тотчас же разразились еще громче; сабли выскочили из ножен; «царю» пришлось обратиться вспять, а вернувшись к себе, он оказался пленником: Рожинский приказал оцепить его дом. С отчаяния самозванец, говорят, хотел покончить с собой истинно-московским способом – проглотивши огромное количество водки. Но его крепкое сложение выдержало это испытание, и он покорился своей участи.[292]
Теперь были уверены в победоносном походе на Москву, потому что Рожинский оказался на высоте принятой на себя задачи. Но в то же время совершилась глубокая перемена в самом движении, которое толкало вперед претендента и даже вызвало его возникновение. Армия мятежников против Шуйского, чисто московская по происхождение и демократическая по характеру, превращалась в военное предприятие польской аристократии, которая стремилась заменить «боярского царя» питомцем нескольких чужеземных дворян.
Новая окраска революционного кризиса не замедлила, однако, подвергнуться новым видоизменениям. Московский океан был слишком громаден, чтобы польская струя, растворившись в нем, сохранила надолго свою напряженность. Постоянный прилив новых сил скоро подорвал военную диктатуру шляхтичей, а Рожинский встретил личного соперника в лице атамана запорожских казаков. Уже достигший известности, этот воин – Иван Заруцкий – был тоже польского происхождения. Родившись в окрестностях Тарнополя (в нынешней Галиции), он еще ребенком был захвачен татарами и после разных приключений сумел занять своеобразное положение среди казацких начальников. Храбрейший из храбрых, наделенный редкой энергией и такой красотой, что она впоследствии пленила Марину, он соединял очень развитое понимание военного дела с величавостью и внушительностью обращения, которыми ярко выделялся из своей среды.
Удивительное смешение, возникавшее из взаимодействия столь разнородных элементов, еще на время усложнилось появлением другого царевича в стане мятежников. Его привезли с собой донские казаки, подобрав неизвестно где и выдавая за племянника Дмитрия, Феодора Феодоровича. Царевичи роились теперь повсюду: в Астрахани некий Иван называл себя сыном Грозного, и некий Август ссылался на происхождение от какой-то другой царственной особы; Лаврентий именовался сыном несчастного Ивана, убитого Грозным; далее в степи с полдюжины Ерошек и Мартынок носили несуразные имена, заимствованные из казацкого словаря. Второй Дмитрий выказал себя не так сговорчивым, как был первый, и без всякого расследования велел убить неудобного родственника. Без сомнения, он так же охотно отделался бы от некоторых польских сообщников, но не смел об этом думать: Рожинский с талантом и энергией исполнял роль главнокомандующего, Лисовский во главе казаков-москвитян и Заруцкий во главе польских казаков пользовались свободой действий, часто близкой к безначалию. Что касается царя, с ним не считались. Он был здесь только для того, чтобы дать свое имя пьесе, которая разыграется в пользу других исполнителей, как надеялись его польские приверженцы.
Наличный состав армии самозванца поддается только крайне приблизительному подсчету. Будзило в своем подробном перечислении польских полков[293] доводит общий итог до 8 126 чел.; что касается гусар, то цифру в 1 820 лошадей следует по крайней мере удвоить, так как каждая пика в этом роде оружия приходилась на двух или трех всадников. Рядом с мастодонтами польской кавалерии казаки, несмотря на свой пестрый живописный костюм и вооружение, широкие красные шаровары, длинные черные куртки (киреи) и высокие бараньи шапки, длинные копья, кривые сабли и мушкеты или самострелы, метавшие убийственные стрелы, представляли довольно жалкий вид; определяя их число в тридцать тысяч, русские историки, наверное, недалеки от истины.[294]
Во всяком случае, Шуйскому приходилось считаться с грозной силой; а между тем, когда эта армия, сосредоточившись между Орлом и Кромами, готовилась к наступлению, Василий Иванович все еще упражнялся в опытах морального воздействия, хотя их первые результаты были далеко не утешительного свойства. Напротив, смущение и беспокойство усиливалось среди населения столицы. Устрашающие видения к тому же волновали умы. Под сводами Успенского собора сам Христос явился попу и объявил ему, что страшная кара падет на его отечество, ибо грехи его давно вопиют ко гневу небесному. Шуйский принял угрозу на свой счет и широко распространил известие о событии; духовные власти со своей стороны установили пятидневный пост и общее покаяние; но это не помешало мятежникам закончить свои приготовления.
Весной 1608 г. их армия выступила в поход по направлению к Волхову, крепости, прикрывавшей дороги из Польши к Туле. Войско Василия Ивановича под начальством братьев царя, Дмитрия и Ивана Шуйских, и князя Василия Голицына, пыталось остановить нашествие, встретилось с авангардом, состоявшим главным образом из поляков, и после двухдневной битвы, 30-го апреля и 1-го мая, подверглось полному разгрому. Пять тысяч москвитян сложили оружие, согласившись целовать крест Дмитрию; по словам Буссова, разгром был бы еще значительнее, если бы Ламбсдорф, начальник немецких наемников на службе Шуйского, обещавший перейти на сторону претендента, не забыл обещания под влиянием выпивки. Он и его товарищи, сражаясь как львы, прикрыли отступление. Претендент ускорил движение к Можайску; он повсюду сыпал обещания, чтобы задержать поляков или привлечь под свои знамена московских крестьян: одним говорилось, что они будут вместе с ним царствовать в Москве; другим, что все земли и все дочери сторонников Шуйского перейдут в их распоряжение, – и армия не встречала сопротивления.
Относительно верности поляков явилось сомнение: у Звенигорода их встретил посланник Сигизмунда с приказанием немедленно возвратиться на родину. Это понятно: послы короля жили в Москве и готовились подписать договор. Более искусный в дипломатии, чем на поле брани, Василий Иванович сумел заключить с ними удовлетворительную сделку. Еще в июне 1606 г., пока Гонсевский и Олесницкий сидели в заключении близ Кремля, московское посольство с кн. Григорием Волконским во главе и дьяком Андреем Ивановым отправилось в Краков и там после первого дурного приема добилось-таки назначения в Москву двух новых послов, Станислава Витовского и кн. Друцкого-Соколинского. Озабоченный новыми внутренними неурядицами, Сигизмунд стал сговорчивее. По примеру Зебржидовского, некоторые подданные короля соблазнялись в это время завязать сношения с новым претендентом, намереваясь предложить ему корону Польши. Вице-канцлер польский Феликс Крыйский и канцлер литовский Лев Сапега впоследствии форменно ставили в вину этот преступный план всем сторонникам второго Дмитрия.[295] Хотя это обвинение из лагеря политических противников нуждается в доказательствах, поведение Сигизмунда как бы оправдывает его. Нельзя не заметить, что в начале нового кризиса король весьма явно обнаруживает склонность к действию сообща с «боярским царем».
25-го июля 1608 г. оба государства заключили мирный договор[296] на три года и одиннадцать месяцев: в границах территорий сохранялся status quo; Шуйский обязался отослать в Польшу сандомирского воеводу с дочерью и со всеми товарищами по изгнанию; Сигизмунд обещал отозвать всех своих подданных, принявших сторону второго Дмитрия. Но Рожинский с товарищами и теперь, как и прежде, отказывались считаться с договором; все красноречие представителя короля, Петра Борзиковского, пропало даром; и претендент мог продолжать свой победоносный поход.
К югу от Оки самостоятельно действовал Лисовский с целью возбудить движение среди населения Рязанской области; в то время как он разбил кн. Хованского, завладел на время Коломной и добрался до села Тушина, почти у ворот столицы, второй Дмитрий достиг Калуги. Шуйский вынужден был вернуть назад высланное ему навстречу войско: среди него открылся заговор. Знатнейшие бояре – кн. Иван Катырев, Юрий Трубецкой и Иван Троекуров – оказались замешанными в нем. Происшествия не могли скрыть, и оно произвело опасную тревогу в настроении московского населения. «Бояре, ведь, знали, что делают!» – шептали здесь друг другу на ухо. Вокруг имени претендента зарождалась новая легенда. Истинный или ложный Дмитрий, но он провидец, говорили про него; смотря людям в глаза, он узнавал, кто из них действовал против него. Среди толпы, обсуждавшей эти россказни и трепетавшей при одном воспоминании о кровавых событиях при перевороте 17-го мая, какой-то человек упал с криком на мостовую.
– Горе мне! Вот этим ножом я зарезал пятерых поляков!
1-го июня 1608 г. (стар. ст.) армия мятежников расположилась на берегу Москвы-реки почти в виду столицы; после различных операций, искусно отраженных воеводами Шуйского, она остановилась у Тушина, между реками Москвой и Сходней, на выгодной позиции, хорошо оцененной Лисовским, при узле больших дорог на Смоленск и Тверь. – Тушино! эта местность обрекалась на печальную известность. Название скромной деревушки сообщилось одной из самых мрачных страниц народной истории и самому претенденту: он обратился в «Тушинского вора», подобно тому, как его предшественник был «расстригой» для сторонников Шуйского, а впоследствии и для всех.
Еще немного, и разбойник мог бы возложить на себя в Кремле шапку Мономаха. Тотчас по прибытии ночной атакой, умело подготовленной и яростно произведенной, Рожинский рассчитывал ворваться в столицу. Но, превосходные воины в открытом поле, поляки еще раз показали свою неспособность приступать к крепостям, даже первобытным и плохо защищенным. Главнокомандующий должен был отвести их обратно в Тушино; местечко укрепили, и прилив знатных новобранцев, москвитян и поляков, продолжался здесь, как и ранее. Александр Зборовский, Андрей Млоцкий и Мартин Виламовский привели в июле 1608 г. каждый по эскадрону гусар. В августе прибытие усвятского старосты Сапеги произвело особенную сенсацию. Это был двоюродный племянник литовского канцлера, один из самых блестящих польских аристократов того времени. Воспитанник итальянских школ и ученик лучших полководцев своей страны, Ян-Петр Сапега сражался в рядах королевской армии при Гуцове и, командуя двумя снаряженными на свой счет эскадронами, содействовал решительной победе над мятежниками. Теперь он привел целый корпус, – пехоту, кавалерию и артиллерию с пушками![297]
Появление Сапеги в стане претендента и манера вести себя представляют новую загадку в истории смуты с ее темной оборотной стороной. Все недавнее прошлое отважного начальника должно бы исключать всякое подозрение в соглашениях с врагами Сигизмунда; впрочем, и мы имеем основание думать, что он пустился в это предприятие с ведома и даже по совету своего знаменитого родственника. Литовский канцлер всегда оставался убежденным роялистом, или, как говорили в Польше, – регалистом, хотя он и вел свою вполне личную независимую политику, как и все главари высших польских фамилий. Сапеги владели огромными землями в Смоленской области и лишились их, когда москвитяне завладели ею при Сигизмунд I-м. Отсюда у них могло возникнуть желание вовлечь Польшу в войну ради отмщения. Однако в течение своей новой карьеры в Московии староста усвятский проявил совсем иные честолюбивые мечты. Подобно Рожинскому, он вступил в общество явного авантюриста ради приключений, чтобы лихо обмениваться сабельными ударами, чтобы поискать счастья у волшебной, загадочной судьбы, а главным образом – широкого поприща для избытка энергии, отваги, пылкого воображения, возможности все делать, все испытать и на все дерзать, а это не всегда могла доставить людям такого закала даже сама распущенная анархическая Польша.
По словам Мархоцкого, в Тушине, не считая запорожцев, собралось до двадцати тысяч поляков, в том числе две тысячи очень хорошей пехоты. Другие источники дают меньшее число. Численность москвитян в Тушине не поддается точной оценке, но она гораздо значительнее. Но по качеству стоявшая у ворот столицы армия претендента была лучше той, которую мог выставить против него Шуйский. Правда, большинство сторонников самозванца ненавидело и презирало его; его держали в опеке и часто унижали; но он все-таки среди пышной обстановки изображал особу Дмитрия, царя и самодержца. В ожидании скорого вступления в Кремль для полноты его игры недоставало только присутствия Марины. Это необходимое дополнение было скоро доставлено к нему.
VII. МаринаПретендент уже вел деятельную переписку с Ярославлем, где сандомирский воевода с дочерью признали его без колебаний. Подобно своему предшественнику, он обращался к царице с очень нежными посланиями, а в Самбор, к жене воеводы, со словами утешения и ободрения. Когда польско-московский договор предоставил свободу ярославским изгнанникам, вероятно, с обеих сторон явилось желание соединиться. «Тушинский вор» отдал, несомненно, приказ, чтобы Марина с отцом были перехвачены на дороге, по которой они возвращались в Польшу, и привезены в стан. Но большинство тушинских поляков не хотело пускать в ход силы, понимая, что в случае неудачи на них падет тяжелая ответственность. Марина, может быть, рассчитывала найти потерянного мужа; разочарованная, она могла сделаться жертвой насилия, возможность которого оскорбляла гордый дух шляхтичей. Связавшись сами с разбойником, они вовсе не желали предоставлять знатную девушку на его произвол. Валавский, назначенный на это дело, действовал очень вяло; а московский конвой, сопровождавший Мнишеков, повел их окольными путями, и путники подвергались опасности избежать плохо приготовленной засады, в которую им, по всей видимости, очень хотелось попасть. Судьба решила иначе.
Они уже приближались к Волге, когда им объявили, что их преследуют. По следам Валавского Тушинскому вору удалось направить другого поляка, Зборовского, который, недавно прибыв в лагерь, искал случая отличиться. Московский конвой предложил изменить маршрут. Бывший посол Гонсевский, ехавший с караваном вместе со своим коллегой Олесницким, принял их предложение; но Мнишеки запротестовали: преследовали поляки, а их нечего бояться! Два дня ушли на пререкания; наконец, один Гонсевский уехал с москвитянами по указанному ими пути и без всяких препятствий достиг границы. Прочие путники той порой были нагнаны Зборовским и направлены им в Тушино.[298]
Сандомирский воевода уверял впоследствии, что покорился только силе, и толковал про избиение всех своих слуг; но письма претендента к тестю, сохранившиеся в московских архивах, написанные до и после события, показывают, что между ними существовало по крайней мере начало обоюдного уговора.[299] Сама Марина не принимала вида против воли похищенной. На дороге в Тушино пленники, весьма вероятно добровольные, встретили Яна Сапегу, который вел себя перед молодой женщиной рыцарем-покровителем, но не пытался отклонить ее от решения, которое она свободно приняла.
Остались ли у нее какие-нибудь иллюзии? Это неправдоподобно, да, по мнению Зборовского, Сапега, несомненно, рассеял бы их. Она знала почерк своего мужа, а «Тушинский вор» и не пытался подделывать свой. А ведь опять-таки они переписывались еще до встречи. По совету царя, царица без колебаний отправилась на показное богомолье в православный Звенигородский монастырь. В своем дневнике Сапега косвенно изображает, что она была очень хорошо осведомлена, но как бы не вполне решилась. Послушать его, так даже был момент, когда дух ее возмутился; раз как-то она вдруг не захотела ехать в Тушино. Остаток ли стыда, или, может быть, инстинктивная осторожность еще смущали ее. Но отец старался преодолеть их. Дважды, 11-го и 15-го сентября, опережая дочь, воевода ездил в Тушино и там ни на что не жаловался. Он не мог забыть обещаний, вырванных у первого Дмитрия, и потому поглощен был одной заботой, как бы завести исподтишка переговоры со вторым, чтобы не утратить своих выгод от первой сделки, с потерею которых не мог помириться. Если дочь проявила колебания прежде, чем выступить участницей торга, то отец, наверное, воспользовался ими только для того, чтобы придать важности своему вмешательству и повысить требования. Мы знаем характер этого лица; кроме того достаточно убедительны сами красноречивые факты и один документ, с которым я сейчас познакомлю.
На другой день после вторичной поездки воеводы устроилась встреча супругов. Сапега опять-таки уверяет, что Марине немалых сил стоило согласиться на нее; а другой очевидец, слуга Олесницкого, в подробном описании свидания идет дальше: при виде вора несчастная женщина отвернулась с брезгливостью и ужасом, воскликнув: «Лучше смерть!»[300] Несмотря на это, через четыре дня она была водворена в Тушине; там иезуит или бернардинец тайно обвенчал ее с вором; так свидетельствуют Мнишек и анонимный дневник польской нунциатуры;[301] но эта подробность еще находится под сомнением.
На сейме 1611 г. сандомирский воевода опять уверял, что подвергся вместе с дочерью отвратительному насилию, и в то время даже открыто заявлял о самозванстве претендента; но в это же время он умалчивал о пергаменте, подписанном самозванцем 14 октября 1608 г., который обеспечивал отцу Марины получение 300 тысяч рублей, как только новый Дмитрий вступит в обладание своей столицей. Тогда документ был тщательно спрятан, но впоследствии он появился на свет Божий и в 1736 г. зарегистрирован в Варшавском архиве. Его владельцы, отдаленные наследники воеводы 1608 г., но все еще столь же корыстные, настойчиво требовали погашения долга; желая сохранить добрые отношения с Польшей, Петр Великий признал документ, но предложил получить по нему всего шесть тысяч дукатов; они их приняли, оставив за собой право на получение полной суммы долга.[302] В 1608 г., впрочем, не один сандомирский воевода получил вознаграждение за гнусный договор, которым он привязывал дочь к ложу простолюдина и делал ее сообщницей негодяя. Павел Тарло взял обязательство в 20 тысяч злотых, а бывший посол, высокородный, прегордый и пребогатый Олесницкий не пренебрег обещанием обширных земель на польской границе![303] И тот и другой, должно быть, принимали участие в переговорах и помогли заключение сделки.
Претенденту еще нечем было платить, но обещаниями насчет будущих благ он щедро раздавал чины, места и почести. В двух милях от старой столицы быстро выросла другая, с многочисленным и внушительным правительственным штатом. В течение длинного ряда месяцев в ней разыгрывался полутрагический, полушутовской спектакль, на котором мы должны остановить внимание читателей.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Две столицы
I. Москва и ТушиноОсада одного города другим – явление довольно редкое в военной истории. Оно произошло тогда в империи царей, когда Тушино быстро обратилось в город, в укрепленную резиденцию огромных размеров. Близкое соседство столицы государства с главным центром мятежников при тех условиях, в которых находилась Московия, неизбежно вызывало передвижение населения, целую эмиграцию в ущерб метрополии. Постоянно пополняя свой разнообразный состав и развивая наспех налаженную организацию, главный штаб претендента проявлял неотразимую притягательную силу, то заманчивыми обещаниями, то очевидными выгодами. В старой метрополии жилось очень скучно под управлением неприветливого Шуйского; а когда мятежники плотно окружили ее со всех сторон, в ней стало даже душно, и с начала июня 1608 г. началось массовое переселение, в волнах которого представители знатных семей смешивались с перебежчиками всяких чинов.
Родня Романовых показала дорогу, и Тушино гостеприимно приняло двух его знатнейших представителей – князей А. И. Сицкого и Д. М. Черкасского. За ними последовал виднейший герой заключительных перипетий этой драмы, Д. Т. Трубецкой, увлекая за собой двоюродного брата Юрия Никитича, уже приговоренного к высылке за участие в военном заговоре, указанном выше. Ему тотчас пожаловали боярство – не особенно лестное звание в Тушине, так щедро расточал его претендент. Князьки, вроде С. П. Заскина и Ф. П. Барятинского, делили эту честь с простыми дворянами, как Салтыков-Морозов, с казаком Заруцким, даже с крестьянином Иваном Федоровичем Наумовым! Тушинский вор был неискушен в генеалогии; он спешил обставить себя, как подобало государю, достаточным числом сановников, собственной Думой и иерархией чинов. Его обер-гофмейстером был князь С. Г. Звенигородский, из древнего дома Черниговских владетельных князей, совсем утративших прежнее обаяние; в царском совете вместе с князем Д. И. Долгоруким заседали возведенный в окольничие Михаил Молчанов и бывший дьяк Богдан Сутупов.
Первое время здесь первенствовала выслужившаяся знать времен опричнины. Старая аристократия с олигархическими наклонностями теснила ее в Москве при Шуйском, и она охотно изменяла притеснителям, а Тушино, разумеется, имело основание особенно охотно принимать новобранцев из этой среды. Но, нравственно дряблый и незначительный числом, этот цемент первоначальной группировки скоро рассыпался; в него всосалось большое число сторонников Наумова и дало перевес элементу, усилившему по естественному сродству значение казаков, которые с каждым днем вели себя все вольнее благодаря своей многочисленности. Попович Васька Юрьев стал всемогущим лицом в приказах, а рядом с ним кожевник Федька Андронов положил начало прославившей его карьере. Более изворотливые и деятельные, эти представители московского простонародья захватили в свои руки служебные места. Предоставляя боярам начальство над полками и управление в областях, они стали хозяевами стана, и сами поляки очищали им поле действий.
Устроенная их заботами тушинская администрация способствовала быстрому распадению правительственной машины в Москве; они развращали всех, до низших служащих, как, например, подьячего посольского приказа Петра Третьякова, и канцелярии Кремля быстро пустели. Когда в конце сентября Сапега разбил под Рахмановым большой отряд, который осажденные двинули на его позиции, чтобы освободить пути на Дмитров и Рязань и вздохнуть свободнее, сама военная организация законного правительства расшаталась. Паника охватила областные ополчения, сосредоточенные в Москве, и началось повальное бегство. В старой столице остались немногие военные люди из Замосковья и ополчения тех уездов, которые уже захватили отряды претендента; этим людям некуда было бежать. Буйные рязанцы, всегда красовавшиеся на первом плане во всех действиях затянувшейся борьбы, разделились между обоими станами, когда между ними установилось постоянное передвижение. Тушинцы держали в Москве постоянные кадры своих лазутчиков, очень деятельных, и среди лиц, сообщавших сведения, служили не одни бездельники низшего сорта, вроде попа Ивана Зубова. Мы имеем письмо кн. Ф. И. Мстиславского к его «другу и брату» Яну Сапеге; если можно оспаривать точность указанной издателями даты – 8-е июня 1609 г. (стар. ст.), все-таки, даже отнесенный и к более позднему времени, этот документ сохраняет свою ценность, указывая на давно установившиеся дружеские отношения.
По-видимому, и Рожинский рано завел постоянные сношения с московской знатью; ссылаясь на родственные связи некоторых ее представителей, еще с 14-го апреля он приглашал их покинуть «узурпатора». Этот призыв не остался без отклика, несмотря на безнадежность официального ответа. Скоро претендент увидел среди своих сообщников даже Ивана Годунова, впрочем, еще недавно без смущения принявшего воеводство из рук первого Дмитрия.[304]
Замечалось разделение внутри семей: отец оставался в Москве, сын переходил в Тушино. Имея таким образом опору в обоих лагерях, смелее смотрели в будущее, рассчитывали на лучший исход при всякой случайности. Пообедав вместе, родные и друзья расставались: одни направлялись в Кремль, другие – в соседнюю резиденцию «вора». Но даже одни и те же лица переносились из одной столицы в другую и обратно, чтобы приобрести двойное жалование из обеих касс, а заодно сохранить поддержку и тут и там ввиду темного будущего. В такие «перелеты», как их называли, попадали и поляки, – Бальцер Хмелевский, например, назидательную одиссею которого нам недавно рассказали; среди войск второго Дмитрия он принимал участие в осаде Москвы; потом с польским гарнизоном сидел в Кремле, осажденном москвитянами; затем, сражаясь в рядах москвитян, брал приступом этот самый Кремль, а кончил тем, что был сослан в Сибирь в тот момент, когда собирался вернуться в Польшу.[305] В этом отношении, однако, Рожинский был очень осторожен. Вынужденный ходить на костылях вследствие тяжелых ран, он обломал один из них о спину самого кн. Адама Вишневецкого, когда последний после обильной выпивки неосторожно выдал тайну чересчур беспокойного честолюбия или буйного нрава.[306]
Почти два года Тушино было бойким перекрестком, где встречались все беспокойные умы, все искатели власти и удачи – и все изменники. Приходилось принимать и кормить множество народа. Приближалась зима; временные жилища оказались недостаточными. Подобно товарищам Корелы в Кромах, казаки вырыли себе убежища под землею. К этому же способу сначала прибегли было поляки и москвитяне, но скоро нашли его неудобным. Мы знаем, что в самой Москве строили дворцы в несколько недель. Скоро в Тушине дома вырастали тысячами. На окрестные городки и деревни наложили повинность – доставлять легко собирающиеся срубы для изб; иной капитан получал сруба три и устраивался с полным удобством. Подземные логова превратились в погреба, и их изобильно наполняли благодаря системе реквизиций, посредством которой нещадно эксплуатировали захваченные области. К тому же рядом с новой столицей вырос богатый посад, где, если верить Мархоцкому, жили и держали лавки со всевозможными товарами три тысячи поляков.