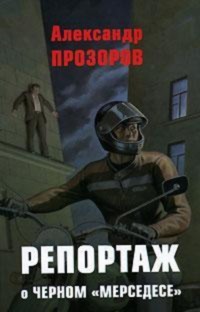Полная версия
Царская любовь
– Тебе, царь православный, святой животворящий крест вручаю, дабы веру истинную прославлял и преумножал! – Святитель вручил воспитаннику тяжелый золотой крест. – Тебе, царь православный, скипетр царский вручаю, дабы правил ты хоругвями Великого Русского царства во славу ратей православных!
Митрополит повернулся к прихожанам и громко объявил:
– Радуйся, люд православный! Государь наш Иоанн на царствие венчался! Един бог на небе, един царь на земле! Слава государю нашему, царю Иоанну Васильевичу!
– Слава! Слава! Слава! – Толстые каменные стены, казалось, качнулись от радостных выкриков сотен людей. – Слава царю Иоанну!
Иоанн поднялся и, как был, в царском венце, со скипетром в правой руке и крестом в левой, пошел через храм. Толпа отхлынула в стороны, освобождая проход – и князя Трубецкого служивые оттеснили в сторону наравне с оказавшимися здесь бабами и боярами.
Царь и святитель вышли на крыльцо, встреченные торжествующими возгласами москвичей и служивого люда, прошествовали к возку митрополита, сели в него. Лошади тронули тяжелые сани с места.
«Уезжает!» – обожгло князя Трубецкого. Он метнулся с крыльца, махнул рукой своей свите, указывая вперед… И злобно сплюнул. Прилюдно повелеть своим боярам хватать, вязать государя князь не мог. Никак не мог. Толпа худородных москвичей его самого после подобного приказа схватит и на клочки вместе с холопами порвет. Оставалась надежда лишь на то, что привратники без приказа великокняжеских опекунов мальчишку из Кремля не выпустят.
Однако и в воротах толпилось три десятка служивых людей, как бы случайно подпирая плечами тесовые створки. С десятком стражников, пусть даже те все с копьями и в броне, эти плечистые воины справились бы без труда.
Применять силу, впрочем, и не потребовалось. Боярам, сторожащим Боровицкие ворота, и в голову не пришло преграждать путь саням митрополита. Наоборот – они все склонились за благословением, скинув шапки и шлемы, торопливо перекрестились. А на набережной Неглинной к возку святителя примкнули с полсотни всадников, уже открыто опоясанных саблями. Из-под тулупов этих воинов и в запахе воротников холодно поблескивали кольца кольчуг и пластины юшманов. А чуть опосля сани нагнали еще три сотни бояр, что стояли на венчании и охраняли Успенский собор во время таинства.
– Кажется, обошлось, чадо, – облегченно перекрестился святитель Макарий, откидываясь на спинку кресла и поправляя медвежий полог, укрывающий ноги. – Венчанию опекуны твои не помешали, возможность упустили. Возвращать тебя силой князья не посмеют. Это ужо бунт открытый, люд русский сего безумия не поймет. Ополчение боярское, горожане московские, они ведь тебе присягали, а не Шуйским с Глинскими. Не так много холопов у опекунов твоих, чтобы супротив всей земли русской за свою корысть биться. Не посмеют. Хотя, знамо, караулы округ хором Воробьевских надобно выставить крепкие и службу сторожевую усилить. Захватить тебя князья, может, и не рискнут, но вот убийцу подослать – это легко. Тебя зарезать, брата твого юного на стол посадить, меня в монастырь дальний в погреб отправить, и тогда все опять к порядкам прежним вернется…
– Выходит, я теперь царь? – поежился юноша.
– Всевластный государь, чадо, – степенно кивнул митрополит. – Един бог на небе, един ты на земле. Привыкай.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Иван Грозный имел рост 180 см и богатырское телосложение.
2
Говоря о боярах и князьях XVI века, следует помнить, что их «фамилии» таковыми отнюдь не являлись. К имени и отчеству чаще всего добавлялись названия поместий, которыми они владели; иногда прозвища, а иногда – производные от имени или отчества родителей. Посему даже родные братья запросто могли иметь разные «фамилии», причем отличные от отцовской, а сами бояре зачастую именовались разными «фамилиями» в зависимости от обстоятельств: по прозвищу, если речь шла о личности, по поместью, если о службе, по деду/прадеду, если речь шла о родовитости – и т. д.