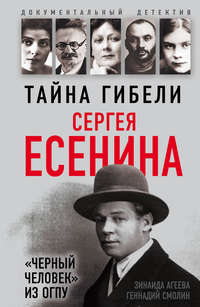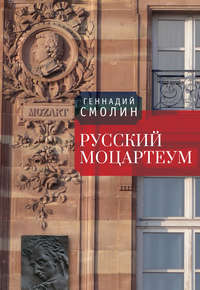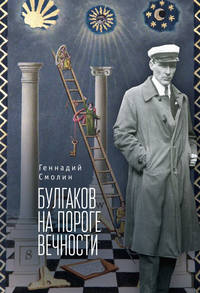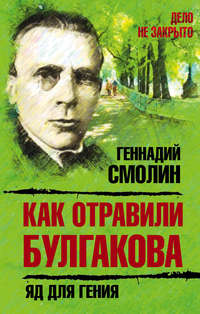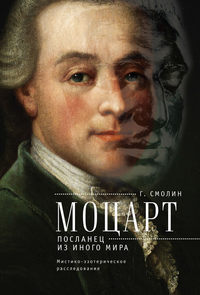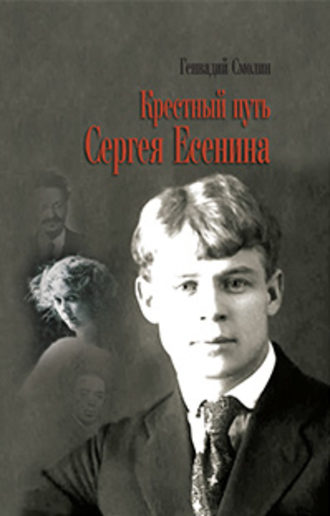
Полная версия
Крестный путь Сергея Есенина
И вот представьте себе картину: всемирно известный человек сидит отшельником четыре дня (в период рождественских праздников) в своей англетеровской обители (в номере 5), никуда не выходит, встречаясь с совсем незнакомыми ему людьми и с тремя-четырьмя персонами, которые ему в друзья не годятся. Поскольку наступили рождественские праздники, то, согласно мемуарной лжи, Есенин устраивает пир с водкой, закусками и нафаршированным гусем. И чуть ли не десяток гостей потчуют себя из многочисленных графинчиков с водкой и бутылок с шампанским. А сам московский гость в это время дрыхнет пьяный на кушетке с зажатой в зубах папироской. Конечно же, сработано топорно, грубо.
Посудите сами.
«Гостиницы для приезжающих торгуют, – как обычно, информирует 24 декабря 1925 года „Новая вечерняя газета”, – но без продажи пива и крепких напитков».
Далее. Собутыльники, заправившись всем этим добром, расходятся по домам, а поэт, обуреваемый хандрой, режет себе вены на правой руке и даже ладони и плечо (протокол милиционера Горбова), пишет предсмертные стихи кровью. Затем вскарабкивается с двухметровой верёвкой от американского чемодана на сооружённую высокую пирамиду на письменном столе. Это после-то сильного кровотечения! Затем обматывает шею верёвкой (лишь полтора раза), будто шарфом, и, пристроив конец верёвки на вертикальной трубе отопления, заканчивает свою жизнь на бренной земле.
Дальнейшее известно. Не слишком ли много в этой трагедии «случайностей» и штатных и нештатных сотрудников ГПУ? Только сравнительно недавно стало известно, насколько плотно они (Берман, Дубровский, Медведев, Эрлих и др.), как коршуны, кружили вокруг да около 5-го номера «Англетера». Следы запланированности кощунственного надругательства, а также следы его сокрытия – налицо.
О Троцком (вдохновитель) и Блюмкине (исполнитель), личностей которых авторы касаются походя, ленинградские журналисты и литераторы пишут однозначно: «Троцкий был политиком общительным и, видимо, вполне миролюбивым человеком, серьёзным и образованным».
В то же время любая биография, сконцентрировавшая своё внимание исключительно на Есенине, не замечает иных фактов и особенностей характера лиц, окружавших поэта и игравших в его жизни важную роль, что особенно относится к его последним месяцам и дням. В самом прямом смысле это известные персоны: «литературный мальчик» В. Эрлих, супруги Е. и Ф. Устиновы, Ушаков, Измайлов и другие мнимые друзья.
Убийство Есенина, может быть, так и осталось бы загадкой, если бы прекратились поиски возможных преступников и мотивов убийства.
А пока всё указывало на то, что в известном смысле как поэма «Страна негодяев», так и неосторожные высказывания поэта о властях предержащих, и даже возможный отъезд из Ленинграда с последующей эмиграцией за рубеж (например, в Англию) стали проектом некоего возмездия, что сразу наталкивало на мысль о спецслужбах.
Но здесь вставал вопрос: почему же покусились на жизнь именно Есенина, а не кого-то из его окружения? Это можно было объяснить, если взять за основу мотив личной вражды между Есениным и тем же Блюмкиным – убийцей посла Мирбаха. Блюмкин со товарищи для многих был и оставался ключевой фигурой, потенциально способной на то, чтобы запланировать и совершить убийство поэта.
Но при этом прежняя биографика забывала напрочь хотя бы взглянуть на «литературного мальчика» В. Эрлиха. Как писал в воспоминаниях литератор М. Райзман: «Вольф Эрлих был честнейшим, правдивым, скромным юношей. Он романтически влюбился в поэзию Сергея Есенина и обожал его самого. Одна беда – в практической жизни он мало что понимал». В этой характеристике – ни слова правды. В практической жизни Эрлих разбирался на «пять с плюсом». В 1925 году секретный сотрудник ГПУ, конечно же, «за особые заслуги» получил две комнаты в доме № 29/33 по улице Некрасовой (Бассейной). Кстати, Есенин и угла от советских властей не дождался. «Красная газета» первой поместила информацию о смерти Есенина 28 декабря 1925 года. Из «Дневника» критика и настоящего друга Сергея Есенина, Иннокентия Оксёнова: «Вчера около 1 часа дня в „Звезде” я услыхал от Садофьева, что приехал Есенин, и обрадовался. Затем я поехал во Дворец Труда; заседание кончилось в 2 1/2 часа, и у ворот я купил „Красную”[3] вечёрку. Хорошо, что мне попался экземпляр с известием о смерти, иначе я в этот день до вечера ничего не знал бы». Надо отметить, что оперативность работы участников «заговора» – фантастическая и потому крайне подозрительная.
Газета «Правда» и другие СМИ сообщили дату и время вскрытия 5-го номера «Англетера» – 28 декабря, 11 часов. При старой полиграфической базе, сложной организационно-технической практике выпуска газеты, необходимости её транспортировки, за такой немыслимо короткий срок (2–2,5 часа) издание не могло дойти до читателя. Очевидно, Е. Устинова (Рубинштейн) знала об убийстве Есенина уже поздно вечером 27 декабря (воскресенье) и приготовила заранее материал для печати.
28 декабря, когда еще не была проведена судмедэкспертиза тела поэта, «вечёрка» известила о его самоубийстве. Ложь тут же подхватили ТАСС, «Окна РОСТА», зарубежные агентства.
Правда, по явному недосмотру кураторов устранения поэта и цензуры «проскочила» статья Бориса Лавренёва «Казнённый дегенератами» – единственное честное слово о свершившемся злодеянии в хоре фальшивых и трусливых голосов советских писателей. Лавренёву пришлось на собрании литераторов отстаивать свою точку зрения. Показательно: авторы материалов по скорбному поводу не были духовно близки Есенину.
1 января 1926 года ответственному редактору приказали передать редакторство «Красной газеты» сталинскому посланцу И. Степанову-Скворцову.
Последний, правда, формально руководил редакцией, практически же дело возглавил (официально с 24 февраля 1926 г.) Пётр Чагин, друг Есенина. И сразу тон отношения к памяти поэта изменился – на время прекратилось посмертное над ним издевательство. Кто знает, может быть, трагедии и не случилось бы, если бы С. М. Киров и П. И. Чагин приехали в Ленинград пораньше (из газетной хроники известно: Киров, назначенный новым партийным руководителем, прибыл в город 29 декабря).
Нельзя исключать, что своевременно информированный Есенин бежал от суда в Ленинград под защиту по-доброму к нему относившегося Кирова-Кострикова, кстати, в отличие от многих заметных большевиков, весьма неплохого литературного критика, ценителя поэзии.
Вскоре П. И. Чагин указал Е. Устиновой (Рубинштейн), как мы знаем, на дверь.
Через десять лет за троцкистско-террористическую деятельность ее арестуют и расстреляют.
После смерти Сергея Есенина Эрлих Вольф ни словом не обмолвился в СМИ о трагической гибели Есенина, только через год он опубликовал статью «Четыре дня», в которой не было ни строчки правды (См. приложения, с. 358).
Аргументация
Сегодня представить доказательство, что Есенин был убит, в самом деле чрезвычайно трудно (документы по поводу «самоубийства» Есенина были сделаны наспех, неквалифицированно, как убедительно показал и литератор Виктор Кузнецов, и полковник МВД Эдуард Хлысталов; вдобавок гостиница «Англетер» под предлогом реконструкции была взорвана в 1987 году).
И всё-таки есть надежда, что в скором времени «выплывут» на свет новые ошеломляющие документы, которые снимут последние сомнения в теории насильственного устранения Есенина. Среди убеждённых сторонников этой позиции, пусть даже исходящих из других, большей частью медицинских, графологических и иных, предпосылок, помимо Э. Хлысталова, В. Кузнецова, С. и Ст. Куняевых, В. и С. Безруковы – и это неполный перечень только некоторых значительных исследователей.
Если партийная верхушка Ленинграда (Троцкий, Каменев, Зиновьев) была втянута в «заговор», что не так уж невероятно, то, естественно, у них не было резона для разглашения содержания каких-либо документов.
Убийство из зависти, имея в виду коллег, писателей и поэтов («коллективный Сальери»), редкостью назвать нельзя, однако мотивы и круг соучастников в нашем случае гораздо многослойнее, чем может показаться на первый взгляд. Столь же нелогичным кажется самоубийство Есенина; и если вообще отбросить возможность убийства, то никакого исчерпывающего объяснения по поводу смерти дать просто невозможно. Истинно объективному, человеческому пониманию гения до сих пор препятствовала переоценка его личности, тесно связанная с заботами о сохранении доброго имени его последней жены, Софьи Андреевны. В связи с этим с большой лёгкостью отбрасываются или самонадеянно интерпретируются в духе представлений нашего времени даже личные мировоззренческие симпатии Есенина.
«Дело Есенина» имеет не чисто медицинский или чисто психологический характер, это поистине историко-психопатографический феномен. Вот о чём следует всё время помнить, чтобы не получилось так, что желание станет отцом расследования и приговора!
Разумеется, прошло долгих 90 лет с момента гибели Сергея Есенина. Конечно, сегодня трудно отделить слухи от исторических фактов, но слухи и предположения, особенно если они носят разносторонний характер, не всегда следует торопливо причислять к области басен и легенд, как несоответствующие действительности. Слухи и особенно подозрения, как правило, часто имеют под собой реальную основу, которая должна быть тщательно проанализирована. В «деле Есенина» такое положение вещей особенно бросается в глаза, тем более, что гениальное было осознано спустя много лет после смерти Есенина, а потому первое время никто не догадался фиксировать события на бумаге.
Ко всему прочему мы сталкиваемся тут совсем с другим временем, перенестись в которое сегодня не так-то легко. Здесь не только афёры и интриги, но и слежка, клевета, чуть ли не средневековая медицина и не в последнюю очередь своеобразная подача информации.
Если эти обстоятельства собрать воедино, то всё указывает на убийство Есенина. И так как версия о физическом устранении поэта получила распространение сразу после смерти Есенина, будучи, однако, вскоре придавлена идеологическими интересами, то последователям концепции гибели не к лицу выискивать доказательства, что Есенин не был убит – пусть этим занимаются те, кто считает, что смерть русского гения наступила в результате суицида. Однако, прежде чем серьезно заняться вопросом, был ли Есенин всё-таки погублен, приходится преодолеть не только мощное сопротивление лобби есениноведов, но и провести глубокую и крайне напряженную исследовательскую работу, ни с чем не сравнимую по своему объёму. Поэтому такой труд может быть проделан только по междисциплинарному принципу, то есть при общем сотрудничестве медиков, психологов, социологов и музыковедов и, конечно же, следователей МВД.
В настоящей книге была предпринята попытка подойти к вопросу именно под таким углом зрения, что привело к убедительному подтверждению тезиса о насильственной смерти Есенина.
И ещё один интересный вопрос: почему многие биографы вновь и вновь атакуют тезис злонамеренного убийства или доводят его ad absurdum, если в их глазах он действительно абсурден?
То, что убийство Есенина не относится к области легенд, мы исчерпывающе здесь показали.
В конце жизни Есенин страдал манией преследования (о всевидящем оке ГПУ мы уже говорили), и это тут же было доведено ad absurdum.
В письмах к особо доверенным друзьям Есенин писал, что жить ему осталось недолго. Можно ли при этом говорить о параноидальных мыслях, если три месяца спустя он действительно погиб? Конечно нет! И если он не мог отделаться от этой идеи фикс, то дело тут не в мании преследования…
Если объединить факты – предчувствие смерти, преследование его сотрудниками из «органов», 13 уголовных дел, возбуждённых против поэта (см. публикации Э. А. Хлысталова), принять во внимание подтекст в его последней поэме «Чёрный человек», которую при жизни Есенина боялись печатать, то этого уже слишком много для того, чтобы не предположить, что в данном случае мы имеем дело с чем-то крайне неординарным.
Поразительно уже то, что многие (правда, не имея возможности представить веских аргументов) уверены, что Есенина мог убить Блюмкин. Случайно или целенаправленно – это другой вопрос…
Естественно, при подобной подчистке всех обстоятельств по «делу Есенина», совершенно игнорирующих первоисточники, роли тёмных личностей в окружении поэта, можно представить данное ЧП в таком свете, будто неестественная смерть исключена заранее. А в таком случае политический фон того времени, свойства характеров персонажей, факты биографии должны рассматриваться и с точки зрения психологических аспектов. Итак, начало положено.
Тем самым тема Есенина – именно в наше время, сегодня, – получает новый поворот. Как говорили на латыни: «Quod erat demonstrandum!»[4]
«Заговор», образованный и направленный против Есенина, не мог быть устойчивым и сплочённым союзом, скорее, его можно назвать работой мнений, ибо никакой крепкой организации не было и не могло быть. То есть (и это установлено точно) Троцкий, Зиновьев, Каменев обменивались мнениями о жизни и творчестве Есенина, и, конечно, Эрлих и супруги Устиновы.
Разведка боем
В начале ноября 1925 года Есенин спешно приехал в Ленинград, встречался здесь с другом, партработником Петром Ивановичем Чагиным, и своим давним знакомым, журналистом Георгием Феофановичем Устиновым (1888–1932). Надо помнить, поэту в то время угрожали в Москве судом, и поездка, очевидно, носила отнюдь не развлекательный, а, если так можно выразиться, разведывательный характер. Есенин явно нервничал, вероятно, наводил какие-то справки, с кем-то встречался. Вряд ли он намеревался перекочевать в Ленинград – его бы «достали» и здесь. О будущем назначении симпатизировавшего ему С. М. Кирова и любившего его П. И. Чагина он вряд ли знал.
Ноябрьское посещение Есениным Ленинграда запомнил прозаик Николай Николаевич Никитин (1895–1963), автор известного романа «Северная Аврора». В своих воспоминаниях он опровергает то, что в тот раз поэт жил в «Англетере», о чём любят порассуждать досужие следопыты. Оба они лишь заходили в гостиницу, где тогда остановились руководитель Московского камерного театра А. Я. Таиров и его артисты.
Другая встреча Никитина с поэтом состоялась на квартире Ильи Садофьева. «…Когда я пришёл, – пишет мемуарист, – гости отужинали, шёл какой-то „свой” спор, и Есенин не принимал в нём участия. Что-то очень одинокое сказывалось в той позе, с какой он сидел за столом, как крутил бахрому скатерти».
В такое психологическое наблюдение можно поверить. Ожидавший суда, затравленный Есенин мучительно искал выход из создавшегося тупика. Окружавшие же его благополучные литераторы не подозревали о смятении чувств московского гостя. Метко охарактеризовал Николай Никитин и внезапный отъезд Есенина из Ленинграда – «… будто сорвался». Что-то случилось…
Далее наблюдательный прозаик вспоминает последние декабрьские дни 1925 года и роняет весьма примечательные для нашей темы фразы: «Помню, как в Рождественский сочельник кто-то мне позвонил, спрашивая, не у меня ли Есенин, ведь он приехал… Я ответил, что не знаю о его приезде. После этого два раза звонили, а я искал его где только мог. Мне и в голову не пришло, что он будет прятаться в злосчастном „Англетере”. Рано утром, на третий день праздника, из „Англетера” позвонил Садофьев. Всё стало ясно. Я поехал в гостиницу».
Из многих вздорных записок о последних днях жизни Есенина свидетельство Никитина выделяется своей правдивой тревожной индивидуальностью. Особенно настораживают эти анонимные звонки каких-то псевдоесенинских радетелей.
Уж не Анна Берзинь ли названивала? Позже она расписывала, как бросилась из Москвы в Ленинград «спасать поэта», искала его в гостиницах и прочее, но безуспешно. Если следовать логике Берзинь, беглец отказался от встреч со своими знакомыми, притаился в партийно-гэпэушном «Англетере», предпочтя общество «архитектора» Ушакова, «авангардиста» Мансурова и других незнакомых ему лиц. И какими оказались скрытными все они: журналист Устинов, «имажинист» Эрлих да и тот же путаник-стихотворец Садофьев, никому не сообщившие о месте пребывания Есенина.
Сам же поэт, несмотря на Рождество и сочельник, почему-то за четыре дня не захотел позвонить ни доброму приятелю Оксёнову, ни ранее дававшему ему кров Сахарову, ни тому же писателю Никитину.
С Вольфом Эрлихом в тот предпоследний свой приезд он встречался, но близко не общался и не давал ему никаких серьёзных поручений. В Ленинграде жили более близкие Есенину люди, и в свете этого его декабрьская телеграмма Эрлиху с просьбой о снятии квартиры неожиданна и более походит на придумку самого Эрлиха…
Что же заставило Есенина внезапно броситься в город на Неве?
…В начале сентября 1925 года он ехал с женой Софьей Толстой в поезде Баку – Москва и наверняка вспоминал гостеприимный азербайджанский кров Чагина. Издатель Иван Евдокимов требовал его возвращения в столицу, в противном случае грозил расторгнуть договор на выпуск его собрания сочинений.
Шестого сентября произошла неприятная история. Оставив жену в купе, Есенин направился в вагон-ресторан, но чекист-охранник, ссылаясь на приказ начальства, преградил ему дорогу. Есенин вспылил. Услышав перебранку, дипкурьер Альфред Мартынович Рога (49 лет) принялся воспитывать несдержанного пассажира. Он узнал его, и ему, очевидно, доставило удовольствие прочитать знаменитому поэту нотацию. Разгорелся скандал. Рога привлёк к «делу» ехавшего в том же вагоне врача Юрия Левита, тогда начальника отдела благоустройства Моссовета.
Некоторые подробности этой истории впервые раскрыл английский есениновед Гордон Маквей в нью-йоркском «Новом журнале» (1972, кн. 109). Исследователь напечатал «Дело С. А. Есенина по обвинению его по статье 176 Уголовного кодекса». Вот отрывок из этой публикации.
В своём заявлении в прокуратуру А. Рога жалуется, что «известный писатель» пытался ворваться в его купе, и далее: «…он весьма выразительными и неприличными в обществе словами обругал меня и грозил мордобитием. ‹…› По дороге освидетельствовать состояние Есенина согласился врач Левит, член Моссовета, но последнего Есенин не подпустил к себе и обругал…» – следует известное «крамольное» выражение.
Рога не ограничился собственным видением конфликта, а пошёл дальше: напомнил прокуратуре «возмутительное» общественное поведение Есенина в прошлом, даже сослался на «Правду», освещавшую в 1923 году некие его проступки. Уголовная яма рылась основательно, с намёками и прямыми обвинениями в духе подобных типичных процессов 1920-х годов.
Не менее суров был и Ю. Левит. «Всю дорогу с момента посадки, кажется, в Тифлисе, – писал он, – гражданин Есенин пьянствовал и хулиганил в вагоне… упорно ломился в купе Рога и обещал „избить ему морду”…»
Вот как эту историю излагает Есенин:
«6 сентября, по заявлению Рога, я на поезде из Баку (Серпухов – Москва) будто бы оскорбил его площадной бранью. В этот день я был пьян. Сей гражданин пустил по моему адресу ряд колкостей и сделал мне замечание на то, что я пьян. Я ему ответил теми же колкостями.
Гражданина Левита я не видел совершенно и считаю, что его показания относятся не ко мне. Агент из ГПУ видел меня, просил меня не ходить в ресторан. Я дал слово и не ходил.
В Бога я не верю и никаких «Ради Бога» не произношу лет приблизительно с 14-ти.
В купе я ни к кому не заходил, имея своё. Об остальном ничего не могу сказать.
Со мной ехала моя трезвая жена. С ней могли и говорить.
Гражданин Левит никаких попыток к освидетельствованию моего состояния не проявлял. Это может и показать представитель Азербайджана, ехавший с промыслов на съезд профсоюзов. Фамилию его я выясню и сообщу дополнительно к 4 ноября начальнику 48-го отделения милиции.
29. Х.-25. Сергей Есенин».
Своим заявлением поэт как бы говорит: отстаньте от меня, дело не стоит выеденного яйца. Столкнулись амбиции преуспевающих чинов и достоинство многократно защищавшего свою честь легкоранимого человека (ранее на него заводилось более десятка уголовных, пахнущих сиюминутной политикой дел). С подачи А. Рога и Ю. Левита Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) обратился в Московскую губернскую прокуратуру. Та весьма оперативно передала «крамолу» судье Липкину. Судебное колесо завертелось. Последовали допросы, угрозы… Не помогли даже влиятельные заступники. Кто-то более всемогущий их отверг и, возможно, «порекомендовал» расправиться с поэтом.
…Сразу же после допроса Есенин ринулся в Ленинград. Подчеркнём, сентябрьский дорожный скандал 1925 года привёл в конце концов к декабрьской трагедии. Обратите внимание: в том же тревожном сентябре Есенин сжёг на квартире своей первой жены, Изрядновой (согласно её воспоминаниям), большой пакет со своими рукописями. Не сомневаемся: в том пакете были его честные откровения «о времени и о себе». Видимо, опасность для его жизни была настолько велика, что он, бесприютный, не решился уничтожать свои записи при нежелательных свидетелях и сделал это в надёжном месте. Подчеркнём, вся эта грустная история десятилетиями или замалчивалась, или искажалась. После его гибели прыткие газетчики и его трусливые знакомцы-мемуаристы трещали: свёл счеты с жизнью не случайно – ведь незадолго до самоубийства почти свихнулся, что подтверждается его пребыванием в психиатрической клинике 1-го Московского государственного медицинского университета.
Волноваться Есенину было отчего – над ним тяжёлой тучей навис неправедный суд с легкоугадываемым печальным приговором. «Психов не судят», – напомнили ему родственники и с огромным трудом уговорили лечь в больницу… Но вернемся к его странно-поспешной ноябрьской поездке в Ленинград. Скорее всего, он «наводил мосты» для подготовки бегства за рубеж. Из его письма от 27 ноября 1925 года к П. И. Чагину: «…вероятно, махну за границу». Полагаем, кто-то этот его замысел выдал. Предателя установить сложно, и на сей счёт может быть немало предположений.
Мимоходом два небольших отступления. В свой ноябрьский приезд в Ленинград бесприютный поэт ответил на вопрос местного журналиста о материальном положении советских литераторов.
«Хотелось бы, – говорил он, – чтобы писатели пользовались хотя бы льготами, предоставленными советским служащим. Следует удешевить писателям плату за квартиру. Помещение желательно пошире, а то поэт приучается видеть мир в одно окно» («Новая вечерняя газета». 1925. № 208. 18 ноября).
Итак, поэт в лихорадочном состоянии возвратился в начале ноября в Москву, пожурил в письме за невнимание Чагина, упомянул Устинова, а через три недели спрятался от судилища в психиатрической клинике. Дальнейшее известно.
От кого известно? Главным образом, от Эрлиха и Устинова. Предательская натура первого разоблачена, вся его декабрьско-январская возня – антиесенинская.
Георгий Устинов, уроженец уездной глухомани Нижегородской губернии. Родители – староверы. Изгнан из церковно-приходской школы за богохульство. Плавал на пароходах матросом. Частенько буянил, а позже выдавал свои проступки за политические акции, направленные против «живоглотов-кровопийцев». Написал на эту тему скандальную брошюрку. Босячествовал – в его облике и характере угадывается горьковский Челкаш.
Не раз попадал в тюрьмы. Как водилось, бегал из них. Февральскую революцию встретил эсером в Петрограде, тогда-то и состоялось его знакомство с Есениным.
В дни Октябрьского переворота переметнулся к большевикам, исполнял роль их воинствующего рупора. В декабре 1917 – январе 1918 года редактировал газету «Советская правда» (Минск), освещавшую борьбу Красной Армии на Западном фронте.
Устинов-Фанвич, он же Заводный, он же Клим Залётный, был уверен: «…российская революция – гуманнейшая из всех революций» (№ 18), он звал «…туда, где лучезарно сверкает яркое солнце Социализма» (№ 19). Как тут вместе с Иваном Буниным («Окаянные дни») не воскликнуть по тому же поводу: «Глаза твои бесстыжие, где и когда ты видел, чтобы в этой войне что-то сверкало, кроме штыков и сабель?!»
В Гражданскую войну Г. Устинов занимался газетно-публицистической деятельностью, выпускал серию пропагандистских брошюрок.
В период нэпа и позднее сочинял совсем никудышные рассказы, повести и даже романы, героями которых становились, конечно же, уходящие в революцию босяки, руководимые сознательными интеллигентами.
Театр абсурда. Так был ли Есенин убит?
Когда Он был снят с креста, а сам крест вынут из земли, ученики Его, Машара и Орсен, выкопали из земли камень, который лежал у подножия креста, потому что на этом камне остались капли крови и воды, истекшие из Его раны, в Грааль не попавшие. Они истолкли этот камень, а их ученики разнесли полученный от них песок в разные страны и во время бурь развеяли его, заповедав ветрам разнести его по всей планете. Так что теперь вся наша Земля стала священным для нас Граалем, объединяющим наши души и наши сердца во имя работы, заповеданной нам Эоном Любви.