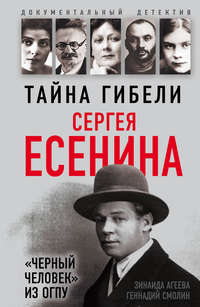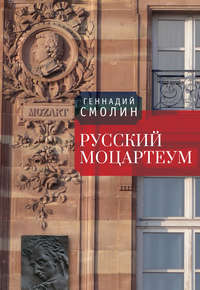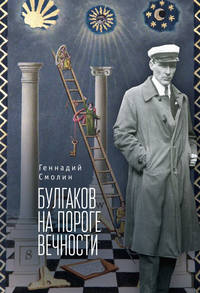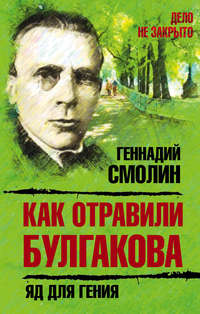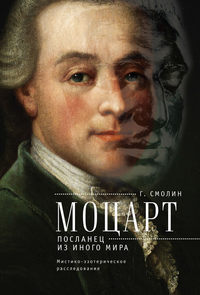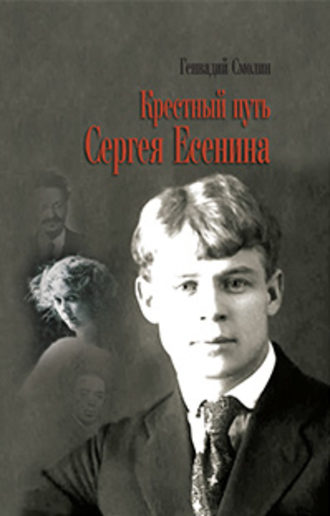
Полная версия
Крестный путь Сергея Есенина
Я поймал такси и отправился назад в гостиницу.
Отпер дверь гостиничного номера. Постель была убрана с такой тщательностью, с какой хорошие секретарши вылизывают своё рабочее место. Я взялся было за телефонную трубку, но тут же опустил её. Уселся в кресло, уставился в окно и просидел так, наверное, с полчаса. Затем позвонил вниз и заказал крепкий кофе. Когда мне принесли его, я выпил целый кофейник. И вновь принял душ.
Несмотря на похмельный синдром и бессонную ночь, сна не было, что называется, ни в одном глазу.
О том, чтобы идти на конференцию, и речи быть не могло.
Пару дней спустя на Ладожском вокзале я вошёл в салон ослепительно-белого экспресса «Сапсан», как будто поднялся на борт самолёта, и отправился из Питера в Москву. Меня мучила мигрень; прежде я не подозревал, что головная боль может достигать такой силы. А всё из-за санкт-петербургского кофе (я его выпил чересчур много), не дававшего мне заснуть, и рассказа полковника с Петровки, 38, Эдуарда Хлысталова. Ничего подобного о гибели поэта Сергея Есенина я не знал.
Всю дорогу до Москвы я только и размышлял о том, что рассказал мне полковник. Когда мы прощались, то обменялись визитками и договорились встретиться в Москве.
Но самое поразительное было в том, что Хлысталов всучил мне после закрытия конференции два пакета с документами, письмами и бумагами, назвав их «есенинскими». Я так и не открыл бандероль. Свёрток был для меня чем-то вроде амулета на счастье. Я не выпускал его из рук и, следуя наставлениям Хлысталова, никому не обмолвился о нём ни словечком. Мало-помалу у меня стало складываться впечатление, что этот свёрток будет оберегать меня от напастей – правда, каких, неизвестно – до той поры, пока я держу его при себе и не пытаюсь вскрыть.
Именно тогда я впервые подметил за собой склонность к мистико-эзотерическому мышлению – это было новоприобретённое свойство моей натуры (всю жизнь я полагал, что подобные вещи чужды и даже противны мне). С тех пор я начал анализировать свои эмоции и поступки, наблюдая за собой как бы отстранённо. Однако я отдавал себе отчёт в том, что другое моё «я» ищет утешения, своеобразной тихой пристани, блуждая в виртуальных лабиринтах моего сознания.
Путешествие назад, в Москву, было крайне бедно на события. Отмечу лишь два не связанных между собой происшествия.
В экспрессе я решил послушать музыку в надежде, что это хоть немного уменьшит головную боль. Надел наушники и принялся искать подходящую программу. Сначала попал на передачу для детей, а потом – на классическую музыку, где голос ведущего (английский язык с французским акцентом) предложил слушателям попурри из произведений Чайковского.
Я прикрыл глаза. Волны музыки затопили мозг. Вместо того, чтобы следовать, как положено, одна за другой, темы и мелодии устроили настоящую битву, сражаясь за место в моей голове. Едва начинала звучать очередная, как предыдущая возвращалась и с яростью набрасывалась на соперницу, пытаясь столкнуть её с тропы. И тут же возникала новая тема, оттесняя две другие. Мои мысли, точно дети, соперничали между собой, завоевывая внимание к себе.
Перед моим мысленным взором представали скульптуры, изваянные из камня и отлитые в бронзе. Я видел изображения олимпийских богов, бюсты неизвестных мне мужчин, статуи женщин. Там были скорбные лики мучеников и пышущие весельем физиономии эпикурейцев, лица погруженных в раздумья философов и разъярённых битвой воинов. Все они попадали в поле моего зрения, проносились сквозь меня, падали и взлетали под разными углами, порождая хаос, в то время как сражающиеся звуки сплетались в моем мозгу в некий фантасмагорический звуковой фон этого хаоса…
Второе событие произошло на Ленинградском вокзале в Москве.
Тут я разглядел его – этого человека в чёрном. Он был с длинным «лошадиным» лицом, бледен, с рыхлой кожей человека неопределённого возраста. И ещё я отметил, что он как-то странно одет – слишком много всего на него было напялено. Конечно, каждый волен носить, что ему заблагорассудится, но есть же понятие здравого смысла.
Проведя значительную часть жизни в переполненных аэропортах или на железнодорожных вокзалах и отстояв своё в очередях, я научился не обращать внимания на окружающих, даже если они дышат прямо в затылок. Но здесь был другой случай. Его присутствие выводило меня из себя, как, наверное, выводит вас из себя – даже если вы не являетесь закоренелым кошконенавистником – кошка вашего друга, которая во что бы то ни стало хочет потереть спинку именно о ваш стул. Во-первых, мне бросилось в глаза, что человек в чёрном не был обременён никакой кладью, тогда как у любого из нас в руках был чемодан, сумка или хотя бы портфель. Во-вторых, несмотря на жару и давку, он не выказывал никаких признаков беспокойства. Он был олимпийски спокоен и невозмутим.
Словно из ниоткуда появился этот странный субъект. Неожиданно я очутился лицом к лицу с человеком в чёрном. Наши взгляды встретились. Мои глаза налились кровью. А у него глаза были узкие-узкие, я таких в жизни не видел. Ну прямо щёлочки! Вдобавок к этому – очки с такими толстыми стёклами, что, если только не смотреть на него в упор, кажется, будто у него отсутствует кусок щеки. Он улыбнулся мне холодно, но не без фамильярности. В данной ситуации эта улыбка была совершенно неуместна. Затем, указав на свёрток, который я держал под мышкой, он произнёс с сильным акцентом, выдававшим его прибалтийское происхождение:
– Документы, реликвии, артефакты?
– Эпистолярный жанр. Переписка моей бабушки с другой бабушкой, – с тихой ненавистью ответил я.
– Прибыли издалека?
– Из Северной Пальмиры, – бросил я.
– Вот и я тоже, – кивнул он. – Минуты две он молчал, а потом опять заговорил: – Мы знаем, что документы у вас.
Я сделал вид, что не расслышал его слов. Он продолжал:
– Я собираю букинистические книги, а также автографы великих мира сего. Торг уместен.
– Ну-ну, – рассеянно буркнул я.
– Быть может, вам попадались такие? – спросил он.
– Нет, – сказал я.
– Вы вообще читаете что-нибудь?
– Иногда. А так – киноман, блокбастеры, желательно голливудского производства! – отрезал я.
– Да-да, конечно, – кивнул он. – Всё правильно. Я тоже предпочитаю иметь дело только со знакомыми источниками.
Общение с узкоглазым очкариком взбесило меня в буквальном смысле слова. Таскать под мышкой насквозь пропылённую рухлядь и то приятнее. Я одарил очкарика убойным взглядов. Но он не дрогнул.
– Вы случайно не знакомы с Есениным? – не унимался прибалт.
– Есенин? Не знаю такого! – бросил я.
Медленно, боясь всколыхнуть ярость, я повернулся к очкарику спиной.
Когда я позволил себе обернуться, бросить, так сказать, прощальный взгляд на своего недавнего собеседника, которого едва не убил в запальчивости, его и след простыл.
Я внимательно всмотрелся в цепочку сердитых пассажиров, но так и не обнаружил своего очкарика.
Это меня настолько удивило, что я тут же обратился к шедшему за мной толстому парнишке в дурацких шортах:
– Куда, чёрт побери, подевался тот тип в чёрном пальто?
– В чёрном пальто? – переспросил парнишка и, обойдя меня, устремился к свободному в тот момент проходу.
Пропал куда-то…
Константиново есенинское
Был у нас в селе праведный человек, отец Иван. Он мне и говорит: «Татьяна, твой сын отмечен Богом».
Татьяна Фёдоровна Есенина, мать поэтаЭти встречи произошли независимо одна от другой. Случайно. И до поры вспоминались по отдельности. Но вот как-то всплыли разом и взволновали меня.
* * *И вот случилось! Побывав в Ленинграде, где погиб русский национальный поэт Сергей Александрович Есенин, я отправился к нему на родину, в Константиново.
Я еду к Есенину, еду впервые…
И вот я в Константинове… Над лесом возрождалась луна. Белеющие дорожки вели мимо берёз под горку, на дальние огоньки деревенских окон. Опять, опять со мной то же чувство. Едва окажусь в поле или рядом с прекрасным человеком, молнией проносится внутри весь трепет жизни, и хочется быть талантливым и мудрым, чтобы всё постичь, воплотить и отдать душу другому.
Я шёл, купаясь в ночных запахах и звуках. Вот она, русская ночь, берёзы, бесконечная жизнь полей! И вот мы вдвоём с окружающей природой, на секунды задержанные в потоке мирового неисчислимого времени. Вспоминалась родина с дней своей колыбели, её бег в тысячелетия, вспоминались князья, цари и безымянные мужики да бабы, которых никто не отметил в летописях. Хотелось обнять эти белоствольные берёзы, прилечь на высоком берегу над Окой, куда не раз выходил Сергей Есенин, в своём молодом задоре уверенный в том, что он станет успешным и знаменитым! Он станет известным на всю Россию, его будет знать «всяк сущий в ней язык», а паломники будут приезжать сюда, чтобы пытаться отыскать его следы, ходить по траве, смотреть на окружающее с тех же тропинок и думать по-есенински…
И я молчал, поскольку лишние звуки только разрушали фантастическую картину, данность её виртуальную…
Как только я повернул к косогору, то увидел берег, глинистую дорогу к деревне, где жил Есенин, где стартовал его поэтический дар. У меня в неповторимом ощущении счастья сразу защемило и заколотилось сердце, и подумалось: «Пока стоит Россия, звучит русская речь, будет Константинова, Есенин и благодарная память о поэте. Более того, пройдёт хоть сто, хоть двести лет, и никого не будет, ни-ко-го – только берег, трава, Ока и где-то в земле – останки живших. И всё равно Есенин, дух его, будет незримо присутствовать здесь».
Вот и усадьба барыни Кашиной. Сюда молодой Есенин ходил в гости к милым барышням. И может, здесь обещали крестьянскому мальчику славу их милые женские глаза…
* * *Отчётливо помню, что был выходной день, суббота или воскресенье.
Конец сентября, самый зенит осеннего торжества.
Мы с женой бродили по Кончаловскому лесу.
Жена была на пятом месяце беременности, а потому мы шли неторопливо, остерегаясь, чтобы не споткнуться о мощную сеть корневищ под обманчиво ровной шубой листвы. Так же неторопливо мы обменивались фразами или вовсе молчали. Перед прогулкой мы задались целью набрать огромных, причудливо изрезанных листьев редких пород деревьев, посаженных в изобилии у фасада усадьбы её владельцами ещё задолго до революции. Листья, конечно же, были роскошные, затейливо-фигурные, и поражали глаз щедрой своей окраской – от лимонной до пугающе-алой, будто застывшей крови.
Мне часто приходилось бывать рядом с двухэтажным особняком и служебными постройками за деревянным забором – и летом и зимой. Я видел усадьбу, словно утонувшую в глубоком снегу и оттого казавшуюся не внушительным домом с мезонином, а небольшой избушкой, надолго уснувшей – до весны, до талых лесных ручьёв. Летом дача жила таинственной, скрытой от посторонних взглядов жизнью, соседствующей с нашей и даже входившей в неё как часть, но странным образом не имея общих точек соприкосновения и существуя независимо и невидимо для, скажем, стороннего наблюдателя из нашей среды. Но мне как-то повезло. Я оказался свидетелем редкого момента: увидел, как тёмно-зелёные постройки усадьбы поднялись на цыпочки, трепетно прислушиваясь к птичьему щебету и пению. До меня явственно донёсся тяжкий вздох откуда-то из глубин дома. И мне подумалось: «Войди я сейчас внутрь – и непременно окунулся бы в ожившую вдруг толпу известных владельцев дома либо их именитых гостей. А услыхав голоса и звуки безвозвратного прошлого, я, наверное, не выдержал бы и потерял сознание…» От хаоса мыслей и чувств, столкнувшихся во мне, я вздрогнул, я словно стряхнул наваждение. Грёз как не бывало! Дом находился в прежнем, равнодушно-созерцательном, настроении, безжизненно взирая заоконной темнотой на стену леса впереди.
Пожалуй, особенностью усадьбы были наглухо зашторенные окна, а двери балкона никогда не распахивались (вероятно, заколочены).
Нынешних владельцев дачи я не знал в лицо и даже не представлял себе, как они выглядят.
Слышал только, что они живут в Москве, а сам хозяин – художник, известный, правда, в узком кругу родных и близких.
За невысоким ветхим забором в длинном бревенчатом доме квартировал сторож с семьёй. Их я иногда встречал в Кончаловке, где они рубили сухостой, подбирали валежины или же косили на редких лесных полянах траву.
Посреди двора, на самом взгорке, стояла вместительная конура, возле которой лежала большая чёрная дворняга, редко лаявшая усталым сиплым голосом. Скошенная трава, порциями свозимая из Кончаловки, сушилась на дворе в течение всего лета, а потому даже при малейшем солнце вокруг усадьбы гулял дурман покосного разнотравья.
Напротив бревенчатого дома, у ограды, примостился аккуратненький квадратный домик, похожий на баньку.
Глухая дверь и жалюзи на окнах делали строение совершенно неугадываемым: что это за клетушка, для каких целей предназначена? Впоследствии выяснилось, что это мастерская художника.
Тропинки Кончаловского леса сливались у дачи в накатанную дорогу.
Взгорок, на котором стояла усадьба, окружённая густой толпой сосен, елей и экзотических деревьев почтенных возрастов, продувался снизу лёгким ветерком.
Слышно было, как где-то у его подошвы по невидимому отсюда шоссе весело мчались грузовые автомобили.
Мы с женой подошли к воротам усадьбы, возле которых приметно застыла старомодная бежевая «Волга» с бегущим оленем на капоте.
– Вот удача! – сказал я жене. – Кажется, хозяева приехали.
Жена призналась, что она будет собирать листья, пока я побеседую с людьми, стоявшими у калитки, возможными владельцами дома.
Любопытство моё оказалось столь неистребимым, что я решительно подошёл к калитке, без тени смущения поздоровался и слукавил:
– Извините, пожалуйста, бывают здесь когда-либо хозяева?
– Мы и есть хозяева, – устало отозвался пожилой скуластый мужчина в кепке-восьмиклинке.
Он был одет в фуфайку и сапоги.
– Вы… хозяева? Невероятно! – проиграл я дальше роль простака. – Сколько не прохожу мимо – и хоть бы единожды с кем-нибудь встретился! Сторожа и того издалека только видел.
– Мы как раз этим и озабочены, – проговорил хозяин без утайки. – Сторож наш квартиру в городе получил, взял расчёт. Образовалась, так сказать, вакансия. Может, вы нам порекомендуете кого-нибудь? – Он кивнул на молодого человека, стоявшего рядом, и сказал: – Товарищ вот согласен, а его тёща категорически против: дескать, тут повсюду гнездятся, как их… преступники, а потому жить родной дочери в лесной чаще она за-пре-ща-ет!
– Так и говорит, – уныло подтвердил молодой мужчина. – Сам-то я не против, а с превеликим удовольствием.
– Нафантазируют тоже: «гнездятся преступники»! Чушь ведь форменная! – с возмущением отозвалась супруга хозяина, седая женщина в берете и фуфайке. – Да тут белки сами на руки просятся, еду берут. А преступными элементами вообще не пахнет.
Совершенно запамятовав, что передо мной владельцы дачи, я рассказал следующее:
– Вы знаете, у моего знакомого близко отсюда садово-огородный участок. Жаловался как-то: дескать, кладбище через овраг привносит свой колорит, особенно весной, когда перекапывается земля, а траурные марши такую тоску нагоняют, что хоть катафалк для себя вызывай.
– Неправда! – вскипела хозяйка. – Вы либо сильно преувеличиваете, либо… неудачно шутите. Здесь можно, извините, слушать тишину, а прекрасно так, что нет слов…
– Кроме того, молодой человек, ежемесячная зарплата за лишения и неудобства, я думаю, не мелочь, – многозначительно произнёс владелец дома. – Бывший сторож не жаловался, был доволен всем. Абсолютно.
Спорить было, конечно же, не резон, и я поинтересовался тем, что занимало меня давно.
– Простите, пожалуйста, а почему усадьба не пострадала во время войны? Ведь здесь проходил фронт, и бои велись нешуточные.
– О-о, тут целая история, – проговорил хозяин, словно ожидал моего вопроса, и стал охотно рассказывать: – В период оккупации немцы заняли дом, кажется, под штаб, а может, под другую службу. Недалеко отсюда выжгли всю деревню при отступлении, а наш дом не тронули. Даже плетёные кресла не повредили и картины со стен не сняли. Невероятно, но факт.
– Да-да, – подтвердила супруга. – Даже картины оставили. Просто поразительно…
Трудно было понять, чего больше прозвучало в словах этой пары: восхищения перед обстоятельствами, в результате которых их дом не сгорел, или же радости собственника, которому вернули в целости и сохранности взятую напрокат вещь. Не знаю.
Но моё настроение резко изменилось. Мне неожиданно стало скучно и неинтересно.
Я попрощался с владельцами дома холодно-учтиво, уже без прежнего обострённого желания поговорить, пообщаться с наследниками исторических личностей, передавших им свои генетические программы, а значит, как я полагал, и отзвуки их великих мыслей, взглядов, поведения.
* * *Макушка лета…
По-прежнему в Константинове причаливают белые пароходы, хотя и обмелела древняя река Ока. Приезжают теперь больше на автомобилях или в туристических автобусах с размашистыми надписями на боках: «Автолайн». Кто-то из есенинских паломников, ещё блуждая на поворотах дальней дороги, мечтает о завтрашнем свидании с Константиновом, образом великого русского поэта Есенина, думая, что задержится здесь на несколько дней, чтобы подумать о превратностях жизни, а другие, пользуясь случаем, степенно обойдут во время остановки комнаты и огород музея, купят яблок и вишен и поедут, как ни в чём не бывало, завершая оплаченное туристское удовольствие в дорогом автоэкспрессе, – счастливые, умиротворённые и философски рассудительные.
«В чём же тайна любви, печали или счастья? – размышлял я у самой воды, в дальних лугах, а то и у дома Есенина. – И кому она открывается? И отчего так внезапны и озарение радостью, и сокрушительный конец?»
Уставший и измождённый возвращался я в есенинское Константиново… Мне открылась пустая длинная невзрачная улица с колдобинами. Тут неофит удивился бы простоте и несхожести заповедного есенинского села с тем, что воображалось ему по печатному слову поэта. И спрашивал тогда он себя: «Неужели это и есть зашифрованная тайна поэта – сегодня он в черёмухе и яблоневых садах, а завтра в криках улетающих на время зимы птиц?»
А в доме, ступая по обыкновенным полам и принимая устроенный музейный уют за крестьянский, кто-то рассматривал на больших фотографиях и рисунках по-мальчишески юное, красивое лицо Есенина на фоне бережно запечатлённых дорожек и крутых берегов, деревьев и огородов. Кому-то суждено молитвенно постоять и сохранить свои чувства надолго, не имея смелости и проворства передать их белому листу бумаги. Другим не терпелось в музейной тетрадке зафиксировать впечатления от встречи с виртуальным Есениным.
* * *Я шёл заливным лугом по наезженной машинами колее. Ближе к реке дул порывистый ветер, а здесь – райское затишье и небольшой солнцепёк. Эта часть поймы походила на дно огромной тарелки, один край которой откололи. С противоположной стороны вздыбился косогор по-над Окой. Там раскинулось Константиново есенинское. Отовсюду веяло покоем и отдохновением. Сено убрано, только слева от колеи лежали потрёпанные от времени валки на серо-жёлтых иголках стерни – целая полоска. У крайней из трех копёшек, вставших на моём пути, приметно двигались две фигурки занятых делом людей, а рядом с ними неброско темнело пятно на дороге – собака. Скоро я обнаружил почтенного возраста пару, убиравшую перележалую траву, – старика и старуху. Она орудовала граблями, сгребая сено в охапки, он перетягивал их верёвкой и носил к копёшкам.
Когда я поравнялся с ними, то старуха повернулась и, ткнув в меня пальцем, равнодушно приказала собаке:
– Куси его, Шапкин! Куси! – и засмеялась, показав три бело-коричневых зуба, нелепо торчавших из верхней десны.
Я остановился, проговорил досадливо:
– Эка, вы, бабушка! Точно ребенок малый. Ну а укусит? Тогда сорок уколов по вашей милости принимать.
– А ты, милый, не пужайся, – шамкая, сказала старуха. – Нарошно ведь я. Шапкин ни бельмеса не слышит, потому как глухой напрочь пёс.
Подошёл старик, работавший поблизости, свалил с плеч охапку сена, пожурил старуху:
– Нечего зазря науськивать. Человеку откуда ведомо, что за зверь Шапкин? – И, повернувшись ко мне, пояснил: – Тугая на ухо собачинка. Побили крепко. На манер контузии вышло со слухом-то, только глаза да нос остались.
– Почему назвали Шапкин? – поинтересовался я.
Старик охотно рассказал:
– Механизатор один привозил торф соседке, ну и пристал: дескать, продай пса на шапку, за червонец. Послал я его, конечно, куда подальше. С тех пор кобеля Шапкиным прозвали. Так-то псина ничего, смирная. Зато ночью в огород не лезь – штаны мигом спустит.
Старуха ушла сгребать сено. А мы со стариком разговорились. Ему восемьдесят один год, а жене его, Евдокии, семьдесят третий. Проживали они в небольшой пятистенной избе – отсюда не видно их «усадебку», схоронившуюся за другими избёнками.
Хозяйство стариков небольшое: коровёнка, пяток кур да петух. Дети, конечно, есть, «обойма целая», кто где сейчас. Меньшие в Рязани живут и прежде на машине приезжали.
– Помогают хоть? – поинтересовался я.
– Помогают, но изредка. Да и то ить: им хоть самим помогай – заняты по горло.
Оглядев запорошённую неубранным сеном полоску, я предложил:
– Давайте помогу.
– Коли не торопишься – давай, – охотно согласился старик.
Работа оказалась не такой лёгкой, как представлялось сначала. Поупражнявшись с граблями и вилами, потаскав охапки вяленого на солнце сена, я стал загнанно дышать, на ходу смахивая лившийся в глаза пот. Старик, как мне почудилось, нет-нет, а критически посматривал на то, как я усердствовал, отмечая, видно, по привычке сельского жителя городскую мою неумелость, досадные промахи в работе. Но вот он предложил:
– Перекурим, что ли?
Я молча согласился, отложил вилы, верёвку и вспомнил, что мы даже не познакомились.
– Василий Фёдорович Храмов, – назвался старик.
Представился и я.
– Из каких мест? – поинтересовался Василий Фёдорович. – С такой фамилией у нас полдеревни значилось.
– Отец из Смоленской области, мать из Хабаровского края. Сам родился под Рязанью, вырос в Сибири, теперь живу в Москве. Вот и разберись, каковский? – был мой ответ.
– Российский, значит, – хитро подмигнул старик.
Далее Василий Фёдорович рассказал, как воевал в Первую мировую, за что награждён Георгиевским крестом. Застудил ноги, был ранен. Не обошла его и Гражданская война. Вновь ранение, награда. В Великую Отечественную на фронт не попал, хотя просился добровольцем. В мирные годы трудился путейцем – вот и дали бронь, поручив восстанавливать железнодорожные пути.
– Лучше бы на передовую послали, – признался старик.
– Что так?
– Тяжельше, чем здесь, кажись, и не было, – горько посетовал Василий Фёдорович. – Налетят фашистские «мессеры», бомбы накидают, так пути испоганят! До сей поры дивлюсь, как чинить поспевал.
За рассказом Василий Фёдорович вытянул мешочек, затянутый веревочкой. Кисет. Достал стопку аккуратно нарезанной газетной бумаги. Подрагивающими пальцами скрутил папироску. Закурил.
– Сколько годков минуло, а нет-нет и приснится, как руки от железа каменеют, поют на морозе, звенят, – с задумчивой медлительностью проговорил Храмов. – А я будто кую, сверлю, гайки заворачиваю, костыли вбиваю. И кажется мне, что не успею, не закончу работу…
Подошла старуха, послушала, о чем говорил муж, сказала во время паузы:
– До войны я жила в Калужской области, там деревня наша стояла. Место видное, потому Красной Горкой прозвали. Фашист и постарался, дотла всё пожёг. Три дома уцелели.
– Вы здесь оставались, – спросил я, – во время войны?
– А то где же? – удивилась старуха. – Да с детками. Пятеро их у меня было. Хорошо ещё, что наши не дали фашистам долго куражиться, а то поубивали бы или с голоду померли. Меньшого-то не уберегла, около плетня нашла со вспоротым животиком. Видать, подлюка какой-то на штык поддел. И чего дитё малое о двух годочках могло злыдню чужеземному исделать?
– Идеология у них была такая, звериная, – подсказал я.
– А ведь не жить бы моей бабке, если бы не племянница, – вступил в разговор старик.
– Почему?
– История одна случилась, – криво усмехнулась старуха и рассказала: – Как немец драпать приготовился, так стал в Красной горке избы сплошняком жечь. Пришёл черёд моей гореть. Я хватанула лопату и в сердцах на фашиста сзади наскочила. Только замахнулась, а меня кто-то со спины обхватил – и наземь. Гляжу, а это племянница, белая от ужаса, так вцепилась – не оторвать. Трясётся и шипит на ухо: «Дура ты, Дуська. Перестреляют и тебя, и ребяток твоих. Терпи измывательства и не рыпайся». – Старуха помолчала, вспоминая, наверное, то далёкое горькое время. – Ну а как дед мой возвернулся, то спервоначалу землянку вырыли. До осени прожили. А потом к нему в Рязанскую область переехали, в Константиново. Избу свёкра подлатали – до сих пор там и живём…