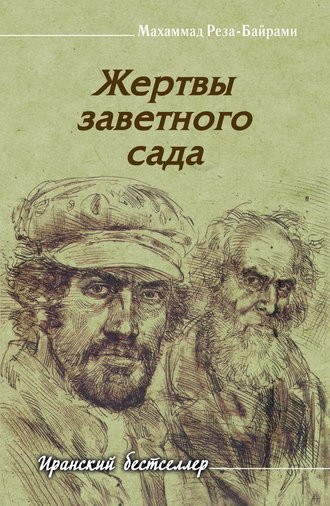
Полная версия
Жертвы заветного сада
– Кстати, до чего же твой голос внушительный! Почему ты его не используешь?
Балаш растерялся: он-то пришел со стихами…
– Голос? А какое значение имеет голос?
Дузгун вышел из-за стола. Он тогда еще был весь – напор и деловитость.
– Ты действительно не понимаешь этого? Но ведь мы сегодня – это и есть наш голос, и народ по речам только и узнаёт нас и повсюду поддерживает! Почему краткое объявление факта – того, что завтра будет подписана капитуляция Японии и закончится Вторая мировая война, – перетянуло на нашу сторону огромные массы людей? Повсюду начались демонстрации и митинги. Все вдруг стали за нас. В Ардебиле, Хое, Сарабе, Маранде, Такабе, Зенджане… Даже в Гиляне! Почему? Из-за трех фраз в газете? Да ведь народ наш устал от угнетения. Нам нужна справедливость. Нам нужно, чтобы богатства страны использовались по справедливости и чтобы рабочие места тоже были доступны всем. Нам нужны школы, дороги, больницы. Мы хотим, чтобы нас замечали и помнили о наших правах. Чтобы мы могли читать на родном языке, писать на нем… Ведь весь народ скандировал: «Пишевари, Пишевари, за собою нас веди!» Целые города «ура» ему кричали! Не по какому-то недоразумению, а потому, что слышали в его речах голос свободы и голос требования права, – поэтому нас поддерживают! А ты говоришь, «какое значение имеет голос»? Говоришь сегодня, когда мы так еще должны прибавить громкости, чтобы не только весь Иран, а и весь мир нас услышал! Чтобы не только режим Кавама – Пехлеви, но все мировые режимы услышали бы нас, пусть они даже глухонемые. И вот в этих условиях наш добросовестный гражданин, который сам пишет и читает стихи на азербайджанском, приходит ко мне и говорит, «зачем нужен мой голос»?!
Дузгун похлопал руками и продолжал:
– Посмотри, какое достоинство у наших сограждан! Задумывался ли ты, что только голос и останется даже тогда, когда мы все исчезнем, – голос твой останется!
Последние слова Дузгуна заставили Балаша по-настоящему задуматься, а затем и понять, что его собеседник прав. Действительно, остается лишь голос, пусть даже долетевший издалека. Честный голос обязательно коснется народного слуха. Даже не сомневайся в этом. Голос не исчезает, как и Бог не исчезает.
В этот день Дузгун – быть может, непроизвольно – сказал, что они должны исчезнуть. Однако кто тогда мог предположить, что исчезнут они столь быстро? Через год и считанные месяцы всё распалось! Всё! Всё это государство, и весь их порядок, и все их дела и планы. Государство их официально возникло в декабре 1945 года, и в том же месяце декабре – но уже 1946 года – оно официально ушло из жизни. Именно тогда, когда вообще-то следовало праздновать первую годовщину, и праздник этот уже запланировал Чашм-Азар, который был не только главой радиокомитета, но и, так сказать, оком партии… Но вместо праздника пришлось проводить поминки по погибшим! День 11 декабря 1946 года вошел в историю как «день большой резни». Сколько голов попало тогда в петли виселиц, скольких искромсали, сколько пуль пробило души чистые и души грязные! Перед расстрельными командами люди стояли с такой верой в победу, примеров которой в истории мало. Эти люди были счастливы, погибая! Быть может, потому, что они были молоды, ведь, если бы пожили подольше, догадались бы, что всё, что с ними происходит, было лишь чужой игрой… Но как просто их обманули и как просто – с какой небрежностью – их убили! Бессмысленные смерти! Подлый обман, в котором, как всегда, жертвами становятся простые люди, хотя и некоторые вожди тоже поплатились. Например, те, которые стояли перед Багировым[12] и требовали оружия, чтобы вернуться на родину и продолжать сражаться, а этот субъект – глава советского Азербайджана – повторял раз за разом: вы потому потерпели поражение, что не порвали окончательно с центральным правительством. Он не сказал: потому потерпели поражение, что мы вырвали из-под вас опору; потому что, как гласит поговорка, старая корова вытащит арбу из грязи. И Кавам – этот старый политик – взялся за дело и слетал в Москву и дал слово (которое никогда не было выполнено), что правительство уйдет в отставку, а на выборах сформируется новый меджлис… Может, всё это для того только, чтобы напомнить советским старую истину: предательство наказывает само себя…
Не думаю, мальчик мой, что эти слова имеют для тебя какое-то значение. А потому вернемся к Балашу…
Дузгун спросил:
– Кем ты работаешь?
– На базаре Тебриза, торгую разносчиком.
– Разносчик на базаре? Чем конкретно занимаешься?
– У меня тележка с примусом. Жарю картошку и продаю с хлебом и зеленью. Продаю людям, которые хотели бы пообедать и поужинать подешевле.
– И при этом ты пишешь стихи?
– Пишу, когда вдохновение приходит…
Продолжая расхаживать по кабинету, Дузгун сцепил руки на затылке. Балаш не мог понять, о чем тот думает, и вдруг вновь увидел перед собой поэта, глядящего ему глаза в глаза.
– Забудь о тележке с примусом! С сегодняшнего дня забудь о базаре! Завтра с утра приходи на радио! С таким голосом ты можешь быть диктором. Да еще любовь к поэзии. Может быть, и в газете буду тебя печатать. Для начала заметки, и вообще, наверняка ты сможешь писать.
Балаш был изумлен.
– Не знаю, – ответил он. Но Дузгун поощрительно сжал ему руку, чтобы придать ему уверенность.
– А я уверен, что сможешь. Многие большие писатели начинали с газетной журналистики. Может, и ты станешь писателем и покажешь наш великий народ и трудности, которые он преодолевает во имя свободы людей и Ирана. Как всегда, тяжесть эта легла на Азербайджан… Ведь ты, конечно, слышал о Шолохове? Михаил Александрович Шолохов! Автор «Тихого Дона» и многих других книг – кое-что здесь переведено, но его главный шедевр – пока еще нет. В СССР его ставят рядом с Максимом Горьким. И ты знаешь, с чего начинал Шолохов? С газетной работы! Писал о заготовке леса для газеты «Правда», работал со сплавщиками леса на лесопилках, потом – использование древесины в судостроении и так далее. Это вначале, потом, во время войны, – репортажи с фронта, в общем, стал великим национальным писателем, изображал труд простых людей.
Балаша впечатлила широта интересов мастера. Дузгун не только знал о крупных советских писателях, но и до мелочей доходил: например, как правильно произносить по-русски слово «правда»? Балаш лишь значительно позднее понял – увы, слишком поздно для себя, – что «правдой» в жизни бывает и нечто другое… Например: человека в городе Миане хватают и волокут на виселицу за то, чего он не совершал, – вот правда! Подвергнуться жестоким пыткам… Стать не просто федаем по названию, но способным на жертву, способным сделать всё, чтобы спасти то, что осталось, то, что еще можно спасти… Оказывается, не зря говорят: груз поднимает сильный, а боль выдерживает добросердечный.
Но в тот день речь шла у них о другом…
– Мне знакомо имя Шолохова, – сказал Балаш, – но вообще-то я всего лишь начинающий поэт-любитель. Читаю я маловато…
Дузгун сунул ему под мышку два последних номера «Азербайджана» и, выводя его из кабинета, напутствовал:
– Молчи! Ни слова больше не говори! Я лучше вижу, кто ты на самом деле. Завтра утром будь у приемной Мир-Гасема!
– А кто это? – осмелился спросить Балаш.
– Мир-Гасем Чашм-Азар! Глава радиокомитета!
И вот Балаш вышел на улицу, едва понимая, где он и что с ним происходит. Он и имени-то Чашм-Азаране слышал, и вообще радио не очень любил – только литературные передачи. Например, когда Дузгун сам читал свои стихи. Балашу особенно нравились такие его стихи, как «Помни меня», – стихотворение, кстати, напоминало ему поэзию Дехходы[13]. Он и газету-то «Азербайджан» нес, которую он получил, как большую ценность, не потому, что мог бы из нее узнать новости о Демократической партии, о ее полезных делах или о последней речи Пишевари, о том, куда и зачем прибыл генерал Гулам Яхья. В газете ему хотелось прежде всего прочесть литературную страницу. Но этого хотелось ему, а судьба полагала иначе, и вот уже «оленьи рога зацепились за толстый сук»…
Он не запомнил, во сколько ему было сказано прийти на радио, и поэтому пришел в семь утра. Обжигающей стужей дуло со стороны гор, мороз кусал уши и нос. Зима укрыла снегом не только горные вершины, но и целиком склоны гор, видных из Тебриза. В такую погоду на базаре на товар Балаша был большой спрос. В старинном крытом рынке народ собирался вокруг его примуса, и люди с удовольствием протягивали руки к огню, грея их, вдыхали пар жарящейся картошки. При этом они еще и просили Балаша «почитать бейты», не зная, что он читает только под настроение, когда на сердце тяжесть, или, наоборот, когда хочется распахнуть душу, или когда вспомнится что-то, вспомнится милое прошлое, прекрасное прошлое… Он был ребенком, он был двухлетним милым мальчиком – что еще он мог сказать о себе? Ничего значительного, кроме того, что тогда родители не могли сказать ему «нет», и если он просил что-то прочесть, то ему читали – только не надо грустное – хорошо, не буду грустное – это всё равно грустное, нет, это хорошее… Потом, через год, на государственной границе, возле реки, возле деревянного моста, он тоже попробует читать стихи, нужно будет только сосредоточиться, вспомнить рифмы, вспомнить мелодию строки… Вот федай, водитель трактора, песню пытается спеть, и сводят с ума эти обрывки стихов… Но сейчас Балаш перед дверью радиокомитета, и он ходит, и топчется, и всё смотрит на охранника в дверях, и вот один за другим появляются люди, закутанные от холода, и кивают охраннику или жмут ему руку, и входят внутрь, а Дузгуна всё нет…
А потом поднимается солнце, но холод всё также невыносим, и Балаш уже не может понять, как он держится на таком морозе, и уже он говорит себе: «Неужели так и не появится?» – и вдруг слышит голос:
– А ты чего тут мнешься?
Он оборачивается: это Дузгун. В пальто и в русской меховой шапке – эту шапку Балаш позже в редакции газеты будет рассматривать на вешалке, и Дузгун войдет, как бы застав его врасплох, и скажет:
– Чего так вздрогнул? Если нравится тебе – она твоя!
И Балаш опять, как в их самую первую встречу, будет мямлить что-то и краснеть от стыда, почему-то он не умеет красиво выходить из таких ситуаций, например, сказать, мол, обдумываю статью, или найти еще какую-то изящную фразу, хотя бы сказать, мол, размышляю о том, где буду через неделю, или: да я вообще, честно говоря, о другом задумался, на шапку не смотрел… Вместо этого он улыбнется и скажет: «Благодарю, учитель! Но для моей головы она слишком велика!»
И теперь уже настанет очередь Дузгуна как-то смутиться, что ли, и посмотреть на него с удивлением. А Балаш – наверное, потому, что сам был смущен и напряжен рядом с тем, кого он очень уважал, – в тот момент не поймет, в чем дело, но лишь почувствует, что слова его не понравились Дузгуну, словно кольнув его, или тот в них захотел увидеть какой-то намек – в то время как Балаш ничего подобного не имел в виду, ведь он, сам не объясняя себе причин этого, чувствовал громадное уважение не только к стихам Дузгуна, но и ко всей его личности…
– …Разве я не сказал: у приемной Чашм-Азара?
Балаш молча указал глазами на охранника.
– Не пропустил тебя?
Балаш кивнул, а Дузгун, проводя его мимо охранника, заметил тому с улыбкой:
– Попадет же тебе! Почему моего гостя заморозил до смерти?
Они прошли через двор и поднялись по лестнице. Здесь Дузгун оставил Балаша перед одной из дверей, за которой сам скрылся. После довольно долгого ожидания появился юноша.
– Пожалуйста, идите за мной.
И Балаш пошел за ним, не спросив, кто он и куда его ведет. Они спустились в подвал и открыли обитую кожей дверь, за которой их встретил седой пожилой мужчина. Юноша сказал ему:
– Господин Чашм-Азар распорядился срочно сделать вот для них пробную запись голоса.
Пожилой мужчина, видимо звукооператор, указал Балашу на кресло.
– Садитесь, сейчас я всё объясню.
И Балаш сел перед черным микрофоном, с которым ему суждено было провести столько времени. Старик ушел в комнату за стеклом, вскоре вернулся.
– Всё готово к записи… Мне вам дать текст или сами что-то прочтете?
– Мне всё равно, – ответил Балаш… У него как-то кружилась голова; казалось, он вступил в страну чудес. Старик положил перед ним номер «Азербайджана».
– Читайте! Любой отрывок, какой хотите. Только не быстро, спокойно и размеренно. Следите за моей рукой, я подам сигнал, когда начать и когда закончить. Понятно?
И Балаш читал новости из газеты о введенных в строй дорогах, и о строительстве большой больницы, и о том, что обширные земли отдаются крестьянам. Всё это время он следил за жестами старика-оператора, и вот: знак закончить чтение, конец работы. И ему выдается листок бумаги, и он не знает, что там написано, примут его или нет. Но оператор выглядит довольным.
– Отдайте, пожалуйста, в секретариат господина Чашм-Азара. Это и всё, что от вас требуется.
«Всё, что от вас требуется»… Точные слова!
4
Я слышу журчание воды. Этот звук явно не только сегодняшний, но приходит словно бы также из далекого прошлого. Журчит вода ручья, затерянного в некошеных полях, где среди трав торчат султанчики полевого хвоща, прикосновение которого приятно до болезненности. Особенно в эту влажную погоду на этой сыроватой земле возле ручья, где прямо перед глазами скачут лягушки и прыгают в воду, отчего летят брызги и мочат лицо. Но холодные эти брызги вызывают скорее удовольствие… И были еще бабочки, живущие рядом с водоемами, они иногда порхали, иногда садились на высокие травы, напоминающие хвосты лошади, слегка качающиеся и закрывающие лицо от солнца, чтобы оно не било в глаза. Запах пороха уже развеялся, как и этот голубоватый дым, что постепенно уплыл прочь. И уже забывается гром выстрела – единственное черное пятно, которое как бы еще висит на этом солнечном дне, но уже вытягивается, и бледнеет, и как бы уходит… Но и он уходит. Был тоже и отец там! Взгляд мой как-то сам упал именно на это место, где журчал родник, и тек по камням, и собирался в озерцо, а затем водная гладь исчезала в камышах. Отец уже не глотал воду, припав к роднику, и вода, которая текла в озерцо, уже не была красной. А может, и была, но я уже повернулся лицом к небу – вроде той черепахи, которая если лежит на спине, то ей трудно быстро перевернуться обратно, – и не видел цвета воды. Однако я еще мог слышать его стон и его слова, хотя и глухие, какие-то отрывочные:
– Я сгорел… О Боже, я горю!
Словно этот голос хотел умереть раньше его владельца. Всё это я хорошо помню, даже запах влажных трав и запах коровьего навоза – свежей его лепешки тут, неподалеку, она еще не успела засохнуть. И над ней вьются мухи, и я слышу их жужание и вижу их крылышки, у некоторых они такого цвета, что не скажешь, синие они или зеленые.
– Булут! Булут! Ты где?!
Голос теперь доносился яснее и говорил что-то новое. До сих пор он повторял только: «Я сгорел… О Боже, я горю!» А теперь он долетает откуда-то с ближнего холма или из лощины. Неужели, кроме меня, никто не слышал его? Или притворялись, что не слышат?
– Булут! Эге-гей! Ты где?
Опять этот голос, и он стал еще ближе, он уже не от ручья идет. И это не голос отца. Нет, не отцовский!
И вдруг я весь заледенел. Точнее, я пришел в себя и осознал, что я весь заледенел, так что даже и не мог встать со своего места. Неужели и раньше я принимал за него чьи-то чужие голоса?
С трудом я поднялся на ноги, в низинке, образованной руслом ручья. Я словно врос в землю, так трудно было выпрямиться. Осмотрелся и увидел, что ко мне идет Аршам. По траве, не по тропинке.
Я не ожидал его здесь. И, просто чтобы не молчать, крикнул ему:
– Эй! А ты что делаешь в этих краях, парень? – Я и в самом деле был удивлен.
– К тебе пришел! – ответил он.
Я еще был весь во власти тех воспоминаний о ручье.
– Тебе не идет быть таким заботливым, – сказал я.
– Время было. А когда оно есть, можно быть и заботливым.
Он какой-то расстроенный был. Неужели рухнули его планы отъезда?
– Нет, я серьезно. Чего это ты вдруг из деревни притащился в такую даль?
– Да не мог я на это смотреть!
– На что?
– А ты не знаешь?
– Нет. Я же тут с утра раннего. А что случилось?
– Да бык Маш-Энаята! Не знаешь, что ли? Тот, белолобый.
– Ну и что с ним? Подох?
– Нет, парень, – ответил Аршам. – Хотя я думаю, он бы сам предпочел подохнуть, чем дожить до этих дней…
Я ждал пояснений, но Аршам медлил. Поняв, что я ничего не знаю, решил потомить меня. А вообще он всегда такой. Спроси его, например, о дереве, так пока он не опишет все до единого листочка и сучка, он о самом дереве ничего не скажет. Поэтому я объявил ему:
– О чем бы ты ни рассказал, я выслушаю, но при условии: если ты сразу начнешь с конца.
Он махнул рукой:
– В деревне сейчас холостят быка Маш-Энаята!
– Нет! – невольно воскликнул я…
Я вспомнил, что этот зверюга-бык в последнее время всем давал жару. Мне самому он порвал или окровянил четыре пары штанов, или того заплатанного старья, которое я называю своими штанами. От рогов этого быка нигде и никому не было спасения! Сам хозяин, Энаят, постоянно хромал, а когда его спрашивали, где у него болит, лишь ругался и потрясал своей палкой.
– Так вот оно что!
– Да, брат, такие дела!
Аршам был так расстроен, что вначале не хотел ничего рассказывать, но постепенно разговорился и поведал обо всем: об оглушительном бычьем реве и о том, как люди из любопытства высыпали на крыши домов. Бык сегодня ни на кого не нападал, напротив, охотник сам стал жертвой. Мужчины завалили его на землю загона, покрытую навозом, и пытались спутать ноги, но не могли. Уж очень силен был бык, да и боялись они его! Пасть его была в пене, и тот единственный выпученный глаз, который был виден, увеличился до размеров пиалы. Второй-то глаз был вдавлен в землю, в навоз… И мужчины отчаянно пытались не дать ему вывернуться и не могли совладать, и от дыхания быка пыль и сухой навоз поднялись клубами, от рева – хоть уши затыкай – пена летела с губ… Энаят причитал: «О Аллах! Вы что, каши не ели, мужики здоровые?! С быком не справиться?» А сам уже орудует своим инструментом для корчевки кустов, пытаясь добраться им до того местечка, которое, видимо, и было причиной всех проблем, до того самого, что и не позволяло быку превратиться в осла, покориться и опустить голову, и слушать приказы, и таскать грузы, и пахать землю, – вместо того чтобы расшвыривать рогами не самых плохих людей деревни.
Друг мой Аршам не думал, что превращение быка в осла может быть столь некрасивым зрелищем, которое не вынесет даже такой жестокосердный человек, как он.
– Слышал бы ты его рев! Стены дрожали! Мне кажется, даже когда их на мясо забивают, нет таких мучений…
Оскалив зубы, Аршам шел сквозь овечье стадо, не глядя по сторонам, и от волнения прихрамывал. Такая у него была привычка: вздергивать вверх правое плечо, такой он был с детства, чуть кособокий, что ли. И вдруг он резко сменил тему разговора – это тоже была одна из его привычек:
– Повезло тебе, что Мир-Али далеко! Ты ведь спал, парень?
– Нет, куда там, – ответил я. – Разве можно тут спать? Чуть зазеваешься, овцы зайдут в люцерну, обожрутся, потом они лопнут.
– Значит, ты не спал?
– Говорю, не спал. Прилег просто.
– А голос мой не сразу услышал, негодяй!
Я рассмеялся:
– Я думал, только Миран ко мне придирается, а ты еще хуже!
Он тоже засмеялся:
– Да уж, натерпелся ты от него, это точно…
Я поднял с земли свой пастуший посох, и мы вместе с Аршамом обошли стадо, сгоняя разбредшихся овец кучнее.
– …Натерпелся? Это не то слово. Он меня сумасшедшим делает. Как замечу его издали, у меня в мозгу такое… Будто вижу убийцу моего отца. Знаю, что идет, чтобы цепляться ко мне. Сам Аллах бы, если бы захотел напоминать о своих благодеяниях так часто своим чадам, и то легче сказал бы: «Займись своими делами! Нам от тебя ничего не надо!»
– Да, характер у него не сахар. Разве не так? Ведь и Хадиша он поколачивает?
– Это да. Но как меня увидит, тут он весь злобой изойдет.
Солнце еще не поднялось в зенит. Со стороны гор дул мягкий ветерок, принося запах сжатых хлебных полей, запах распаренной, теплой земли. Пахло и картошкой: начало осени, время копать ее.
– Ты сам не даешь ему поводов, да?
Я почувствовал его иронию. Сегодня был один из тех дней, когда, кажется, полжизни отдашь за возможность поспать. Ветерок гнал по небу легкие облачка, которые порой закрывали солнце, бросая приятные тени.
– Да говорю же, я просто прилег. Задумался.
Он искоса посмотрел на мое заспанное лицо и на мои – наверняка – припухшие веки.
– Но выглядишь ты усталым.
– Полночи вчера картошку возили, – ответил я. – Как не устать! Домой пришли – все замертво упали.
– А на сегодня нельзя было оставить?
– А как же выкопанную картошку оставить в поле? Мы ведь не для воров трудимся.
– Зачем тогда всю выкопали?
– Откуда мне знать! Не я командую.
Мы с Аршамом сидели на холмике из камней, которые за многие годы мы натаскали сюда, очищая поле. Внизу холмика мыши нарыли нор. И вот мне представилось, будто я своими глазами вижу быка Маш-Энаята с его глазами, выпученными в страхе, ярости, ужасе, в то время как Энаят пускает в ход свой инструмент для корчевки кустов, это две палки, скрепленные не то цепью, не то прочной веревкой, которые он обычно втыкает в землю под корни куста и вырывает куст сорняка, как бы ни были густы его корни, – и уж, конечно, можно тем инструментом вырвать семенники быку со связанными ногами, вырвать, или, точнее говоря, вытянуть, может быть, еще точнее, – выкрутить, может быть, еще точнее, – выдрать, выдавить наружу, чтобы уничтожить эту непокорность, эту строптивость, эту самонадеянность… – И вот он из всех своих сил оглушительно ревет, и пена летит изо рта и из ноздрей…
– Да ты как будто засыпаешь!
– Точно, засыпаю! – ответил я. – Хадиш половины моей работы не сделал, а утром спал как мертвый. Именно как мертвый. Его несколько раз будили – не слышит, ну и вот, как всегда, досталось мне. Он ведь любимчик, сокровище Мирана… Мойщик трупов их побери!
– Так что, коров не выгоняли сегодня?
– Нет. Миран сказал, дадим им сена. Любимчика своего не стал мучить.
– С другой стороны, и в степи теперь для коров почти нет травы, – сказал Аршам. – Скоро заморозки начнутся. Тогда будете выгонять только овечье стадо, на пару с Хадишем. Тебе облегчение будет.
Он сам знал, что это не так. Ведь Хадиш – сам по себе груз, да еще не из легких. Я ничего не сказал Аршаму. Смотрел вдаль, туда, где ветер ерошил гриву травы на гребне холма. То самое место, где он отдал бы душу за то, чтобы раздался звучный голос и позвал за собой…
– Наверное, каждый бы на его месте вел себя так же, – сказал Аршам. – Ну представь себе: у него рождается пять дочерей одна за другой, а сколько обетов, сколько молитв! Мама говорит, он своего единственного сына сразу стал баловать.
– Если бы он чуть раньше родился, – ответил я, – мне бы так тяжко не пришлось. Миран отпустил бы меня и занялся своими делами.
– То есть ты думаешь, что Мир-Али тебя потому усыновил, что уже не чаял дождаться своего сына?
– Нет, – ответил я. – Думаю, не так всё просто.
Хотя я, сколько ни размышлял, не мог понять, как всё могло сложиться иначе.
И я опять словно бы вернулся к тому ручью, невольно.
Миран нашел меня у ручья Атгули. Возле трупа моего отца. Кто был мой отец и куда он направлялся – этого не знал никто. Никто не знал, ни как его зовут, ни откуда он пришел, как попал к нам и почему был убит. Болтали об этом много, не поймешь – правду или ложь. Даже при мне болтали, я слышал.
– …Это из беглых, в розыске. Шел к границе. И у него был конь и оружие!
– Из-за коня и ружья его и убили.
– Убийца свел с ним счеты. Личные! Никакой политики не было.
– Но почему именно здесь убил?
– Кто теперь знает? Может, он давно за ним шел, а там место укромное. Может, узнал, что он хочет бежать за границу, и решил посчитаться, пока не ускользнет…
– Нет, всё было не так. Отец Булута свернул к ручью, чтобы набрать воды. Отложил ружье и наполнил флягу или кувшин. Нападавший это увидел – он издали наблюдал. Решил украсть ружье, но завязалась драка, и тот был убит из собственного ружья. Пуля вошла в грудь и вышла со спины. Однако умер он не сразу. Он еще дополз до родника, чтобы напиться, и выпил столько воды, что из дырки от пули текла уже не кровь, а вода.
– И вроде бы звал на помощь… Истекал кровью, а всё кричать пытался.
– Следы от крови долго еще оставались на сухой траве. Кровь, видишь ли, так просто не исчезает!
– Мир-Али сам рассказывал, что видел всадника, скачущего прочь, а из-за плеча или, там, из-под мышки торчало дуло ружья. Поскакал в сторону гор.

