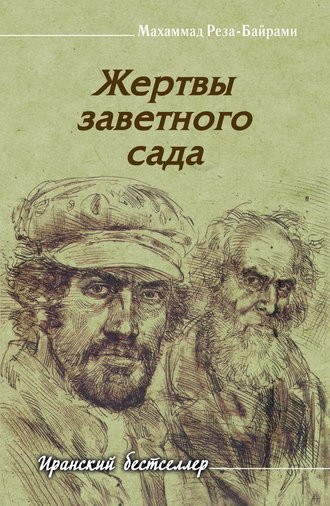
Полная версия
Жертвы заветного сада
– Во сколько точно вас распустили?
– Сколько часов у вас заняло дойти досюда?
– Как зовут вон того, третьего, который куском материи обмотал ноги? Из какой он деревни? Отца его как зовут, знаешь?
– Когда вам Мурад Биглу командовал разойтись, что он сказал дословно?
– Отдал ли он приказ лично или кто-то другой вам сообщил?
Он упорствовал в этих вопросах, выискивая несовпадения и пытаясь уличить говорящих во лжи. Но как будто бы это ему не удавалось. Следовательно, можно было считать, что он добрался до истины. Потом он собрал их всех и спросил:
– А теперь скажите мне честно и откровенно: что делается в Зенджане?
И они рассказали… И о том, чему сами были свидетелями, и о том, что слышали от людей, распущенных позже них, но после обогнавших их по дороге в тыл на конях или на машинах. Новости были столь страшные, что долго еще после ухода колонны полковник и его спутники не могли прийти в себя.
Приказ отступать пришел с самого верха: от начальника штаба национальной армии, генерала Махмуда Панахияна. Одну тысячу четыреста федаев с оружием распустили по домам, один батальон отправили в Тебриз, и, таким образом, из пяти тысяч защитников Зенджана осталось всего 1900 человек, из них 1200 федаев, остальные – мобилизованные солдаты. Командиры пытались оспорить распоряжение начштаба, но он ответил, что приказ подписали Пишевари и Данешьян и, следовательно, ничего изменить нельзя. Это было то самое, что еще раньше они все слышали немного в других словах, а именно: сопротивления не оказывать, не давать поводов…
Полковник ушел в свои мысли, и для него тоже было удивительно, почему фронт в Зенджане оголили именно тогда, когда в войсках была наибольшая нужда, а именно когда в город вот-вот войдут шахские части и, нарушив собственные обещания, навалят гору трупов, например сровняют с землей примерно двести домов вместе с их обитателями. Если даже сами шахские военные этого не делали, то это было дело рук вооруженных людей его превосходительства господина Золфагари, а также и других, тоже поддержанных армией. Это всё, не считая партийных и городских руководителей, которые были арестованы непосредственно армией и посажены в тюрьму, с тем чтобы вскоре быть судимыми военно-полевыми судами и расстрелянными.
Удивительные дела!
Но было то, что было, и ничего тут не поделать…
2
…Эх, если бы это было правдой и ты всё это видел, Аршам…
Аршам знал всю мою подноготную. Когда он собрался уезжать, я вырыл из земли свою жестянку. Все деньги из нее высыпал в руку и понес ему, не пересчитывая. Был ранний вечер: то самое время, когда любили мы прыгать с крыши вниз или с одной крыши на другую. Но теперь Аршам уезжал, и ему было не до этого. Я подошел к их дому и свистнул. Пришлось подождать, пока он выглянет.
– Чего не заходишь?
– Дело к тебе есть.
– Какое дело?
– Выйди – скажу.
Он вышел ко мне. В сумерках я нащупал его руку и переложил в нее всё, что сжимал в кулаке.
– Это что? – он удивился.
– Деньги. Денег не видал?
– Ну, деньги-то я видал… Но зачем ты их даешь?
– А зачем они мне здесь? Ты едешь в город, там потратить можно. А здесь только прятать. Даже если тут и куплю что-то – куда дену? Как с рубашкой будет…
Рубашку я купил у коробейника. Явился тогда он почти в полдень, с горного перевала. Вел на поводу черного мула, но мул был так нагружен, что едва виднелся из-под вьюков. Когда они спускались с горы, мы всей деревней смотрели на это зрелище – на некую разноцветную и громко звенящую кучу, которая как-то ворочалась на горной тропе и то показывалась, то опять скрывалась из вида, и только если ты был очень терпелив и смотрел очень внимательно, то тогда ты увидел еще и шар, катящийся впереди этой кучи, тогда следовало еще потерпеть, пока они приблизятся, и, наконец, ты понимал, что этот шар – меховая шапка, а куча – это мул с навьюченным грузом. Там было всё, от цветных тканей до разнообразных брюк и рубашек, и домашняя утварь – сита, решета, – и бубенцы разных форм и размеров, от верблюжьих до ягнячьих. И весь груз был увешан ими, и они бренчали вовсю. Я так думаю, торговец для того и навесил их, чтобы все поняли: он явился или вот-вот явится. Развесил бубенцы каждого типа по нескольку или даже по многу штук вместо того, чтобы втиснуть их в мешок или в кувшин, где бы они занимали меньше места. А так я даже не знаю, что вначале: услышал ли я этот звон или увидел разноцветные ткани. Думаю, никто до той поры не слышал одновременно столько звона: десятки колокольчиков бренчали так, будто хотели сообщить очень важную весть. И эта весть подняла на ноги всю деревню, и народ повалил к разложенным товарам, где было что-то для каждого. Коробейник зря не являлся. Сразу же поднялся свист в дудочки и свистки, что продавались детям, и звон бубенцов. Но я не из тех, кого влекут такие штуки. Я сразу приметил другое: шерстяную рубашку кофейного цвета, а на груди ее трехцветная нашивка – красным, белым и зеленым. Как знамя Ирана, что висит над крыльцом школы.
От шерстяной рубашки я взгляд не мог оторвать. Я был вроде тех голодных людей, которые порой стоят возле уличной харчевни и смотрят, как едят посетители. Вроде стараются не попасться им на глаза и вдруг понимают, что это не удалось, потому что взгляд наблюдателя меняет вкус еды. Уже нет прежнего удовольствия или самозабвенности поглощения пищи, уже почти кусок в горло не идет, а хуже всего, если обедающий повернется и прямо уставится на этого наблюдателя, или, откровенно скажем, на помеху. (Однажды мы ездили в Сарэйн, где есть горячий источник, и гуляли по улицам, и там-то я всё это и видел – и, кстати, за воды горячего источника тогда еще не брали денег, так как народ не понял еще, что за воду можно выручить больше, чем за кумыс.)
Вот эта пара глаз моих – чего только не видала!
Так же и тот бродячий торговец. Остановился он у ручья, и в той сутолоке, что создалась, – а его прямо толпой окружили, и он с каждым о чем-то болтал, так что мне казалось: челюсть его вот-вот отвалится, – все-таки пару раз взгляд его остановился на моем лице, или, может, точнее сказать: пару раз он застал меня врасплох. Даже было видно, что на миг он потерял нить разговора, или, точнее говоря, я настолько отвлек его, что он даже забыл затягиваться самокруткой, – а он ни на миг не выпускал ее из рук или из губ и, еще не докурив одну цигарку, уже крутил следующую, и смачивал бумагу языком, и закручивал кончики самокрутки, или сыпал в бумагу табак для новой, а потом разминал его пальцами и разравнивал, и разминал готовую цигарку, а потом… Не знаю, после которого взгляда на меня раздался его голос:
– Ну, паренек… Тебе чего-нибудь надо?
Цигарка дымилась, а сам он смотрел на меня так же, как наши пацаны, когда на улицу выйдут со вкусным куском, смотрят на собак: как бы не вырвали из рук лакомство да не сбежали. Я изобразил удивление:
– Я?
Он в это время продавал женщине «яялык» (летний платок) и протянул руку за деньгами. А она доставала монеты двумя пальцами из узкого кармана юбки так, как будто вырывала самое дорогое из души, и, протягивая деньги торговцу, всё еще продолжала торговаться, а он ничего ей не отвечал, и женщина одну монету все-таки вернула в кармашек и больше ее оттуда не доставала, и как будто охватила ее, и она решила попытать свое счастье до конца:
– А эти тридцать шаев[8] удержу с тебя, потому что, вон, нитки слегка растянуты, так или нет?
И опять торговец ничего не ответил и продолжал болтать о том о сем, о том, какой далекий за его спиной путь и какие трудности были – горы, тропы крутые, а ветер там, на высотах, прямо режет до кости. И словно во всём этом единственная вещь, которая была неважна, это цена товара, так что я даже подумал, что этот старик-торговец либо совсем с ума сошел, либо действительно его все околпачивают, а он этого даже не понимает. И опять он смотрел на меня:
– Я говорю, парень, ты выбрал, наверное?
На этот раз я даже плечами не стал пожимать. Что я мог ему ответить? Сказать, что старая куртка Мирана опостылела мне и что приглядел я эту рубашку с нашивками? Тогда он подумает, что я нищий. Не знал он, что деньги у меня есть и я много чего могу купить, но не делаю это из страха перед Мираном. Ибо как докажу я ему, что это мои честные деньги, которые я по грошу скопил? Зарабатывал трудом, с которым мало что сравниться может, – сбором колосьев! Работой, которая уже почти совсем устарела и вышла из обихода, так что, кроме воробьев, и мышей, и ворон, я, быть может, единственный, кто хранит этот старый обычай. В конце лета и в начале осени при малейшей возможности я устремлялся на сжатые поля и там охотился за колосками до вечера, а потом все их сносил на большую плоскую скалу и там молотил деревяшкой, и отвевал солому, и тщательно собирал все зерна, и завязывал в узел, и, возвращаясь в деревню, загонял скот, заходил к Йавару и ему отгружал, и вместо фиников и фруктовой воды, или арбуза, или огурцов, что обычно берут за это дело, – я брал деньгами. И Йавар не ворчал, ибо никто лучше меня не отбирал отдельно ячмень и пшеницу, и ни камешка не было в моем зерне, а всё было как свежая дождевая вода, дар с небес, – чисто-чисто, зерно к зерну. Аработа тяжелая. И чем больше я вдумывался в нее, тем больше казалось мне, что сбор колосьев – это свой мир. Обычно я шел на сто – двести шагов впереди стада, чтобы взять свою долю до того, как они уничтожат всё вчистую. Я, следовательно, был как бы их соперником. Работал, не разгибаясь, так что, если кто посмотрит издали, мог бы принять меня за козла – вожака стада баранов. Но, думаю, основные мои соперники были не овцы с баранами, в все-таки вороны, так что я непрерывно обмозговывал вопрос: я ли вырываю пищу из их лап или они посягают на мою долю?
Бывало и так: попадал я на такие земли, где от густо сидящих ворон всё черным-черно было. Сплошь чернота! Даже и глазам своим едва веришь. Откуда взялось такое множество? Думаю, если бы собрались все люди нашей деревни, то и все вместе они не смогли бы пересчитать этих ворон, чисел бы не хватило!
Вот эта пара глаз моих – чего только не видала!
Обычно я тихонько приближался к вороньей стае, а потом вдруг выбрасывал руки к небу и издавал такой вопль, что все вороны до единой взмывали вверх; и в их многочисленности мы просто потерялись – и я, и стадо овец. Словно бы черная туча бросила тень на землю, а гром их карканий и их сумасшедший лет были везде и всюду Тут я уже забывал о каком-то соревновании с ними. Я стоял задрав голову, и не было ничего, кроме этих черных крыльев и карканий, как бы перебивающих друг друга. И кроме этого хаотического движения, от которого у тебя кружилась голова и которое уносило тебя в некое непонятное и неизвестное тебе место. Словно в далекий город, который и был городом ворон, полным их криков и гомона. И я стоял и ждал – и когда вороны чуть успокаивались, я видел, что я и впрямь в незнакомом месте. И в высоте гор я видел людей, которых никогда в жизни не видел, и слышал голоса, которые раньше только слышал, но не видел их владельцев. И кто-то указал мне на мужчину, который по ночам бежал куда-то по переулку, и сказал: вот твой отец, – а я его не узнавал. И я видел женщину, упавшую на пороге дома, она билась в агонии, а мужчины с размаху дробили все ее ребра и ее зубы прикладами винтовок – и кто-то сказал: это твоя мать, – а я ее не узнавал. И старика я видел, он не был слеп, но притворялся слепым, и он тащил этого убегающего мужчину, но при этом делал вид, будто мужчина тащит старика. И кто-то сказал, что это твой дед, а я его не узнавал; и еще сильнее кружилась у меня голова, и мне до смерти хотелось вырваться из этого города, и крик ворон опять стал таким невыносимо громким, что заглушал и заполнял всё… И так оно продолжалось, пока я сам не приходил в себя или пока меня кто-нибудь не окликал, пока стадо не терялось из вида или пока опять не возникал передо мной Хадиш, который пас коров и волов, и, как правило, на равнине, а не в горах, потому что в горах не растет трава, пригодная для коров, и чтобы понять это, не нужно быть коровой…
Не знаю, почему эти странные видения приходят ко мне и терзают меня… Уж я вовсю пытаюсь думать о чем-то другом, получше этого, чтобы прийти в хорошее настроение. Например, о том, что человек тогда знает истинную цену чего-то, когда он много потрудился, как, например, говорят пословицу: «Он рукой двери не откроет» – имеют в виду, что человек так сильно устал, так вымотался, настолько его руки другим заняты, что их даже для двери не освободить. Вот и я с таким же трудом собирал пшеницу и ячмень – чтобы ни соломинки в зерне не осталось – и всё зерно высыпал на особое полотно, и то рассматривал его кучи, то перебирал их горстями, или такой вот струйкой из руки пускал зерно назад в кучку, и так мне было хорошо, так приятно, ведь это были зерна, которые я поднял со стерни колосок за колоском, ради этого я столько наклонялся, что и разогнуться-то после не сразу мог, – и даже мне самому потом было трудно поверить, что всё это крупное золотое отборное зерно я нашел на той самой земле, на которой, на первый взгляд, ничего нет, кроме комков сухой глины да мелких кузнечиков.
Но что было, то было.
Вот мои глаза – чего они только не видали!
Это меня успокаивало и давало надежду. Не знаю, почему. Словно в безнадежности была тайная доля надежды. Деньги, которые платил мне Йавар, я складывал в жестянку, а ее закапывал возле помойки, в развалинах позади нашего дома. Естественно, пряча свою жестянку, я всё время внимательно оглядывался по сторонам, чтобы никто меня не заметил.
У маленьких ребятишек такой нюх, что нос собаки перед ним ничто. Потому я всё время был начеку, ибо, если найдут мой клад, все труды пойдут прахом, и я для страховки не раз менял место, куда закапывал жестянку, так что порой уже сам с трудом его находил.
Но сейчас я точно помнил, где она зарыта, и если торговец скажет, сколько стоит рубашка, то всё будет решено. Сам-то я не мог у него спросить цену до тех пор, пока кругом был народ, и вот наконец люди разошлись, уже за полдень было, и он, усталый и потный, снял свою косматую шапку и, достав клетчатый платок, вытер шею. И, оглядываясь вокруг, снова на миг как бы погрузился в мои глаза, и, по-моему, что-то пробормотал, что вполне могло быть ругательством, потому что еще раз он уже со злостью взглянул на меня.
– А, ты всё еще здесь? Как муха вокруг сладкого! Тебе что, заняться нечем, работы нет?
Я ничего не ответил. До послеполудня, когда надо снова гнать стадо на пастбище, у меня, действительно, работы не было.
– Если что присмотрел – скажи!
Не хотел я этого говорить. Но о цене узнать имел право. И я показал на шерстяную рубашку:
– Сколько?
Он назвал цену: пять риалов! Я был уверен, что у меня в жестяной коробке больше: она почти полная была. Я задумался.
– Если нравится рубашка, иди, скажи родителям, пусть купят. Я второй раз в одну деревню не возвращаюсь. Захожу в районе в каждую без исключения деревню. В каждую самую крохотную! Но только один раз, так что не надейся еще раз меня встретить.
И он свернул новую цигарку. Я молчал, а он пошел к ручью и вымыл лицо, голову, потом начал собирать свои вещи. И всё время что-то говорил и говорил, не обращая внимания, есть ли слушатели. Похоже, старик был из тех, кто способен сам себя занимать разговором и выражать вслух свое удовольствие или, наоборот, жаловаться на жизнь, чтобы трудности казались легче. Я таких людей повидал в своей жизни; такие или сами себе изливают свое горе, или даже что-то со смаком повествуют. Эти люди довольно-таки редки, потому народ порой называет их безумцами. Что ж, такая у народа судьба: того, кто не похож на всех, называют безумцем или пустым мечтателем, олухом, дурнем или еще похуже. Безумцы, думаю, потому и молчат обычно, чтобы избежать подобных кличек, а на мой взгляд, два вида безумцев есть: те, которые смеются, и те, которые плачут. Конечно, все говорят, что смеющийся сумасшедший не опасен, а вот тот, который плачет… Ого-го, этот уж, наверное, действительно в полном расстройстве, раз плачет, ведь очень немного в нашем мире настоящих поводов для слез. Ну, плакать ли, например, если тебя наказали? Какой смысл в этом плаче? В честь того, что тебя бьют? Из-за того реветь, что шипы колючек вонзились в твои ступни и нет сил терпеть, а тебя еще и кнутом хлещут и приказывают: скажи, я был неправ, скажи, я говно съел со своим пропащим в неизвестно какой могиле отцом? Или, может, ждут они плача от тебя для того, чтобы потом разыграть спектакль сострадания, чтобы в дело вмешались другие, с добрым сердцем, люди и проявили бы к тебе сострадание? Да пошли они подальше – они сами и их сострадание! И сами они говно, и отцы их такие же, и отцы отцов их, и отцы отцов отцов их!
Но он, впрочем, не был совсем уж сумасшедшим, или, по крайней мере, не был молчащим сумасшедшим. Спросил меня:
– Так что мне делать? Ждать тебя или нет?
Не знал я, что ответить. Не знал, что делать. До сих пор раньше темноты я никогда не выкапывал жестянку. Наверняка с верхнего конца деревни меня увидят, и это опасно.
– Если понравилась она тебе, иди, бери ее! А деньги потом отдашь.
Шутит он, что ли? Я внимательно посмотрел на него. Вроде бы он был не опасный. Я это подумал еще тогда, когда он продавал женщине платок. Он как-то рассеянно торговал, будто его мысли были заняты чем-то иным. Я спросил:
– А разве ты не говорил, что больше сюда не вернешься?
Он рассмеялся.
– Я человек бродячий. Сейчас одно сказал – а ты зачем веришь, голова садовая? Аллах велик! Может, и выпадет еще вернуться.
Это был самый удивительный коробейник из всех, кого я встречал в моей жизни.
А ведь моя пара глаз – чего только не видала!
Он хочет мне открыть кредит, но не надеется вернуться сюда. Наверное, он все-таки шутит надо мной в отместку за то, что я так долго рядом торчу. Но зато теперь я мог смотреть на рубаху, а не на него, то есть не нужно было выдерживать его взгляд.
Я растерялся. Не соображая, что делаю, пошел к развалинам позади нашего дома. Прошел мимо них, как бы гуляя, раз, и второй, прикидывая, сколько времени займет, если, очень торопясь, вырою жестянку из земли. Вроде, быстро должно получиться: земля там рыхлая, в ней много золы… Наконец, решившись, я бросился на то место, как зверь на добычу, выкопал жестяную банку и, спрятав ее на животе, сразу вспрыгнул на плоскую крышу. Потом бегом, бегом, перетрусив, весь дрожа и задыхаясь… Наконец укрылся на гумне. Ничего не соображая, начал пересчитывать деньги, всё время вздрагивая и оглядываясь по сторонам. Но вроде бы никто меня не заметил, всё было спокойно…
Я высыпал все деньги на глинобитный пол. Совсем мелкие монетки отложил отдельно, а пять риалов собрал отдельно. Потом жестянку засунул в снопы, чтобы при случае, собравшись с духом, как следует перепрятать ее…
…Торговец верхом на муле уже выехал из деревни и удалился от нее порядочно. Почти у реки он был. Бубенцы звенели, и весь он был похож на странный дымящий паровоз, пусть и двигающийся довольно медленно.
Я побежал догонять его. Кричать, чтобы остановился, мне не хотелось – услышали бы. А время за полдень не так далеко ушло, и солнце палило почти отвесно, не косо. Теней не было, и я весь взмок, пока догнал.
Это было недалеко от нашего клина, возле реки. Торговец оглянулся в сторону деревни и увидел меня, но ум его – если у него была такая вещь, как ум, – почему-то не сказал ему остановиться и подождать. Может, он подумал, что я не за ним бегу, а может, как раз узнал меня и решил, что именно со мной ему говорить не о чем, надоел я ему. В общем, он никаких знаков мне не подал и продолжал ехать. Но вот я уже почти догнал его и весь целиком окунулся в этот звон бубенцов. Здесь торговец обернулся и поднял свою палку, которой погонял мула, таким жестом, словно собирался побить надоедливую собаку.
– Опять ты?!
Я так запыхался, что ничего не мог сказать. Только смотрел на него, торопясь отдышаться.
– Ну что ты хочешь? Что ты так пыхтишь?
– Рубашку! – с трудом выговорил я. – Рубашку хочу, с нашивками!
Он отвернулся и что-то пробормотал. Но я чувствовал по голосу, что он улыбается.
– Передумал, значит? А я ведь тебе говорил: бери ее! Не поверил, что ли? Думал, я дразню тебя, так нет – я серьезно говорил. Не такой уж я торгаш заядлый. На курево заработаю – и хватит. Меня ведь другое интересовало. Поневоле я этим занялся. Но и на одном месте топтаться не хочу – потому в одну деревню дважды не возвращаюсь.
Слова эти мне были непонятны. Рубашка – вот что мне нужно было.
– Я деньги принес!
– Чего-чего? – Может быть, звон бубенцов не дал ему расслышать или вообще он был глуховат…
– Деньги принес, говорю!
– Какие деньги?
– Деньги за рубашку!
Он с удивлением на меня воззрился, не замедляя хода мула.
– Ты? У тебя что ж, пять реалов есть? Тпру!
Мул замедлил свой шаг. Я протянул торговцу руку с монетами:
– На, перечти!
Он нагнулся, не слезая с седла, и я деньги из кулака пересыпал ему в кулак.
– Тпру! – Теперь уже мул остановился совсем. Звон колокольцев утих, лишь иногда они звякали, когда животное переступало. Торговец едва взглянул на монеты и, кажется, их не пересчитывал.
– Но это ведь не отец твой дал деньги!
Сумма состояла из мелких монет, поэтому, думаю, он и понял, что это за деньги такие, и уже больше меня о них не спрашивал. Только задумчиво приглядывался ко мне.
– Так вот как, значит!
То есть как это так?! Я ничего не понимал. Он замолчал, а я вдруг подумал, что он хочет деньги мои умыкнуть. Ему ведь стоило пустить мула вскачь, и всем моим стараниям конец. Ведь у сумасшедших – будь они плачущие или смеющиеся – одно плохо: они заранее не предупреждают о том, что намерены сделать, да и ты этого предвидеть не можешь. Поэтому-то им и нельзя особенно доверять.
– …Ты мне не хочешь дать рубашку?
Он спрыгнул с мула, и опять потекла река его многословия:
– Вот сам ты на свою голову трудности создал! Сказал бы мне подождать тебя… Почему в деревне не купил, зачем сам себя гоняешь? Да еще и деньги есть у тебя!
Я ему не отвечал, лишь искал глазами рубаху. Мы стояли посреди дороги. Мул с удовольствием принюхался к свежему помету осла, потом вздохнул и захрапел, обнажив крупные зубы. От реки доносился запах воды, а с лугов – запах спелой и вытоптанной травы. Нигде ни движения. Даже ястреб-перепелятник, круживший в небе, сел отдохнуть на высоко торчащий камень.
Коробейник сражался с одним из вьюков, но в конце концов вытащил из пачки рубашек мою. Потом встряхнул ее и повернул так и этак, чтобы я рассмотрел.
– Ну? Красота! Смотри не запачкай, а то отец с матерью проклянут меня и предков моих до седьмого колена. А я дважды в одну деревню не возвращаюсь. Обратного хода нет.
Я это уже слышал. Приложил рубашку к груди. Она была чуть великовата.
– Давай поменяю. Великовата для тебя!
– Нет, не хочу!
– Великовата ведь.
– Не страшно! – Я всегда видел, что детям покупают вещи чуть на вырост, потому что дети растут…
– Ну что же… в добрый час! Наденешь ее?
– Нет! – я не хотел надевать. А он всё в меня вглядывался.
– А ты чей будешь-то? Отец твой кто?
– Не знаю, – ответил я…
Торговец захохотал от души, и дым от цигарки шел изо рта его волнами, как поднимается дым над нашей газовой мельницей, когда ее запускают.
– Ты этого никогда не говори, голова садовая! – посоветовал он мне, отсмеявшись. – А то припечатают… Зовут всё же как твоего отца?
– Говорю, не знаю!
Теперь ему стало не до смеха. Возможно, теперь он меня счел сумасшедшим.
– Разве можно человеку не знать имени отца своего? Я вот до седьмого поколения знаю.
Но я мотал головой: мне неизвестно. А он опять рассмеялся и так громко прикрикнул на меня, что до холмов предгорий долетал его голос и вернулся к нам эхом.
– Но тебя-то, тебя как зовут? Свое имя ты знаешь?!
– Меня зовут Булут.
– Булут? – он удивился. И в то же время словно успокоился, будто и правда он думал, что я могу не знать своего имени.
– Ну хорошо, об отце твоем не будем… Но мать свою ты знаешь?
– Нет, и ее не знаю.
Опять на мгновение замолчал. И уставился пристально на меня.
– Издеваешься надо мной?
– Нет, правду говорю.
– Так как же? У кого ты живешь?
– Я живу у Мирана.
– Мирана?
– Мир-Али.
– Ага. Но я этого имени не знаю. Я сам нездешний, но в краях этих давно и все новости слышу, народ ведь туда-сюда ездит, рассказывает. Таким путем я многих знаю. И ближних, и дальних, и тех, кого не видел ни разу. Так, значит, Мир-Али тебе не отец?
– Нет. Он меня нашел.
– Нашел?
– Нуда, у ручья Атгули!
Опять он захохотал, подняв голову к небу, и смеялся еще дольше, чем прежде. Смеялся до слез, хотя дым теперь из его рта не шел, так как новую цигарку он не успел закурить. Смеялся, оскалив зубы – желтые-желтые, гнилые наверняка. Зубы заядлого курильщика… И я тоже засмеялся. Уж не знаю, почему. Как-то весело мне с ним было. Он сказал:

