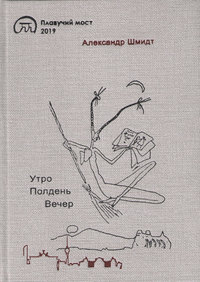Полная версия
Перепросмотр
Худо-бедно записались знакомые ребята с другого факультета. Команда была в сборе, и мы отправились в Башкирию на сплав по реке Инзер.
Что за чудо находиться в Уральских горах весной! Все живое только отошло от суровой зимы и набиралось энергии для бурного танца любви. Острое восприятие жизни особенно ощущалось после учебных аудиторий и нездоровой жизни в общежитии на девятом этаже! Да еще когда ты молод, голоден и по-звериному здоров и энергичен! К вечеру добрались до Инзера и разбили лагерь. По «заграницам» тогда не мотались и с удовольствием осваивали родную страну.
Таких как мы, судя по огонькам костров в обозримом расстоянии, разбросано по берегу было немало. И кругом молодое веселье, озорной гомон, и, конечно, под гитару: «Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу…» или «Милая моя, солнышко лесное…»…
Природа до утра замерла, чутко внимая шумливым, нагловатым гостям. Инзер, три дня назад еще скованный и заснеженный, дышал холодом прибрежных льдин и недовольно ворчал на перекатах. Черная ночная бездна неба усыпана ярко мерцающей россыпью звезд. К погожей радости!
Плот сработали добротный и надежный, хотя и несколько тяжеловатый – похожий на «главного инженера», подшучивали в мой адрес товарищи. Когда, привязав к днищу накачанные камеры, мы, на счет «три» выбили подпорки, Валерка Уфимцев не успел отпрыгнуть, и остов плота хорошо зацепил его голову. Вопреки нашим опасениям, после такой мозговой встряски его институтские дела пошли еще успешней.
Мы прекрасно проходили «дистанцию», и надежность нашего плота с лихвой оправдывала его завышенную инерционность. На привалах дурачились и горланили песни. Выяснилось, к большому удивлению моих товарищей, что я совсем «не умею играть».
В детстве, в силу характера, самое большее удовольствие мне доставляли тихие одинокие игры и занятия, либо просто созерцание природы. Забьешься куда-нибудь в угол, на крышу, в гущу леса, и смотришь на мир, сливаясь с ним и наполняясь блаженством. Вероятно, мне нужно было родиться деревом. Сосной, согласно календарю друидов, одиноко стоящей на краю обрыва.
Отец никогда не играл со мной, и мы были странным образом отстранены друг от друга. Однажды он поправил мне подушку, когда я собирался засыпать. И этот жест теплого участия в моей жизни я запомнил навсегда. В классе я не дергал девочек за косички и не забавлялся дурашливой борьбой с мальчишками, а если она и возникала, сходу пытался закрутить на «болевой» или «удушающий», благо с возрастом, от занятий самбо и борьбой, мастерство исполнения только возрастало.
Река делала резкий поворот влево и сразу метров через пятьдесят проходила под каменным мостом, образуя между «быками» перепад высот в полметра. Обычно в сложных ситуациях за руль плота брался я, как уже имеющий опыт. Здесь же вызвался рулить плотом Нагашбай – мой товарищ с другого факультета. Очень амбициозный малый, проявлявший свои «лидерские» качества где надо и не надо. Не слушаясь растерявшегося рулевого, плот развернуло, а на перепаде еще и сильно накренило: хлынула вода, плот стал опрокидываться. В лучших национальных традициях Нагашбай бросил руль и кинулся на задравшуюся «сухую» часть плота, куда со страхом отпрянули и все остальные. Гребь, зацепленная за «быка», скрежетала и выворачивала подгребицу. Я, скорее из желания спасти руль, кинулся в воду и резко выдернул его. Освободившись от зацепки, плот пронесся под мостом, выравниваясь. На берегу, трясясь от холода и нервного хохота, жалась к костру одна группа наших однокашников, потом другая из мединститута, потом третья… Как выяснилось позднее, все они перевернулись здесь, под мостом, на своих «облегченных» плотиках. Утонули и унеслись диким водным потоком рюкзаки с провизией, ружье. Мой кондовый плот, к ликованию публики, испытание выдержал!
Как-то на привале выяснилось, что у нас кончился «стратегический» запас водки. Самые легкие на подъем потащились за «араком» в ближайшую деревню, а это двенадцать километров в одну сторону! Небольшой аул в горах. Гостеприимные жители встречали нас с искренней радостью, достойной знаменитых экспедиций. Как все-таки прекрасен человек, живущий среди божественной природы, неразвращенный «благами цивилизации»! Взяли «арака». По пути я даже познакомился с молоденькой «кызымкой», которая называла меня Искандером.
К лагерю приволоклись едва живые, что ничуть не помешало развернувшемуся веселью. Через пару часов мы услышали приглушенный ветром зов: «Искандер! Искандер!» Вбежав на ближайший холм, мы увидели вдалеке трогательную картину: Галима, как звали мою знакомую, в одежде, принятой нами за национальный костюм, обнаружив, что мы ее заметили и возбужденно машем руками, – танцевала на далеком от нас, там, где река делала петлю, противоположном берегу реки! Теплый ветерок и она грациозно играли длинным розовым шарфом. Она кружилась и тонко струилась под музыку ветра, порхая над зеленеющим лугом. И это кружение было простым и органичным для нее; она чувствовала естественность своего соития с темнеющими горами, родной рекой, багряным закатом за ее спиной… Милая, по-детски искренняя Галима, щедро дарила нам божественные минуты, ничего не прося взамен.
Проза жизни наступила по возвращении, как отрезвление после грандиозной вакханалии. Дабы оправдать свое недельное отсутствие, у знакомых студентов-медиков я достал медицинские бланки с печатями. На них-то чужой рукой, но под мою диктовку, и были написаны непритязательные диагнозы наших заболеваний. Сдали в деканат, и вскоре последовал ответ в виде приказа: «За систематические пропуски занятий и обман деканата ОТЧИСЛИТЬ…» Нас с Серегой отчисляли. Очевидно, терпение у деканата лопнуло. Нас не допустили к первому экзамену, потом ко второму… Недопуск или несдача трех экзаменов означали автоматическое отчисление из ВТУЗа. Если Сергей уже отслужил в армии, то для меня «священный долг» неотвратимо следовал за порогом «Alma mater».
Наша группа, взбудораженная нашим грядущим увольнением, решила всем составом ходатайствовать перед деканатом. Был назначен день и час. Как на грех, в это же время давал свой концерт известный бард, а значит родной брат всех туристов, коими мы являлись, В. Дольский. Нужно было выбирать.
В то время, когда наши однокашники маялись у дверей деканата, мы с Серегой с волнением слушали бардовские песни!
В конечном итоге нас вызвали на собеседование с деканом. Он отчитывал нас недолго, обозвав «мелкими мошенниками», с чем мы смиренно согласились. В заключительном «идите» уже слышались мажорные нотки!
К «игре века» мы готовились недолго. Скинулись. Подсчитали, чтобы осталось на игру «по-крупному». Вечером мы собирались расписывать пульку.
– Старики! А что мы все мелочимся? Давайте купим целый ящик! Сядем, как люди, поиграем, – воодушевлял всех Пашка Филонов.
– Ну да, сразу весь ящик и прикончим! – скептично бросил Бродский.
– Ну, уж нет! На всю неделю растянем! Может и больше!? – неуверенно сказал экономный Серега.
Никого уговаривать не пришлось. Взяли ящик портвейна «777» и незамысловатую закусь…
Утром в комнату постучали. Негромко так, неназойливо. Самый дисциплинированный из нас Миша Бродский, придерживаясь за стулья и спотыкаясь о разбросанные кругом бутылки, сомнамбулически двинулся к двери. Вошла целая комиссия во главе с деканом Комиссаровым Николаем Максимовичем.
Нет, мы не претендовали на звание «Образцовой комнаты» и могли бы сразу отказаться от участия в смотре-конкурсе. Не надо нам никаких смотров, а тем более комиссий! Но было поздно! Предметы занимали фантастические положения в пространстве, а дух в комнате был таков, что время – остановилось! Мы проснулись от громких чужих голосов и предчувствия беды. Нинка, Пашкина подруга, благоразумно нырнула под одеяло.
Взгляд декана остановился на остывавшей и замусоленной колоде карт, небрежно брошенных на лист бумаги с расписанной «горой». Скорее от желания глотка свежего воздуха, декан предпринял маневр: он яростно собрал карты и расписанный лист и, растворив окно (О, блаженство!) – выбросил все вон с девятого этажа.
– Николай Максимыч, как же так, в окно… Мы же вчера только субботник проводили, бумажки подбирали, – недовольно буркнул Пашка, сидя на кровати с обнаженным торсом и вопросительно разведя руками. – Ай, яй, яй, непорядок!
Максимыча передернуло от такой наглости. Он сказал краткую, но энергичную речь, суть которой была в том, чтобы мы сегодня же освободили комнату, отправившись «к чертовой матери». Когда комиссия удалилась, Пашка протяжно затянул на мелодию «Черного ворона»:
Комиссаров,что ты вьешьсянад мое-е-е-юголово-о-о-йТы добы-ы-чине дожде-о-шь-сяКомисса-а-ров, я не твой!– Да, ништяк посидели! Мишка, засланный ты у нас казачок! Зачем открыл этой кровожадной кодле?
Бродский безразлично махнул рукой: кто ж знал?
Мне пришлось активно провести весь день, чтобы к вечеру, зайдя в общагу и подняв друга с постели излюбленным: «Вставайте граф, вас ждут великие дела!», со всеми манатками переместиться на новое место жительства. Вопреки мрачным прогнозам, оно оказалось еще лучше прежнего. Это был профилакторий института с трехразовым диетическим питанием! Оно нам было особенно необходимо, вследствие подорванного здоровья на ниве постижения наук. Профилакторий занимал часть здания, где жили во время сессии заочники. По договоренности, в этом оазисе протертых котлеток и рек «Боржоми», мы должны были перекантоваться месяц, а потом плавно, естественным образом, переместиться к заочникам. Здесь-то я и познакомился с незабвенной Милой – последней женщиной моего студенческого периода.
На втором курсе я познакомился с Афродитой. Как у Саши Черного: «… описать ее фигуру – нужно краски сорок ведер, даже чайки поразились форме рук ее и бедер». Афродита тоже училась на втором, но на другом факультете, и имела немецкую фамилию Эзау. Она не совсем уверенно называла себя немкой, что для меня было важно, хотя по внешности, без сомнений, была еврейкой. Дабы идентифицировать ее национальную принадлежность, я позвал своего товарища Мишу Бродского и указал ему на Ниночку Эзау, томящуюся в длиннющей очереди нашей столовой. Черный и кудрявый одессит-Миша, словно тициановский Иуда, авторитетно заявил, сильно грассируя: «Она такая же немка, как я француз». Нина иногда заходила в нашу комнату, где жил староста ее группы. Будучи нашей сверстницей, она была значительно старше нас мудростью молодой и красивой женщины. Ее поведение было наполнено достоинством и простотой, без тени кокетства или дешевой игры. В ее присутствии мы все становились услужливыми глупыми мальчишками, вероятно от отсутствия опыта и воспитания. Я и мой комплекс не могли даже мысли допустить, что можем стать интересными для нее. И благоговейно млея, я «в тихую» сочинял стихи, посвященные ей, запечатывал в конверт и относил в письменную ячейку ее общежития. Стихи были дрянные, из разряда «кровь-любовь, розы-морозы», но любовное томление было настоящим. Потом, по прошествии тридцати лет, я встретил ее буквально за час-полтора перед отъездом. Слушая мои восторги молодости, она естественно спросила:
– Ну, и что ж ты таким был нерешительным?
– Я считал тебя недосягаемой!
– Э-э-х! – с грустной улыбкой ответила Нина, все такая же подтянутая и веселая, – мой-то первый муж так не считал, хотя достоинств у него было поменьше…
Вспомнилось, тогда, давно, уже на пятом курсе, я собирался идти на вечеринку и осторожно упаковывал в газету свою долю: две бутылки болгарского крепленого вина, когда открылась дверь комнаты, и вошла она, Ниночка. Радость встречи была неописуемой! Мы не виделись с ней три года! Тут же было забыто про вечеринку, хотя там ожидала меня подружка. Я узнал, что после второго курса она вышла замуж и перевелась на заочное отделение. Был теплый весенний вечер, и, казалось бы, все располагало к любви и наслаждению. Стемнело. Мы целовались, но когда мое тело запросило большего, Нина спокойно и тихо сказала:
– Нет, Саша, не нужно. Я люблю своего мужа.
Не в моих правилах были связь с чужой женой и уговоры любой ценой. Я укротил свою страсть. Потом я провожал ее. Нежно и долго прощались, не желая расставаться, и встретились только через тридцать лет.
Вообще, как и, вероятно, я сам, отношения с женщинами были у меня ненормальными. Впрочем, что значит нормальные, если речь идет об отношениях мужчины и женщины? Тогда я жил только сердцем: и залетал высоко, и падал низко.
Заигрывания с девушками моих товарищей я находил до отвращения пошлыми.
Я никого не обманывал, и мои намерения всегда были просты и открыты: если девушка была ограничена лишь своим плотским желанием – я был к ее услугам; если это, после пары поцелуев, были виды на будущее – мне было не интересно с ней и я предпочитал обстановку, где «обширен круг друзей, а кружок бутылок тесен». Безусловно, случались и другие обстоятельства, где, мне казалось, в душе разгоралось высокое чувство. Но, как выяснялось позднее, это только казалось.
Ирина приехала с самого «синего моря», точнее, из Краснодарского края. Училась на вечернем, но жила почему-то в общежитии для «дневников». Хи-хи, ха-ха. Поцелуйчики. Обнимания-провожания. Все по обычной схеме. Это сейчас. Но тогда… Я так был заворожен ею, что с недоумением обнаружив ее увлечение детскими сказками, принял это за милую странность, а вступление, чуть ли ни с детства, в ряды тех, кто называл себя «умом, честью и совестью нашей эпохи» – за непонятную мне практичность. Она объяснила это тем, что «папенька приказали-с». Просто папа был партийным вождем районного масштаба и дочурке от всей души желал оказаться на острие борьбы за народную справедливость. Меня это покоробило, но «любовв» – взяла свое.
Скоро мы с Сержем Волошиным укатили на практику за сотни верст от родного города. Росла гора окурков, но писем от подруги не было. Я был в отчаянии: слал телеграммы, пытался дозвониться до ее работы, но сослуживцы почему-то все никак не могли ее найти. Василий, Серегин родственник, за бутылкой водки, глубоко сочувствуя, поведал мне о подобной истории из его жизни. Мы так сошлись с ним на этой скорбной ноте, что, изрядно надравшись, непременно решили ехать в Челябинск на его самосвале…
С Ириной я встретился сразу в день приезда, и наш диалог был краток. В ее глазах я видел растерянность, суетность, даже страх, но того, чего ждал – не было. Я сухо вернул ей ее фотографию, с любовью осмотренную когда-то тысячи раз до малейшего завитка, и попросил, как в лучших российских традициях, «вычеркнуть мою фамилию из числа своих знакомых». С тех пор, я не вспоминал о ней иначе, как о «серой мышке» и благодарил Бога за преподанный урок.
Эти стихи, под храп утомленного Сереги, я накропал на той злополучной практике, когда стало очевидно, что отношения мои с младокоммунисткой завершены.
Истерзан,почернели поглупел.Бессонница в глазах,и сердце – выжито!Душу рвутвопросы,проблемы.Роман окончен,судьбою открыжито!Ах, уж мнеэти сентиментальные поэтики!Ох, уж мне,эти Петрарки и Желтковы!Нежныелазоревые цветикиСопли распустив,влачат любви оковы:Подруга,видите ли, не пишет!И сразу сердцекорежит с натуги.И друг нытьекаждодневное слышит,нет, чтоб отрезатьсловом упругим.А ей плеватьна твоесамомнение,Слабость в мужчине —противна.Не нужно ейблаженного тления,Она в партийнойжизни активна!Прикатившим на сессию заочницам срочно понадобился мужчина, чтобы помочь донести холодильник, взятый «напрокат». Мы мирно сидели за столом и пили чай, обильно намазывая на хлеб маргарин «Солнышко». В дверном проеме, заставив всех живо встрепенуться, появилась темноволосая красотка с голубыми глазами. Обращение, тем не менее, было адресовано ко мне, видимо, как самому недовольному (после разлада с «серой мышью» я некоторое время общался с девушками далеко не самым изысканным манером). Ее энергичная просьба органично перешла в милую улыбку чувственных губ с блеском здоровых крепких зубов. На фоне приглашенных худосочных ее однокашников, героически схватившихся за углы холодильника, я выглядел былинным богатырем, скромно ухватив оба угла спереди. Пять пройденных этажей стоили весомой благодарности.
Холодильник умиротворенно урчит. Обильное, по нашим меркам, угощение. Сразу видно: только что приехавшие из дома, работающие люди… «Шурик, попробуй это – Шурик, попробуй то». В непринужденности и легкости манер ощущается воспитанность и опыт. Чувственность и утонченность на грани нервного срыва. Мне интересно, но нелегко с ней, хотя по мере «усугубления» – все проще и проще.
Перед завершением застолья мои товарищи по комнате были оперативно расселены и невесело разбредались по разным углам. Мы с Милой были так заняты друг другом, что даже забыли закрыться на ключ…
Каждое мгновенье она была разной: веселой, ироничной до ядовитости, смешной, раздражительной. Была очень живой, текущей. В небрежном откровении и сарказме чувствовалась глубина пережитого, и мною угадывался опыт постигшего ее страдания.
После школы она поступила в медицинский институт Ленинграда. На третьем курсе, обнаружив в себе уже готового гинеколога, они с подругой поднаторели в производстве криминальных абортов. Не знаю, может быть официальные были запрещены? Необоснованная самонадеянность. Трагические последствия. Мрачные «Кресты». Четыре года общего режима. Вселенский закон противодействия вступил в силу и призван был к осознанию собственных ошибок, грехов молодости. Но было ли оно, осознание? Пройдя «университеты» и вернувшись домой, Мила пыталась жить «как люди», т. е. серо, буднично, лживо. Вышла замуж, родила дочь, поступила в институт на строительный факультет. Здесь «всплывает» какой-то Ленинградский друг Тритенбройт.
– Представляешь, умница, хитрый жидяра, хохмач. Кандидат наук. Денег – как у дурака фантиков! Старый друг. Предложил мне поехать в экспедицию в Узбекистан, в качестве жены. Ну, Тритен – есть Тритен, оболтал меня, как девочку. Я с мужем распрощалась, мол, на сессию уезжаю, а сама с Тритенбройтом к узбекам укатила. Провели время – лучше не придумаешь! Есть что вспомнить!
– Муж, конечно, вычислил?
– Да уж, он вычислит! Как-то подарил мне духи на восьмое марта. «Пикантные» назывались. Так себе, ниже среднего. Приходят гости. Я, естественно, воспользовалась из старых запасов незабвенного Тритена – «Клима». Гости с ума сходят, особенно бабы: «Какие у тебя духи?! Французские, поди?» А муж так тупо-самодовольно всем поясняет: «Это мои, «Пикантные», – Мила нервно рассмеялась, вспоминая забавный эпизод. Я, от солидарности с мужем и уязвленный его дурацким положением, напряженно улыбнулся.
– А ты говоришь, вычислил! Сама призналась, что рога ему наставила! Поругались как-то, и призналась, чтобы больнее сделать. Зря, конечно. Сейчас проблем было бы меньше. Ее голубые очаровательные глаза при этом беспокойно сверкнули.
Лежа на кровати, я курил «Беломор», стряхивая пепел в консервную банку от «Завтрака туриста». В комнату уже вползли сумерки, а через стенку щемило битловское: «Мишел…»
Как легко и бессовестно она рассказывает, нет, даже похваляется своими проделками. И это после того, что уже было пережито? Она патологически эгоистична. Казалось бы, должна держаться за мужа. Жить по совести. И ребенок вот… Нет. Сроду бы не женился на такой! Я с грустью вспоминал ее «веселые рассказы», так задевшие меня, от которых становилось тошно.
На следующий день мы отправились с подругой в парк, что начинался сразу от общежития. Намерения были самые невинные: заниматься предметами на свежем воздухе. Солнце было уже высоко, и парк был напоен ароматом сосен и молодыми голосами таких же умников, как мы. Как и предполагалось, попытки что-то подучить, повторить, запомнить, сразу были обречены. Мы нежились на солнце и лениво болтали. Она читала Цветаеву или рассказывала о душевных муках лагерных подруг. Я внимал и был пьян осознанием Божественного мира, прекрасной женщины, лежащей рядом, звуков поэзии, запахов начинающегося лета… Потом случилась гроза. Внезапная, майская, сумасшедшая. Бежать было бесполезно, да и не нужно. Грохотал гром, и блики молний озаряли наши лица неземным, холодным светом. Мы шли босиком вначале по еще теплой тропинке, а затем по дождевым ручьям, несущимся по тротуарам. Ее волосы змеились множеством темных колечек. Было сладко и жутковато целоваться под соснами…
Мила была Женщиной. Красивой и изящной, а главное, тонко чувствующей. Она могла быть украшением как любого общества, так и сильного мужчины, способного вовремя остановить ее. Любая женщина чувствует свою силу и готовность в какой-то степени уступить.
– Для женщины нужна узда, – авторитетно заявляла она. И снисходя до меня, то по-деревенски кондового, то поэтически возбужденного, подбадривала, заставляя быть более решительным в предложениях: «Я – простая баба. Ничего сложного!» – Возможно, это была правда.
По ее приглашению я нанес визит в город К., в ее шикарную трехкомнатную квартиру, впечатлявшую после общежитских клоповников. Мне было приятно видеть опрятность и порядок во всем. Это было мое слабое место. Мила весело болтала и играла на пианино трогательную французскую песенку «Падают листья» в качестве вступления к серьезному объяснению. Потом мы пили принесенное мной шампанское и слушали АББУ. Зеленый самопальный диск, тонкий до беспокойства за его качество, шел волной и коробился, но, тем не менее, устойчиво производил: «Мани-мани – мани-и..» Эта песенка окончательно привела меня в ступор и вызвала внутреннюю дрожь. Мила сначала спокойно спросила меня:
– Что ты молчишь? Тебе нравится? По моему – замечательно.
Я напряженно кивнул. Мне вспомнился ее униженный муж, и я робко запросился домой. Глядя на мою окаменевшую фигуру и остро ощущая возникшую безнадежность, Мила, уже с отчаянием в голосе закричала: «Что ты молчишь!?»
Мы пару раз встречались после этого, но заключительный аккорд уже прозвучал.
* * *Что я собою представлял, вступая в мир, который позднее назовут «эпохой застоя»?
Спорт и труд сделали из меня здорового и крепкого мужчину. Я был далек от изящества, за то «завален внутренними достоинствами». Во мне всегда находили трудолюбие, честность, основательность и целесообразность, вероятно, то, что перешло ко мне от матери-немки, хотя внешне я более походил на деревенского увальня. Природа когда-то спохватилась, обнаружив пропадавшего дохлика-зяблика, которого не брали даже в детсад, вдохнув в меня силу и терпение, оставив прежней душу. Душу робкого и нерешительного человека – «Lupus pilum mutat non mentem».[8] Крайне противоречивого, застенчивого и закомплексованного. Студенчество кое-как сгладило эти углы, разболтав и ослабив при этом волю. Взращенный в уродливой по духу семье, в уродливом же по духу лживом государстве, я обладал полным набором дурных черт характера: эгоизмом, гордыней, авторитарностью, то немецкой расчетливостью до скупости, то казацкой бесшабашностью, то застенчивостью, принимаемой за интеллигентность, то пьяной агрессивностью. К тому же я был очень раним и ядовито саркастичен. Рано осознанная ненависть к коммунистам и советской власти, на фоне ее несокрушимости и вечности, постепенно перерастала в мизантропию. Окружавшие меня люди, как мне казалось, невзирая на существо режима, только и озабочены были достижением «кормушки» и удовлетворением своих низменных страстишек, что вызывало у меня раздражение и презрение к ним. Пережитый любовный опыт не возвысил сердце, а, скорее, посеял в нем семена пренебрежения к женщине.
С большим усердием и старанием я искал, как мне казалось, гармонию в жизни, совершенство и чистоту, и оттого, что все эти потуги приводили лишь к страданию и ощущению собственной вины – я не мог быть целостным и гармоничным.
Тогда я еще не понимал и не мог понять в силу существовавшего в обществе безбожия и отрицания всяческих духовных знаний, идущих в разрез с доминирующей куцей коммунистической моралью, что при существовавшем моем мировоззрении я обречен на «лечение» души, которое неизбежно состоится через страдание.
Глава 3
Александр распределился преподавателем электродисциплин в техникум рабочего поселка, где когда-то жил сам, и где проживали в здравии его родители. По сути, это было время продолжения его студенчества: те же лекции, семинары, экзамены, многозначительные лица провинциальных преподавателей…
День учителя ожидался в ближайшее воскресенье, сразу же после картофельной страды – ежегодного «трудового подвига» всех советских студентов.
Не зная преподавателей, Клинцов отрешенно сидел в дальнем конце стола и без особого интереса оглядывал «педагогический состав», возбужденно галдевший в предвкушении застолья. С пятнадцатиминутным опозданьем, как принято в деревенских традициях, появился преподаватель немецкого языка Мисюра с супругой. Сверкая лучезарной улыбкой и отпуская шуточки направо и налево, он двинулся к свободным местам «галерки», где одиноко томился Клинцов. Прицепом к устраивающимся Мисюрам подстроилась вскочившая со своего места преподаватель спецдисциплин Елена, которая, оценив ситуацию, приступила к тактическим маневрам.