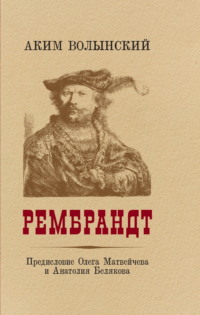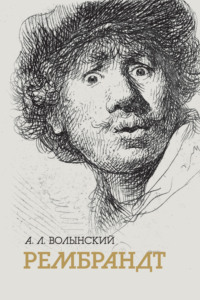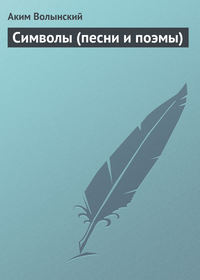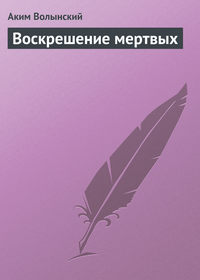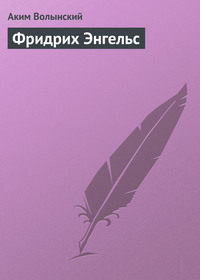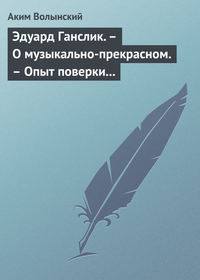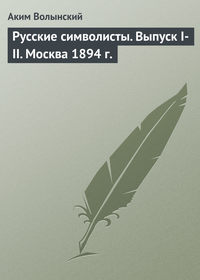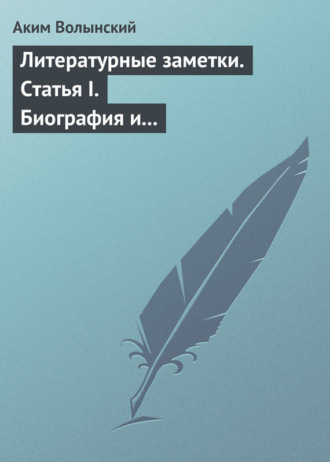 полная версия
полная версияЛитературные заметки. Статья I. Биография и общая характеристика Писарева
С оживлением старых манер и привычек, в Писареве пробудилась с новою силою мечта, волновавшая его с юношеских лет, претерпевшая многие перемены и испытания, не покидавшая его даже среди вдохновенных занятий одиночного заключения, мечта об уютной, отрадной, семейной жизни. В том-же 1867 г. Писарев поселился вместе с своею дальнею родственницею, Марией Александровной Маркович (известною под псевдонимом Марко-Вовчок), разошедшейся с своим мужем. Высоко ценя талант Писарева, хотя и не подходя к нему по темпераменту, быть может, не любя его тою страстною, поэтическою любовью, которой он добивался от женщин, не умея побеждать их силою собственных страстей, она сошлась с ним по инстинкту высокоодаренной, блестящей женщины, стремящейся стать центром интеллигентного кружка и широких литературных влияний. Пикантная, с гибким женственным умом и вспышками злого и эффектного остроумия, она сразу увлекла и даже слегка подчинила себе молодого, не избалованного судьбою Писарева. Это не было то тихое, ровное счастье, озаряющее минуты отдохновения от тяжелого литературного труда, о котором он мечтал. Не уступая ему в тонкости литературного вкуса и остроге художественных суждений, женщина начитанная и с богатыми жизненными впечатлениями, Марко-Вовчок не нуждалась в ученых указаниях и руководстве даже со стороны такого человека, как Писарев. Популярная в обществе, полная творческих сил, привлекательная, она, в тесном кругу домашнего обихода не могла не взять верх над Писаревым, вся духовная сила которого, не расплываясь по сторонам, сосредоточилась на определенной, решительно поставленной публицистической задаче, вращалась постоянно в одной и той-же сфере идей и напрягала его мощный, разрушительный талант в известном, узком направлении. Писарев с его блестящим, сильным и свободным красноречием умолкал в присутствии этой женщины, которая умела в нескольких художественных штрихах обрисовать и уязвить целый человеческий характер, выставить его смешную сторону и сообщить беседе живое, игривое течение. В. И. Жуковский, слегка коснувшись в своем рассказе этого момента в жизни своего друга Писарева, перешел от красноречия острых и метких слов к красноречию деликатных недомолвок и утонченной, чуть-чуть сатирической мимики. Однажды, рассказывал Жуковский, приехав из провинции, он нашел Писарева одного в квартире, свободным от занятий. Марья Александровна Маркович куда-то уехала и два друга могли распорядиться временем по старой, холостой привычке. Без лишних рассуждений, они помчались в какой то ресторан и, под звуки органа, отдались откровенному разговору. Беседа затянулась на несколько часов. Наконец, красноречие друзей истощилось, а орган продолжал гудеть. На лице Писарева отразилось явное раздражение. Жуковский отчетливо помнит тот момент в их беседе, когда Писарев, на вопрос о причине его неудовольствия, ответил: «я не люблю ни музыки, ни живописи. Я ничего в них не понимаю, особенно – в музыке»… Когда друзья вернулись на квартиру Писарева, им сказали, что хозяйка дома, которую не ожидали в этот день, уже приехала. Писарев не замедлил пройти в её комнату, но скоро вернулся оттуда к Жуковскому и, тщетно стараясь скрыть свое смущение, передал ему приглашение Марьи Александровны к завтрашнему обеду, намекая этим, что затягивать сегодняшнее свидание было-бы, может быть, не совсем удобно…
В июне 1867 г. Писарев, несколько подчинившийся влиянию г-жи Маркович, порывает свою давнюю литературную связь с Благосветловым «не из принципов и даже не из за денег», как он писал об этом Шелгунову, а просто из за личных с ним неудовольствий. Благосветлов поступил невежливо с Марко-Вовчок, отказался извиниться перед нею, когда от него этого потребовали, твердо заметив Писареву, что если отношения его к журналу («Делу») могут поколебаться от каждой мелочи, то этими отношениями нечего и дорожить. Лишившись постоянного литературного сотрудничества в журнале, Писарев стал заниматься переводами и выжидать новых обстоятельств, которые поставили-бы его на прежнюю писательскую дорогу. Слава его была слишком громка, чтобы он решился занять второстепенное положение в каком-нибудь другом издании, а нового журнала с родственным ему. направлением пока еще не было. Слухи о преобразовании «Отечественных Записок», с Некрасовым, Елисеевым и Салтыковым во главе редакции, еще не получили никакого оправдания. В Петербурге говорили, что Некрасов ведет переговоры с Краевским, но ничего положительного не было известно. При том-же Писарев не мог надеяться занять выдающееся положение в журнале, составленном из главнейших сотрудников «Современника». «Эта партия, писал он Шелгунову, меня не любит и несколько раз доказывала печатно, что я очень глуп. Сомневаюсь, чтобы Антонович и Жуковский захотели со мною работать в одном журнале». Однако Писарев ошибался, и в начале 1868 г. он получил приглашение участвовать в возрожденных «Отечественных Записках» – «с тою степенью свободы, которая совместна с интересами целого». В короткое время в этом журнале появились следующие его статьи: «Старое барство», «Романы Андре Лео», «Мистическая любовь», «Французский крестьянин 1789 г.». Кроме того он переделать для «Отечественных Записок» два романа: «Принц-собачка» Лабулэ и «Золотые годы молодой француженки» Дроза. Ни одна из этих работ не была подписана, так как, но объяснению редакции «Отечественных Записок», с подписью своего имени он хотел появиться позднее, в самостоятельных критических статьях, которые выразили-бы зрелые результаты его постоянно развивавшейся мысли, хотя такая статья, как «Французский крестьянин», по стилю и определенности мысли, была вполне достойна его таланта. Не подлежит сомнению, однако, что положение Писарева в новой редакции, где вдохновляющую роль должен был играть Щедрин, не могло быть ни особенно свободным, ни особенно ловким. Его полемика на страницах «Русского Слова» была еще слишком жива в памяти всех читателей, и его прямая, честная и открытая натура не могла без ущерба для себя подчиниться интересам того целого, которое во многом не отвечало его наиболее сильным и оригинальным убеждениям. «Отечественные Записки» с самого начала пошли совершенно иным путем, чем «Русское Слово», и можно сказать с полною уверенностью, что резко очерченная индивидуальность Писарева должна была-бы сделать слишком много принципиальных уступок направлению нового журнала, чтобы вызвать к себе безусловное товарищеское доверие со стороны его главных руководителей. Скабичевский рассказывает, что Писарев почти никогда не бывал в редакции «Отечественных Записок». Только два раза он видел его в квартире Некрасова. Один раз это было на обеде, который Некрасов давал своим сотрудникам по выходе первой книжки журнала. Писарев сидел рядом с Скабичевским, молчаливый, сосредоточенный, несколько растерянный, среди людей мало ему знакомых, в обществе Салтыкова, которого он еще недавно обрызгал ядом своего беспощадного сарказма. В другой раз это было в редакции «Отечественных Записок», в один из понедельников, когда сотрудники собирались от 2 до 4 часов, весною 1868 г. На этот раз он влетел в редакцию веселый, бодрый. Он пришел, чтобы проститься перед своим отъездом на лето в Дуббельн, на морские купанья. Он оживленно говорил, когда в редакцию вдруг вошла совершенно незнакомая ему девушка с большим поясным портретом его и, узнавши подлинник, подошла к нему с робкою просьбою подписаться под фотографическим изображением. Его самолюбие, пишет Скабичевский, было польщено этим доказательством его популярности, тем более, что она обнаружилась на глазах людей, пред которыми Писареву должно было быть особенно приятно выступить в своем настоящем значении. Это было его последнее свидание с сотрудниками журнала. Он задумывал ряд статей для будущего сезона, бросил две статьи о Дидро и о современной Америке, потому что случайно сошелся: в выборе предмета с другим известным писателем, и с светлыми надеждами говорил о своих будущих литературных занятиях, которые до сих пор как-то не складывались в настоящую систему. От морских купаний он ожидал благотворного воздействия на расстроенные нервы и ехал в Дуббельн потому, что не мог получить официального разрешения на поездку за-границу. Никто не мог предположить, что дни Писарева были тогда уже сочтены. 4-го июля он вышел, но обыкновению, купаться в море. Недалеко от него, рассказывает в «С.-Петербургских Ведомостях» г. Суворин, купались другие больные и видели, как он начал биться в воде. Они подумали, что Писарев делает обыкновенные движения. На самом деле это была борьба со смертью. Его тело приняло ненормальное положение, к нему бросились, вынесли его на берег, призвали трех местных докторов… Но все усилия возбудить молодую жизнь оказались уже напрасными. «Очевидно, прибавляет г. Суворин, с Писаревым сделался тот-же нервный удар, который поразил его раз во время студентства, среди шумной беседы с друзьями», как это описано в воспоминаниях Полевого. С разрешения администрации тело Писарева было привезено в Петербург, и 29 июля состоялись его похороны на Волковом кладбище. В 1 ч. пополудни от ворот Мариинской больницы двинулось погребальное шествие, сопровождаемое довольно многочисленной толпой друзей и почитателей покойного. Несмотря на тяжесть свинцового гроба, его сняли с катафалка и несли на руках попеременно до самого кладбища. В публике было не мало дам.
– «Кого это хоронят?» спрашивали многие по дороге. И узнав, что хоронят Писарева, примыкали к толпе и шли без шапок до самой могилы.
Когда гроб был опущен в землю против могилы Добролюбова, через дорожку, на его крышку посыпались цветы. Воцарилось долгое, глубокое молчание. Наконец, начались речи. Говорили Павленков, Гирс, Гайдебуров и Благосветлов. Два оратора бросили друг в друга полемические копья. Другие говорили задушевно, дружески горячо. Речь Благосветлова произвела сильное впечатление. Дамы громко рыдали. Гирс прочел два стихотворения… По окончании погребения многими было выражено желание почтить память покойного учреждением при Петербургском университете стипендии его имени, и тотчас-же была собрана довольно значительная сумма в 700 рублей.
Так закончилась эта короткая, безрадостная жизнь. Писарев умер на двадцать восьмом году, после восьмилетнего литературного труда, после целого ряда публицистических и критических битв, окруживших его имя всероссийской славой. Неутомимый работник и яркий литературный талант, он успел оставить глубокий след в истории целой эпохи и связать свою деятельность, в качестве ближайшего преемника, с журнальною деятельностью Добролюбова и Чернышевского. Он был прямым продолжателем философских идей Чернышевского в той области, в которой его дарование сверкало лучшими достоинствами. Он довел до конца те взгляды на искусство, которые Чернышевский разработал в своей знаменитой диссертации, и на живом, можно сказать, классическом примере невольно обнаружил их теоретическую несостоятельность и практическую опасность для развития литературного творчества. При выдающихся публицистических способностях, Писарев не обладал ни философским образованием, ни серьезными научными знаниями, которые позволили-бы ему взглянуть на задачу литературы под более широким углом зрения. Настоящий критик по призванию, с непосредственной любовью к изящному, с острым и свободным аналитическим умом, он не нашел, может быть, не успел найти своего пути и сделал критику орудием журнальной агитации в пользу идей, не имевших прямого отношения к тому делу, к которому он был призван. Вот почему в его наиболее известных критических статьях, страдающих, несмотря на блеск красноречия, некоторою растянутостью и утомительным многословием популяризатора для учащегося юношества, мы, рядом с сильными и гибкими определениями художественной манеры писателей, их мировоззрения и психологических наклонностей, встречаемся постоянно с искусственно притянутыми и до наивности простодушными рассуждениями об эгоизме, о мыслящих реалистах, о бесплодности всяких научных абстракций. Он никогда не может удержаться в пределах своего предмета и мысль его, уносимая течением времени, механически привязывает к своей теме те вопросы, которые, при ином отношении к критической задаче и критическим методам, могли-бы получить внутреннее освещение и разработку по пути всестороннего и глубокого психологического анализа самого художественного произведения. Оставив после себя интереснейший материал для изучения эпохи, для обрисовки боровшихся в ней течений и стремлений, он параллельно с этим оставил в русской литературе ряд критических работ, поражающих своей дикой и бесплодной парадоксальностью и на долгое время наложивших свою печать на суждения журналистики и общества о важнейших проявлениях русской духовной культуры. Не имея глубоких философских и научно-социальных оснований, направляя интеллигенцию к освободительной правде случайными и ложными путями, его принципы легко распространялись среди мало образованных, хотя и передовых слоев русского общества, воспитывали поколение в узкой дисциплине догматического и поверхностного реализма, а в литературе призывали к деятельности людей без оригинального ума и таланта, с тощим запасом затверженных фраз из ходкого реалистического лексикона, людей, неспособных ни на какую самостоятельную культурную работу. Идеи реалистического утилитаризма разменивались на мелкую монету, теряя всякую жизненную свежесть, и за поколением фанатических борцов, сильных своею самобытностью, стали выступать мелкие, придирчивые эпигоны.
Сноски
1
История новейшей русской литературы, А. М. Скабичевского, Спб. 1891 Главы шестая и седьмая. – Сочинения А. Скабичевского, Спб. 1890. Том I. Дмитрий Иванович Писарев, – «С.-Петербургские Ведомости», 1868. No№ 193, 194. Воспоминания о Дмитрие Ивановиче Писареве (1857-1861). П. Полевого. – Там-же № 197. Недельные очерки и картинки (Нечто о г. Благосветлове) Незнакомца (А. С. Суворина). – Биографическая библиотека Ф. Павленкова. Д. И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность. Е. Соловьева, Спб. 1893. – Сочинения H. В. Шелгунова, том второй. Спб. 1891. Из прошлого и настоящего, главы XVIII и XIX. – «Дело», 1868 г. Август, С Невского берега (Похороны Д. И. Писарева). – «Отечественные Записки». 1868, Июль. Некролог. Д. И. Писарев. H. К. – «Русское Обозрение» 1893 г. Январь: Письма покойного Д. И. Писарева, писанные им к разным лицам из под ареста. Предисловие А. Д. Данилова. Письмо Д. И. Писарева к Р. А. Г. Письмо к девушке, никогда автором его не виденной. Февраль: Второе письмо Д. И. Писарева к той-же девушке. Март: Письмо к Г. Е. Благосветлову. Июнь: Письмо к Благосветлову. Август: Письмо к Благосветлову. – Октябрь Письмо к Благосветлову.
2
В. И. Жуковский рассказал нам относящийся сюда эпизод. Писарев, беспокоясь несколько о библиографических материалах для своей диссертации, явился к однокурснику своему, некоему Утину, который работал на ту-же тему и получил затем золотую медаль за свое сочинение. Оказалось, что Утин обставил свою работу массой сочинений на разных языках, которые лежали тут-же в его кабинете. В то время, когда его вызвали в другую комнату, Писарев, по естественно загоревшемуся любопытству, стал перелистывать раскрытые книги и прочитывать отдельные места. Возвратившийся Утин, желая осадить опасного соперника, заметил: «Дмитрий Иванович, вы злоупотребляете вашим зрением». Слегка смущенный Писарев, с недоумением в глазах и улыбкой удивления, произнес какую-то незначительную фразу и, вежливо откланявшись, ушел. Он не искал больше никаких литературных пособий для своей диссертации.