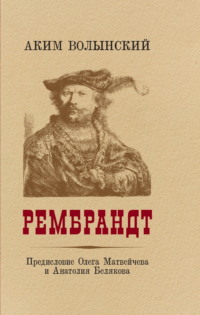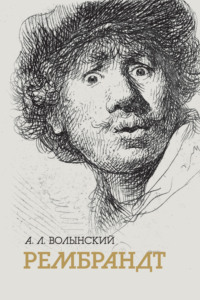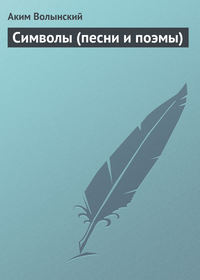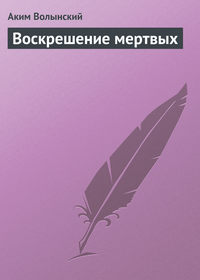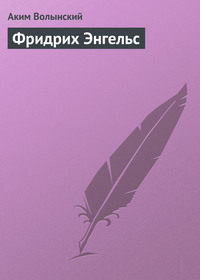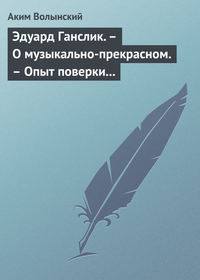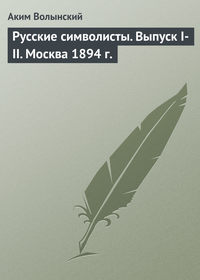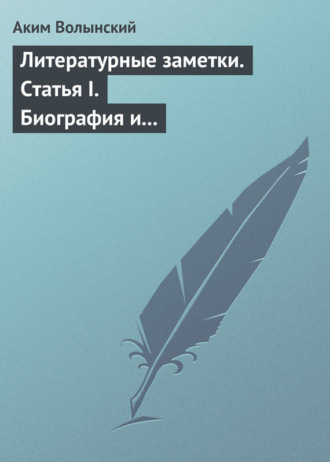 полная версия
полная версияЛитературные заметки. Статья I. Биография и общая характеристика Писарева
III
А роман с Раисою шел своим порывистым ходом, разгораясь во время свиданий на каникулах, но не давая никакой отрады сердцу Писарева. Нельзя было не видеть со стороны, что Раиса никогда не сделается его женою, о чем он открыто мечтал в разговорах и письмах к матери. Расцветая, Раиса все более и более удалялась от своего друга, у которого не хватало сил для победы над её чувствами. Его любви недоставало непосредственной выразительности и мощи, которая захватывает женское сердце, поднимает и уносит без рассуждений и даже вопреки всяким рассуждениям. Подходя к ней со всею правдивостью и откровенностью убежденного реалиста, готового снять с любви её поэтический покров, как фальшивую театральную мантию, хотя и во всеоружии передовых взглядов на назначение женщины, Писарев, лишенный в глазах Раисы обаяния страстной силы, должен был казаться ей непривлекательным героем для романа. Вырастая духовно, он должен был казаться ей более или менее чуждым человеком, из совершенно другой среды, с другим назначением, мало подходящим для семейной жизни. её влечения, страсти, вся её неглубокая, но изящная душевная организация тянулись в другую сторону, навстречу другим, более жгущим впечатлениям. В ней была потребность в настоящей, страстной любви, с её яркими вспышками в патетические моменты, с её кокетливою игрою легких, дразнящих ощущений, с её волнующей борьбою различных желаний и требований. Их разводила дисгармония темпераментов, и мятежному духом, но вялому по организации Писареву не суждено было овладеть тем счастьем, которое рисовало ему воображение при мысли о Раисе. Настоящий разлад между ними начался с осени 1859 года. Приехав в Грунец, Писарев не нашел Раисы. Она оказалась у своего дяди, который не пустил ее в семью на это время. Писарев затосковал, стал убегать в сад, чтобы где-нибудь, в тенистой беседке или на траве, лежа на ковре с раскрытой книгой в руках, отдаться упорной и тревожной мысли о любимой девушке. «Он не любил, рассказывает сестра его, Вера Ивановна Писарева, – чтобы его заставали в такие минуты тяжелого раздумья. В нем при этом просыпалась какая-то гордая стыдливость, и он старался навести., речь о каком-нибудь совершенно безразличном предмете, меньше всего интересовавшем его в данную минуту». Видя глубокое огорчение сына, мать Писарева решилась поехать за Раисой. Прошло несколько дней в самом тяжелом, мучительном ожидании. Он не мог работать, статьи не писались. Наконец, мать вернулась с письмом от Раисы, в котором она откровенно созналась, что любит другого. Прочтя письмо, Писарев, как это бывало с ним всегда, когда нервы его не могли совладать с напряжением души, судорожно зарыдали., как маленький ребенок. Утешения и горячие призывы к труду молодого Трескина, который тогда еще не разлучался со своим другом и в вакационные месяцы, не могли, конечно, успокоить Писарева. Он крепился, сам разрисовывал новые перспективы – жизнь ради литературного труда, с одними умственными наслаждениями, с новой любовью или даже вовсе без любви, но все эти реалистические мудрствования ни к чему не приводили. Униженная страсть сильнее, чем когда либо, скручивала его душу, напрягая все её естественные склонности, толкая ее к чему-то смелому, решительному, экстравагантному. На обратном пути из Грунца в Петербург он посетил своего счастливого соперника, красавца Гарднера, и узнав на месте, что он страдает, серьезным физическим недугом, который ног-бы даже быть препятствием к его браку с Раисой, он с некоторым злорадством спешит поделиться этим важным открытием с своей матерью. В первом письме из Петербурга он просит ее приласкать Раису в минуту тяжелого горя и помочь ей перенести грустное испытание. Сам он не отказывается теперь от своих первоначальных надежд, хотя он был-бы не согласен повторить Раисе свое предложение: это было-бы неуважением к её несчастной любви, сломленной в самом стебельке. Он подружился с Гарднером и светло смотрит на открывающуюся перед ним дорогу, пишет он с напускною рассудительностью. Только одно несчастье могло-бы сломить его: сумасшествие с светлыми проблесками сознания. «Все остальное: потеря близких людей, потеря состояния, глаз, рук, измена любимой женщины, – все это дело поправимое, это всего этого можно и должно утешиться». Желая во что-бы то ни стало доказать своей матери, что он не переоценивает постигшее его несчастье, он развивает в письме к ней целую теорию эгоизма, хотя тут-же, явным образом обнаруживая замешательство психического настроения, рассказывает ей о своих ужасных сомнениях во всем и во всех, в самой жизни, которая показалась ему вдруг сухою, бесцветною, холодною. Он вообще не понимает, что с ним происходит и, заканчивая одно из своих трогательнейших писем к матери, нервно восклицает: «мама, прости меня! мама, люби меня!» Опрокинув в своем уме всякие научные Казбеки и Монбланы, как вспоминает он об этом периоде своей жизни в статье «Наша университетская наука», он вдруг представился самому себе каким-то титаном. Ему показалось, что он совершит чудеса в области мысли. Два-три месяца он, действительно, работал неутомимо. Руководимый какою-то странною идеею, он прочел восемь песен «Илиады» в подлиннике, сделал много выписок из немецких исследований, трактовавших о мифологических и теологических понятиях Гомера. Он чувствует себя Прометеем, имеющим право презрительно выслушивать советы и увещания товарищей… Однажды, за ужином в товарищеском кружке, Писарев, все время казавшийся скучным и молчаливым, быстро встал с своего места, рассказывает Полевой, и поднял кверху руку. Все разом взглянули на него и, весело настроенные, ожидали блестящего спича. Но Писарев вдруг обвел своих товарищей какими-то мутными глазами и стал медленно опускаться на пол. Товарищи бросились к нему и успели его подхватить. Обморок продолжался недолго, но после минутного просветления сменился совершенно бессознательным состоянием. Его бережно снесли на руках в сани и, привезя на квартиру, осторожно раздели и положили на диван в кабинете старика Трескина. Приехал доктор, осмотрел, ощупал его и покачал головой. Через несколько дней Писарева пришлось перевезти в психиатрическое заведение доктора Штейна. В течение четырех месяцев о нем не было известно ничего положительного. Говорили, что Писарев дважды покушался на свою жизнь и что вообще болезнь его находится в самом печальном состоянии. Вдруг, в один весенний день, он бежал из заведения Штейна, явился в семейство Трескина, где был встречен с распростертыми объятиями любившим его стариком. Через полчаса после Писарева к Трескину приехал доктор Штейн с одним из своих помощников, но старик Трескин. резко загородив собою Писарева, отказался выдать пациента. Он отвез его к матери, и за лето, на свежем воздухе, здоровье Писарева совершенно понравилось. Когда он явился осенью в Петербург, он показался товарищам повеселевшим и даже пополневшим: румянец играл у него во всю щеку, он говорил по-прежнему умно и бойко, и только в глазах его было заметно какое-то беспокойство. По-видимому, кузина слегка приласкала его, и он опять, быть может, не без вспышки новой надежды, ожил и стал стремиться к широкому литературному труду. К этому времени относятся его переговоры с Евгенией Тур о сотрудничестве в «Русской Речи», которое не сложилось только потому, что Писарев оказался в эту минуту чересчур ярым эстетиком и фанатическим поклонником поэзии Апполона Майкова.
Между тем роман его шел в окончательной развязке. Брак Раисы с Гарднером считался делом решенным и, по мере приближения рокового дня, Писарев снова терял душевное равновесие он стал убеждать ее вступить с ним хоть в фиктивный брак, чтобы сейчас-же после венца уехать с Гарднером за-границу, в расчете, что Раиса вернется к нему, когда пройдет первое брожение страсти. Зная, что супружеское счастье Раисы с Гарднером не может устроиться, он решился даже откровенно объясниться с нею на счет её будущего мужа. Очевидным образом теряя всякое самообладание, он раскрыл перед нею эту интимную сторону дела, смягчая грубость своего бестактного сообщения в хорошо отшлифованных фразах французского письма. Раиса отвечала сдержанно и с. достоинством, что не поколеблется в своих намерениях. День свадьбы настал. После венчания, происходившего в Петербурге, так-как за последнее время Раиса жила у дяди Писарева, А. Д. Данилова, молодые отправились на вокзал Николаевской железной дороги. Не помня себя от отчаяния и ревности к сопернику, Писарев полетел за ними и на платформе произошла ужасная сцена: он быстро подошел к Гарднеру и ударил его хлыстом по лицу. Взбешенный Гарднер опрокинул его на дебаркадер и, вырвав хлыст, несколько раз хватил его по щекам. Писарев, как он сам об этом рассказывал, не сопротивлялся, даже не сделал попытки защитить лицо руками…
Скандал этот произошел с Писаревым в то время, когда его имя уже пользовалось популярностью в петербургских кружках.
IV
В воспоминаниях Шелгунова мы находим небольшой рассказ о том, как он впервые познакомился с Писаревым. Однажды, в 1861 году, Шелгунов утром зашел к Благосветлову. В первой комнате у конторки стоял щеголевато одетый, совсем еще молодой человек, почти юноша, с открытым, ясным лицом, большим, хорошо очерченным, умным лбом и с большими, умными, красивыми глазами. Он держался прямо и во всей его фигуре чувствовалась боевая готовность. Это был Писарев – в начале своей блестящей литературной карьеры, покончивший счеты с университетом и выступивший смелым бойцом на журнальном пути. Слава в это время, можно сказать, бежала за Писаревым. Каждая статья его, исполненная молодой силы и стихийной удали, гремела и звенела. Его литературное красноречие холодным, освежающим каскадом вливалось в сознание общества. Благосветлов понял цену своего нового сотрудника и давал ход всем его писаниям с готовностью умного и ловкого издателя, знающего потребности современного читателя. Каждая книжка «Русского Слова» выходила с несколькими работами Писарева, вносившими необычайное оживление в критический отдел журнала. В полтора года молодой писатель напечатал ряд статей по самым разнообразным литературным вопросам, которые точно определили главные черты его умственной физиономии. Ясно было, что Писарев идет по совершенно определенному пути, и когда, 3-го июля 1862 г., он был оторван от своих постоянных занятий и заключен в крепость, его писательская личность уже могла считаться в очень значительной степени выясненной. К этому времени определилось существенное различие в понимании молодой России между критиком «Русского Слова» и критиком «Современника» в статье Писарева об «Отцах и детях»: «Базаров». Такие статьи Писарева, как «Московские мыслители», «Русский Дон-Кихот», «Бедная русская мысль» не могли не создать ему совершенно определенной литературной репутации. Живой талант, с огромною производительною энергиею, с необычайною ясностью и почти примитивной простотой своих отчасти реформаторских, отчасти разрушительных требований и аргументов, чувствовался в каждой его заметке. Общество насторожило внимание и потянулось к «Русскому Слову», где раздавалась эта звонкая, смелая, новая речь. И в это-то время, сейчас-же после приостановки журнала на восемь месяцев, Писарев должен был выйти из жизненного водоворота, который мог укрепить и разносторонне развить его силы. Одиночное заключение в крепости, продолжавшееся почти четыре с половиною года, до 18 ноября 1866 г., должно было, при его реалистических склонностях, неизбежно сковать его дух и, придав ему необычайную интенсивность в одном направлении, сузить его умственный горизонт некоторыми теоретическими вопросами, возникшими для него еще на последнем курсе университета и сохранившими на долгое]?время юношески-докторальный характер. По справедливому замечанию Скабичевского, Писарев не был расположен ни к какой конспиративной деятельности, и можно считать роковою случайностью, что писатель, начавший теориями чистейшего индивидуализма без малейшего политического оттенка, вдруг оказался в чем-то виноватым и был призван к тяжелой уголовной ответственности. Скабичевский так передает в своей «Истории новейшей русской литературы» причину ареста Писарева. В апреле 1862 г., рассказывает он, появилась брошюра Шедо-Фероти, содержавшая в себе разбор письма Герцена к русскому лондонскому посланнику, – брошюра, крайне благонамеренная и потому допущенная цензурою к продаже. В качестве критика «Русского Слова», Писарев написал рецензию на эту брошюру, которую однако оказалось невозможным напечатать в журнале. Однажды к нему пришел товарищ по университету Баллод и, узнав историю с рецензией, предложил ему отдать ее для напечатания в тайной типографии, с которой он состоял в постоянных сношениях. В другое время Писарев наверно отклонил бы подобное предложение, но по закрытии «Русского Слова» и в том угнетенном настроении духа, в каком он тогда находился, он быстро согласился переработать в надлежащем тоне свою статейку и отдать ее в полное распоряжение подпольной печати. Вскоре затем Баллод был арестован, а за ним, по документам, найденным при обыске, попался и Писарев. Такова одна, наиболее распространенная в печати версия. По краткому, но, как нам кажется, более правдоподобному рассказу Шелгунова дело с арестом Писарева происходило иначе. Баллод пришел к Писареву и попросил его написать какую то прокламацию. Писарев согласился, но написанная им прокламация, найденная у Балдода, послужила материалом для обвинения ею в государственном преступлении. Эту версию подтвердили нам и некоторые лица, интересовавшиеся арестом Писарева в качестве близких ему людей…
В крепости жизнь Писарева потянулась однообразная, но полная литературного труда. Четыре года одиночного заключения не могли сломить его сильный ум, с необычайною поспешностью и легкостью изливавшийся в многочисленных, ясных и свежих статьях, проходивших, как говорили в то время – по словам А. К. Шеллера, любезно передавшего нам некоторые свои воспоминания в небольшом письме – через благосклонную цензуру коменданта крепости кн. Суворова, который изумлен был светской выдержкой этого политического арестанта и его безукоризненным знанием иностранных языков. К этому тяжелому времени, служившему испытанием его физических и нравственных сил, относится большинство его литературных работ, все то, что окончательно упрочило его славу в качестве первого критика эпохи. Он не падал духом. Даже не зная, когда и как окончится его заключение, он переходил от одной темы к другой, затевал полемические войны и бился со своими многочисленными литературными противниками, не давая чувствовать ни единым словом, ни тончайшим намеком своего исключительного, страдальческого положения, как это делали-бы на его месте люди более мелкого пошиба, склонные к кокетливой браваде и рисовке перед публикой. Он жил напряженными, головными интересами. От литературных занятий он отвлекался только для самых необходимых писем, которые он писал микроскопическими буквами на маленьких клочках, оторванных от полей печатных страниц, и которые мать уносила после свиданий с ним в башмаке, переписывала для доставления по адресу, сохраняя на память оригиналы. И в этих письмах, не стесняемых никакой цензурой, нет ни малейшей жалобы. Вникая в свою ответственную литературную задачу, он как-бы радуется своему невольному одиночеству. Его силы сберегаются для настоящего труда: нет более бессонных ночей за картами, сознается он в одном из трогательных писем к матери, обстоятельства взялись приучать его к правильному образу жизни, накапливать в нем энергию, которую он, живя на свободе, непременно разбросал-бы по сторонам. Уединение бывает полезно не для одних сумасшедших, рассуждает он с серьезным убеждением, – от него часто выигрывают люди, совершенно здравомыслящие: становишься спокойнее, выучиваешься сосредоточивать мысль на одном предмете. В одиночестве, вдали от впечатлений столичной жизни, хотя она клокочет где-то вблизи, за стеною, он чувствует себя настоящим журналистом. «Журналистика, пишет он почти за два года до выхода из крепости, 24 декабря 1864 г., – мое призвание. Это я твердо знаю». Ему не трудно написать в месяц от четырех до пяти печатных листов, совершенно не изнуряя себя. Не развлекаемый никакими случайными интересами, он чувствует, что форма выражения дается ему теперь еще легче, чем прежде, хотя он стал гораздо требовательнее к себе в отношении мысли. Эти свойства растут и развиваются в нем с каждым днем, так что всякая новая его статья, чуждая какой-либо раздражительности, пышных риторических фраз, выдержанная в строгой логической последовательности, не может не содействовать полному успеху любимого дела. «Если мне удастся выйти опять на ровную дорогу, мечтает вслух Писарев, то я наверное буду самым последовательным из русских писателей и доведу, свою идею до таких ясных и осязательных результатов, до каких еще никто не доводил раньше меня». Он будет выбирать подходящие для его таланта сюжеты, станет популяризировать естествознание, строго придерживаясь метода опытных наук, и в год он напишет не меньше 800 страниц…
Среди этих мужественных юношеских размышлений вдруг проносится поэтическое воспоминание о Раисе. её образ еще не померк, несмотря на пережитые от неё унижения и испытания последних лет. Он думает о ней часто, иногда с досадою, иногда с грустью, но всегда с сильным желанием увидеть ее. Он упрашивает свою мать сообщить какие-нибудь сведения о ней. Но в борьбе со своими неугасшими поэтическими чувствами он ощущает неодолимую склонность к безбурной, слегка идиллической семейной жизни с женщиной, которая могла-бы оценить его правдивые и честные стремления, которая давала-бы ему светлый отдых от труда, не волнуя и не терзая его сердца никакой особенной любовью. Он уверен, что был бы очень хорошим мужем, так как будет всегда любить и уважать ту женщину, которая согласится быть его женой, никогда не станет изменять ей, потому что будет всегда занят серьезным делом. Но где же Раиса? Увы! С её именем не связано больше никаких надежд. Где вообще та девушка, которая согласилась бы принять его предложение? Слегка разгоряченное одиночеством воображение, не встречая отрады ни в каком живом впечатлении, готово ухватиться за всякий случай, чтобы наполнить каким-нибудь содержанием это пустое место в его жизни. Нет Раисы, но в письмах сестры и матери стало мелькать имя какой-то другой девушки, Лидии Осиповны, которая, судя по их словам, могла-бы занять место Раисы в его жизни. И вот он решается на странный, в высокой степени наивный поступок. Он просит свою мать сделать ей от его лица официальное предложение и затем, как бы сознавая неловкость своего поступка, посылает ей длинное объяснительное письмо, где он в холодно-резонерском тоне доказывает ей, что они могли бы пойти одною дорогою, в качестве мужа и жены. Он уверен, что она должна его понять и оценить. Умный и порядочный человек с честным образом мыслей, без всякого романтического отношения к самой любви, умеющий смотреть правде прямо в глаза, он не может допустить, чтобы она предпочла ему какого-нибудь олуха. «Лидия Осиповна! – восклицает он, обращаясь к ней, – не губите себя! вам непременно надо выйти за нового человека». Что может ей помешать принять его предложение? Отсутствие любви? Но любовь вещь очень простая и естественная, когда даны все её условия: молодость, ум, приличная наружность. Он некрасив собою, но, во 1-х, красивых мужчин на свете очень немного, а во 2-х, он не урод, у него не пошлая физиономия, у него даже «с некоторых пор сделались очень умные глаза». Вы умны и я умен, соображает Писарев, стало быть тут, кроме равенства, не может быть других отношений. Пусть ее не беспокоит Раиса. Она исчезла из его сердца с тех пор, как она бросилась на шею своему красивому олуху… Изумленная этим предложением, сделанным человеком, который находился в исключительном, жизненно-бессильном положении, Лидия Осиповна отвечала отрицательно. Иначе, конечно, она поступить и не могла. Но Писарев, во всеоружии своих реалистических аргументов, стал с особенной силой выкладывать пред нею свои преимущества пред всяким олухом. Она будет с ним счастлива. Их жизнь будет отличаться редкою содержательностью. Во-первых, они будут получать все русские журналы и многие статьи будут прочитывать вместе. Во-вторых, они будут получать несколько иностранных газет и журналов. В-третьих, к их услугам будет всегда множество книг. В-четвертых, они будут водить знакомство с людьми очень смирными, простыми, работающими и совершенно бесцеремонными. В-пятых, Лидия Осиповна может обращаться к своему ученому мужу за объяснениями, когда наткнется на какие-нибудь непонятные ей вопросы. В-шестых, она может усвоить, при помощи своего ученого мужа, немецкий или английский язык. Наконец, в седьмых, в их жизни не будет никакой роскоши, но и никаких чувствительных лишений, а министерство финансов будет всецело в руках Лидии Осиповны. Выписав с такою полною добросовестностью все пункты этой хартии семейных вольностей, Писарев выражает твердое убеждение, что двух-трех задушевных разговоров достаточно для того, чтобы они полюбили друг друга. О Раисе пусть она забудет: прошедшее не воротится назад. Да и Раиса теперь не такая, какою он ее помнит. Он видел её карточку: она сделалась худою, больною, пожилою женщиной, в её письмах – пустота, слабость, усталость. Нет, он больше не завидует Гарднеру. Весь прошедший период жизни кажется ему каким-то беснованием, не исключая даже того момента, который выбросил его из колеи его обычной литературной деятельности и привел к крепости. Он здоров и крепок, и воспоминания прошедшей любви уже начинают застилаться туманом. Ему нужна действительность… Но все эти доказательства ни к чему не привели. Лидия Осиповна уклонилась от его лестного предложения, в котором не проглядывало никакое непосредственное чувство. К тому же вся мудрая рассудительность Писарева относительно его собственных чувств и желаний разлетелась прахом при первом новом испытании. По-видимому, Писарев не выдержал характера, когда обстоятельства позволили ему обменяться с Раисою несколькими новыми фразами – неизвестно точно, при личном ли свидании в крепости, во время приезда Раисы в Петербург, или в письмах. Во всяком случае в печати недавно обнародовано небольшое письмо Писарева к Раисе Гарднер. Отвечая ей на какое-то расхолаживающее замечание, он с деланным равнодушием, под которым чувствуется уязвленное самолюбие, старается рассеять её иллюзии насчет неизменности его пылких чувств. В последний раз он делает усилие, чтобы вырвать из сердца эту любовь, которая манила, дразнила и волновала его с детства. Она еще раз промелькнула на его бледном, тусклом небосклоне, но это была уже последняя туча рассеянной бури. Горизонт очистился, но неудачи s сердечные обиды наложили меланхолическую печать на всю его дальнейшую жизнь и нравственную физиономию…
Среди писем интимного характера, сохранившихся от времени пребывания Писарева в крепости, находятся и письма его к Благосветлову, с которым он поддерживал постоянные отношения. По содержанию эти письма имеют или строго-практический характер, или, в большинстве случаев, относятся к различным делам его по редакции «Русского Слова». Писарев то слегка перекоряется с Благосветловым по вопросу о гонораре, несколько аффектированно подчеркивая свои реалистические понятия и материалистические наклонности, то из уединения крепостного каземата управляет полемикой журнала с «Современником».. Он не допускает пока и мысли расстаться когда-нибудь с «Русским Словом», и для приведения к твердому принципу их взаимных отношений, он предлагает Благосветлову, «вместо нравственной деликатности», сделать фундаментом этих отношений «взаимную выгоду, что совершенно согласно с нашей общей теорией последовательной утилитарности и систематического эгоизма». Пусть Благосветлов отыскивает и доставляет ему как можно больше книг, а он, Писарев, будет по-прежнему писать как можно лучше – «для того, чтобы приобретать себе деньги и известность»… В этих словах чувствуется юношеская бравада упрощенностью разумного принципа. Имея дело с таким практическим человеком, как Благосветлов, Писарев, с наивностью кабинетного теоретика, старается перещеголять своего опытного и знающего толк в денежных делах издателя и защитить свои интересы под маскою убежденного ревнителя житейских благ. Однако сила в этих деловых отношениях была всецело на стороне Благосветлова, который искусно и успешно сочетал огромное трудолюбие толкового редактора с талантом твердой эксплуатации своих ближайших и полезнейших сотрудников. Наивная и бескорыстная душа, Писарев, со всем своим реалистическим апломбом, всегда проигрывал в своих денежных схватках с Благосветловым и в то же время, раздражая его издательское самолюбие, давал ему против себя оружие своими циническими изречениями.
Очутившись на свободе, Писарев почувствовал себя как-то странно. Одиночество, создавшее его лучшие, наиболее яркие, наиболее сильные литературные труды, вошло в его привычки. Он приноровился жить одною внутреннею жизнью и умственно сгорая над своею работою, он приобрел всю сосредоточенность отшельника и страстную напряженность невольного узника. Четыре лучших года пронеслись, как одно мгновение, без единой сердечной, человеческой радости, но с злорадным удовлетворением беспощадного борца, наблюдающего из скрытой засады, как разрываются среди остервеневшего неприятеля посылаемые им гранаты. Он был отрезан от мира, но дух его жил среди русского общества, возбуждая молодые умы, вызывая всеобщие распри. Выйдя на вольный воздух, он как-то растерялся. На него нахлынули живые, пестрые впечатления, от которых в течение четырех лет отвык его мозг. Его охватило волнение – психическое и физическое волнение человека, который, после долгого плавания по-морю, сойдя на берег, ощущает головокружение, как-бы не находя под ногами твердой почвы. Его природная неспособность переживать страстные бури и потрясения дала себя чувствовать. Нервы отказывались служить ему, и недуг, пережитый еще во время студенчества, минутами смутно шевелился в нем, прорываясь в экстравагантных поступках. Однажды рассказывает Скабичевский, Писарев поразил своих знакомых, смешав во время обеда все кушанья в одной тарелке и начав есть эту мешанину. В другой раз он вдруг стал раздеваться в гостях при всеобщем переполохе… Писарев не сразу вошел в старую колею усердного журнального труда, и на некоторых статьях его, появившихся в «Деле» 1867 г., нельзя не видеть отпечатка какого-то внутреннего недомогания. Резкий переход от одиночества, в котором он сумел сохранить всю крепость и остроту своей духовной организации, к свободе, которая еще не создала необходимых для него условий и обстановки успешной литературной работы, временно отнял у его статей тот блеск светлой, быстрой мысли, который поражает в его лучших произведениях. Но мало-помалу расстройство улеглось. Прежние привычки ожили в нем вместе с любовью ко всякому внешнему изяществу, со склонностью к романтическим увлечениям. Он по-прежнему корректен и даже слегка кокетлив в своих костюмах. Его манеры приобрели печать изысканного благородства, и весь он, со своею деликатностью, благовоспитанностью и некоторою застенчивостью, сменившею теперь прежнюю юношескую самоуверенность, должен был производить, при личном свидании, подкупающее и даже до некоторой степени трогательное впечатление. Таким именно он рисуется в своей встрече с Тургеневым, которого он поразил своею сдержанностью в разговоре на самую жгучую для него, боевую тему о Пушкине. Тургенев не скрыл от него своего негодования по поводу его статей о лучшем русском писателе, резко подчеркнув его бестактность в истолковании пушкинской поэзии. Не смягчая пред юным и дерзким критиком своего полного разногласия в этом важном вопросе, Тургенев мог ожидать страстной и уверенной реплики, пылкого и красноречивого возражения с знакомым ему задором писаревских статей. Но Писарев, внимательно слушая его, не возражал. Тургеневу запомнилась его изящная фигура в бархатном пиджаке и общее впечатление от свидания с ним, в котором с первых-же моментов выступал его прямой и честный ум, не пугающийся никакой правды.