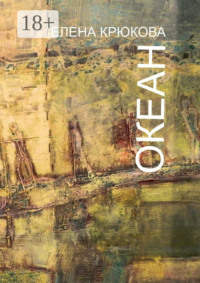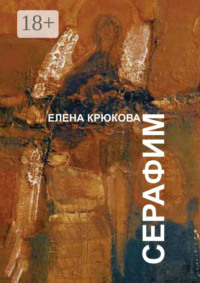Полная версия
Поклонение Луне (сборник)
– Мадам, силь ву плэ… сэ вотр данс…
– Говоришь, мой танец, – пожала плечами Елена и презрительно кинула руку на круглое плечико французика, – ну, давай, брат, да только бы мне тебя ненароком не раздавить, козявку!
Она уже смеялась. Она уже танцевала с этим толстым дядькой, поземка музыки обвилась вокруг их ног, ветер музыки понес их, как два листа, и Елена поразилась – как прекрасно, упоенно вальсировал этот коротышка, как он вел ее, уверенно, сильно, красиво!
– Ого, – сказала Елена, ловя ртом воздух, – да ты Наполеон, братец…
«Как хорошо, когда они не знают твоего языка. Можно болтать все, что вздумается».
– Napoleon?! – радостно взвизгнул толстый поросеночек, вдавливая пальцы-сардельки в ребра Елены. – O, Napoleon! C’est tres bien, Napoleon! C’est ma France! O, madam… vous…
Толстячок задыхался, они танцевали уже третий танец. Первый был вальс, Елена точно это помнила, на три четверти. А два других она не знала; гриб боровик вел ее, и она просто подчинялась ему. Он что-то бормотал ей, музыка заглушала его слова. Она изумленно поняла, что в таком восторге от танца с ним, что, помани он ее пальцем, она бы без раздумий пошла с ним.
«Матушка, ты просто сбрендила. С таким-то мужчинкой?!»
«А может, он богат. Может, миллионер. И – парижанин, мать, парижанин. Черта ли ты торчишь одна в этом своем Нижнем?! Не теряйся… выбирай… здесь все твои будут… вот увидишь, все будут твои…»
Не успела она очухаться от танцев с круглым колобком, заправить за уши растрепанные мокрые кудряшки, поправить сбитую набок юбку и украдкой – бретельки лифчика, как ее тут же пригласили снова. На этот раз кавалер был помоложе и постройнее. Высокий, даже чуть выше ее. Долговязый, худерьба. «Ну вот, то толстый, то тощий, – закусила она губу от смеха, – везет же мне…»
Новый партнер оказался еще умелее, чем толстяк. Елена танцевала в восхищении. Музыка гремела, музыка ныла и томилась, и пары без устали двигали ногами, откидывали головы в резких па танго, мелко, по-муравьиному перебирали ногами в ласковой, быстрой и нежной сальсе, и Елена, стреляя глазами по сторонам, тут же все схватывала, тут же повторяла, и стучали, стучали каблучки босоножек по гладким кабошонам старой мостовой. Она вскинула голову. Высоко над ней сияла-сверкала в густо-алой, коричнево-розовой тьме длинная, как великанская дубинка, страшная башня, и железные перекрытия светились скелетными чудовищными ребрами, подсвеченные десятками мощных софитов. Стальной мертвый скелет сторожил Париж, а люди жили внизу, люди копошились, да, люди жили, умирали, опять рождались и снова танцевали – здесь, на мосту Искусств. «Бог ты мой, да ведь это же Эйфелева башня. Старушка, я не узнала тебя нынче ночью! Я совсем полоумная от этого пьяного танго». Елена выпяченной нижней губой отдула кудрявую прядь со щеки.
Ее приглашали и приглашали, мужчины наперебой рвали ее друг у друга из рук, и она, еле успев передохнуть, наглотаться сырого речного воздуха, наклонившись над перилами моста над черной, со вспышками огненных взлизов, быстро бегущей Сеной, снова протягивала руку тем, кто опять тащил ее в танец, соглашаясь, принимая, кивая: да, я ваша! Да, я с вами! Я танцую сегодня! Здесь, в Париже, на мосту! Сегодня ночь – моя!
И все и правда видели, что сегодня ночь – ее.
А может, ей это только казалось, и пары крутились и вертелись, совсем не обращая на нее вниманья, и музыка заглушала все сбивчивые речи, и молчанье в танце говорило больше, чем все слова, а музыка и так говорила все за людей, – кричала, умоляла, признавалась, бросалась на грудь. И – бросала. И – убивала. И – снова любила, снова, снова.
И Елена с ужасом почувствовала, как она перестает в танце быть собой. Елены Афанасьевой, по паспорту Елены Кружки, больше не было. Была только любовь.
Она стала любовью. Любовь вскидывала руки на плечи мужчинам. Любовь подавалась навстречу мужским глазам и рукам. Любовь обвивала ногами мужские ноги. Любовь стонала и выгибалась, и любовь вспыхивала и гасла, и опять возгоралась, потому что любовь не может исчезнуть навек. Елена умирала, а любовь нарождалась. Любовь глядела сверху на колышущийся от множества танцующих пар ночной мост, и любовь видела, что мост, как кудрявая голова под теплым ветром, весь шевелится, копошится, дрожит, – муравейник любви, пчельник любви, и, пока горят факелы, и пылает музыка, и течет ночь, и течет Сена…
– Что? – Чужие руки обнимали ее, а она опять говорила по-русски. Она не могла по-французски, она боялась. – Что?.. Где я?..
Танцевавший с ней мужчина молчал. Все лица мужчин для нее в эту ночь слились в одно лицо. Лицо это моталось над ней, лицо дышало в нее тысячью запахов, лицо улыбалось тысячью улыбок; но она не глядела в это лицо, потому что главным был танец, и она боялась ошибиться, боялась споткнуться, боялась сделать не то па, выкинуть не то коленце, ведь она была сейчас музыкой и любовью, – а кудрявая женщина, которую все приглашали и приглашали на танец, танцевала отдельно от нее. Но мужчина был настойчив, мужчина что-то ласковое говорил и все сильнее прижимал Елену к себе, и в это лицо она взглянула.
Раскосая, густая синева. Глаза воткнулись в нее, как два камаргских ножа.
– Экскюзе муа, – выдохнула Елена. Руки мужчины держали ее крепко. Не вырваться. – Я наступила вам… на ногу…
«Черт, здесь нет Пашки, она бы перевела…»
Мужчина смолчал. Не ответил ей. А что бы он ответил ей, иностранке? Мало ли из каких стран приезжают в Париж люди. Да со всего света! Мало ли кто приходит по воскресеньям потанцевать здесь, на мосту Искусств! Вот и она пришла. А ночь-то не кончается! Боже, как он прекрасно танцует! Лучше всех этой ночью. Спросить, что ли, как его зовут?.. Черт, а как это по-французски?..
«А вотр сантэ, а вотр сантэ», – лезло ей в голову ни к селу ни к городу. «Да, винца бы сейчас… ледяного… красненького…» Она облизнула пересохшие губы, и раскосый синеглазый мужчина понял ее жажду. Елена ахнуть не успела, как он наклонился и прижался влажными губами к ее губам.
И ее сотрясла дрожь желания, ни разу не испытанного в жизни.
Не звериного, не помрачающего ум, нет. Тело потянулось к чужому телу, да; но странным, не пережитым ранее был свет, непонятный свет, что будто разгорался внутри нее, под ходуном ходящими от усталости ребрами. Свет набирал силу, крепчал. Свет уже заливал ее изнутри – и уже выходил из-под ребер наружу, и Елена со страхом увидела, как изошедший из нее странный свет заливает лицо мужчины, ночного танцора, сжимающего ее в объятьях. Свет ударил снизу и вверх, в лица им обоим, и сначала Елена дико подумала: факел! – а потом поняла: это так светится ее лицо, а лицо изнутри подсвечивает ее сердце, а сердце, что бьется-колышется, как у загнанного зайца, в последнем в эту ночь танце, подсвечивает изнутри любовь.
И она сама потянулась губами к этим губам, жестким и мягким, как мясо парижских устриц, горячим, влажным и колючим, за ночь великого танца отросла его синяя щетина, к губам, вобравшим ее губы, как жерло вулкана вбирает пылающей лавой заблудшее облачко, к этому чужому языку, внезапно ставшему родным, как ручная рыбка, как ласковая змейка, что раньше сажали, играя, царицы себе на грудь; и то, что затвердело у него снизу, чуть повыше бешено бьющихся бедер, у нее, отразившись в темном зеркале ее живота, стало тающим и текучим, горяче-восковым, мокро-соленым, – да, она плакала изнутри, и там, внизу ее живота, не было ее всегдашней хищной, тигриной жажды взять, урвать, поглотить, обладать, – а лились светлые слезы, да, там тоже был свет, он лился снизу вверх, он тек внутри нее солнечной, лунной рекой.
Свет из живота. Свет из сердца. Свет от лица.
Мужчина еще крепче прижал к себе ее, ставшую светом.
– Je t’aime, – ожег он языком факела ее ухо. – Mon lumiere… tu…
Пары кружились вокруг них на мосту, а они стояли и целовались.
И водоворот танцующих обтекал их, неподвижных.
И Эйфелева башня, вся в мелких точках жемчужных огней, луврской фрейлиной-старухой сторожила их поцелуй.
Он что-то сказал ей, она не поняла.
– Я устала, – выдохнула она счастливо, задыхаясь.
Так, как она сейчас, раздувая бока, дышал после скачки ее белый ахалтекинский жеребец, на котором она прошлой весной скакала в Камарге.
Он снова притянул Елену к себе. Снова вспышка этого победного, золотого света.
– Господи, – пробормотала она, оторвавшись от его губ, – Господи, Господи… – И добавила по-французски, чтоб ему было понятно: – Mon Dieu…
Он схватил ее за руку и без слов потащил за собой. Она, перебирая утомленными ногами, послушно повлеклась за ним, за его широким шагом, почти побежала. Вниз, все вниз и вниз, по каменным, древним ступеням. Елена споткнулась. Охнула, подвернула ногу. Держась за его руку, присела, сдернула босоножку с ноги. Жалобно показала ему.
– Каблук! – крикнула она по-русски и повторила зачем-то, будто бы он мог понять: – Каблук! Каблук!
Она так танцевала сегодня, что сломала каблук. А ведь хорошие были босоножки, крепкие, от «Andre».
Он взял ее негодную босоножку и швырнул в реку. Она сняла другую и тоже бросила в Сену. Обе босоножки поплыли по черной воде, в золотых масленых бликах фонарей и факелов, как детские кораблики.
Она шла за мужчиной все дальше, вниз по ступеням, в черную тень нависшего над ними моста. Она чувствовала себя древней и юной. Она была этими старыми камнями. Этой лодкой, баркой у парапета, увитого диким виноградом. Этими быками моста, сырыми, влажными, в длинных волосах диких и пряных, пьяно-йодистых водорослей. Этим рваным журналом «Paris Match», забытым на каменной ступе близ воды. Этой черной, цветной, самоцветной, дрожащей, как шкура черного волка, густой, как черное масло, ртутно-подвижной водой. Этой рекой, что века текла куда-то к северному, к серебряному холодному морю. Этой чужою рукой, такой теплой, родной. Этим смоляным факелом на мосту. Этой музыкой… музыкой…
Они уже были под мостом. Музыка все звучала, вверху, высоко над ними. Банджо звенело и безумствовало. Нежно пел бандонеон.
Мужчина сел на камни и потянул Елену за руку, вниз.
И она, слепо подогнув старые, уже по ночам ноющие колени, послушно, как девочка, села рядом с ним.
Губы раздвигают ее губы. Пальцы нежно стягивают ненужную, дрянную одежду, и тряпки скидываются сами, шелестят, как сухие мертвые листья, опадают, обнажая жизнь. Пальцы тихо ложатся на губы: молчи!.. – и продолжают молиться ей дальше, молиться жизни и любви. Вот обнажен и он, и там, внизу его живота, тот крепкий, горячий, перевитый вздувшимися темными жилами стержень, его она тысячу раз умело ощупывала в чужих постылых постелях. Прикоснуться рукой. Нет! Нельзя. Ожог. Почему?! Потому что это… святое… И что, теперь из-за того, что это святое, ты не раздвинешь перед ним свои стройные, как у девчонки, сухопарые, старые ноги?! Раздвину. Уже – раздвигаю.
Они оба лежали, голые, на своей скинутой одежде, на камнях под мостом. Мост закрыл их от огней и от музыки каменной ладонью. Мужчина бережно, тихо просунул обе руки Елене под лопатки и слегка приподнял ее над холодным гранитом. Потом заскользил руками ей под круглый, еще крепкий зад. Вклеил растопленный сургуч всех десяти пальцев в ее жадно приподнятые ягодицы. Она, в угоду ему, держала себя, как хрустальный графин с драгоценным вином, на весу. Она стала речной раковиной, и створки раскрылись. Тихо, медленно в открытые ворота вошла любовь; и медленно, тихо стала танцевать. Танцевать в ней.
Раз-два-три. Раз-два-три. Это вальс?! Да, это вальс. Это я танцую с тобой вальс, любимая моя. Я так долго ждал тебя! Я так долго тебя ждала! Раз-два-три, раз… Видишь? Видишь, как все просто? Не надо ничего выдумывать. Я танцую с тобой под мостом. Ты у меня в руках. Я у тебя в руках. Давай станцуем танго. Но это же на четыре четверти! Да, на четыре. Раз-два-три-четыре. Раз-два-три…
Его живот медленно, мерно подымался и опускался над ее мягким, теплым животом, и жизнь вбивалась в нее, пустую и ледяную, жизнь входила в нее, смеясь и танцуя, жизнь втекала в нее соленой, дымящейся спермой, сладким молоком, первым криком ребенка, черной, маслено-самоцветной чужою рекой, черной, как траурный креп, как черный креп, им затягивают зеркала в доме, где смирно, как дитя в колыбели, лежит покойник в гробу, входила – и выходила, и замирала над ней, и шептала: нет, я еще не прощусь с тобой! Я еще войду в тебя. Вот так… так… Я еще побуду в тебе. Я еще буду с тобой. Я обниму тебя… Я вольюсь в тебя! Я не кончусь, нет… да, еще!.. еще!.. еще…
– Не торопись, – шепнула мужчине Елена. – Слышишь… не торопись… не…
Она хотела сказать ему: «Не кончай еще, побудь еще со мной», – но смерть взяла свое, и оборвалась музыки нить, и он, прощаясь с ночной любовью своей, выгнулся над ней коромыслом, железно, в короткой судороге изогнул спину, вывернул в бешеном па плечи, дернулся всеми сведенными мышцами, торсом, повел ногами, будто вел свою любовь в последнем танцевальном круге, – и опал весь, упал на нее, распятую на камнях, всем долгим поджарым смуглым телом, придавил ее тяжестью мышц и костей, уткнул лицо ей в шею, под мокрые кудри. Застыл.
Елена лежала под ним, мертвым от любви, плакала и смеялась беззвучно.
Прямо в глаза ей светил крошечный фонарь с перил моста.
А может, это была свеча в руке девочки, пришедшей сюда потанцевать, а ее никто не пригласил.
А может, это была тусклая парижская, в дымке лютого смога, звезда.
* * *Елена пришла домой босиком, рано утром. Так, босая, она и топала по Елисейским Полям, и ее остановил ранний утренний полицейский, и что-то клекотал, как гусь, вытягивая из воротника длинную шею, долго и возмущенно, а потом рассмеялся и махнул рукой: иди, мол, подгулявшая ночная бабенка! «Принял меня за проститутку», – догадалась Елена. «Спасибо, друг, что в каталажку не поволок!» – обернувшись, крикнула ему по-русски Елена и сделала ручкой. Ажан сделал круглые глаза, а потом быстро, испуганно повернулся к Елене обтянутым в серо-голубые казенные штаны, куцым задом.
Прасковья отворила матери дверь и с порога весело вскричала: «Ну как ты?!» Осеклась, взглянув на босые, в грязи и пыли, Еленины ноги. Мать, откуда брела-то ты, пробормотала дочь, и голос у нее замер, она подумала, может, не надо спрашивать-то ничего. Может, еще хорошо, что жива осталась. «Ниоткуда, – сначала медленно сказала Елена, вслушиваясь в странный, чужой звук своего голоса, а потом добавила: – Дай мне поесть. Вина и сыра».
И дочь резала сыр и разливала по бокалам розовое кислое ронское вино, с виноградников Роны, во Вьенне и в Кондрие у Жюля жила родня, он был отнюдь не потомственный парижанин, корни их рода уходили в землю Дофинэ и Прованса. И Елена ела. Она откусывала синий козий сыр – и не чуяла запаха сыра. Она отхлебывала ронское озорное винцо – холодное, ну ведь она ночью так хотела вина ледяного! – и не чувствовала вкуса.
Она помнила только вкус его губ.
Она вдыхала запах его рук. Его щек. Его крепкой смуглой шеи. Его полынного пота. Его запах. Запах.
Елена отшвырнула по столу от себя тарелку с синим сыром. Вскочила. В столовой было много места, было где разгуляться. Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три… раз…
– Мама, что с тобой? – спросила Прасковья. – Ты спятила?
Елена танцевала в гостиной, закинув кудрявую голову. Она давно не красилась, и в золотых парчовых завитках нищей холщовой нитью искрила седина.
Раз-два-три-четыре… раз…
Прасковья вытащила из кармана халатика мятные сигареты. Закурила. Пощупала вздувшийся сугробом живот.
– Мать, так понравились танцы?
Елена, посреди гостиной Жюля, зятя своего, в квартире на Елисейских Полях, танцевала, одна, босиком, на скользком, вчера навощенном паркете, пачкая его, роскошный, грязными ступнями, аргентинское танго.
Она пошла туда, на Pont des Arts, еще и еще раз.
Она, пока была в Париже, каждое воскресенье ходила на Pont des Arts, искала глазами его в танцующей веселой толпе, и ее опять приглашали, и она танцевала с мужчинами, со стариками и с юнцами, с низенькими и с высокими, с толстыми и с тонкими, – да ей наплевать было, с кем она танцует, лишь бы танцевать, ведь он придет, он сразу увидит ее, он сам вырвет ее из рук других мужчин ее, он… уведет ее…
Музыка гремела. Музыка затихала. Музыка гладила ее по голому локтю и целовала в висок.
Он больше не пришел.
Я продлю визу в посольстве еще на месяц, заявила Елена дочери. Прасковья передвинула языком мятную сигарету из одного угла губ в другой. «Что случилось, маман? В России мусульманский переворот? В Нижнем прорвало городецкие шлюзы?..» Елена тряхнула овечье-кудрявой головой. «Я буду брать уроки танго у мадам Мартэн!»
Мадам Мартэн, поползли брови вверх у Прасковьи, но ведь это же самая дорогая, дорогущая училка танцев в Париже! Один ее урок, мать, знаешь сколько стоит?! Прасковья орала, Елена ухмылялась. «Ты будешь считать деньги, курица, в моем кошельке! Еще чего! Напрасно! Я и сама смогу это сделать! А ты будешь со мной ходить на уроки! Все равно тебе, брюхатой, делать нечего!»
Мадам Мартэн оказалась крошечной, как болонка, и прыгучей, как блоха, сухенькой старушонкой, и бормотала быстро и неразборчиво, Прасковья еле успевала переводить. У меня в студии не курят, вскинула вальдшнепью головку мадам Мартэн, и Прасковья мрачно затушила сигарету о холодное железо балетного станка. Елена нарядилась в черное трико, подражая балеринам. Она наблюдала себя и мадам в высоких, до потолка, зеркалах. Она осталась собой довольна. «Фигурка еще будь здоров, и ножки как у саранчи. Я перейму эту науку!» Она глядела мадам в рот. Она повторяла па танго, что показывала ей седая болонка, так старательно, что пот падал крупными виноградинами на паркет студии с ее висков, из-под крашеных кудрей.
Один урок у мадам Мартэн и впрямь стоил дорого. Елена заплатила старушенции за десять уроков вперед. Мадам таяла перед Еленой, как безе во рту. Елена выучивала па аргентинского танго: вот это болео, а вот это очос, мах ногой на бедро партнера, мах ногой назад, а вот это, как это называется, черт, забыла, резкое движенье головой туда-сюда, будто бы ты озираешься по сторонам, кто заметил тебя, твою преступную любовь, твою постыдную страсть, твою…
Мадам вела Елену по гладкому паркету студии, как заправский мужчина-партнер, Елена переставала видеть рядом с собой прокопченную на огне вечного танца тощую старушку, а видела мужчину, и любила его, и танцевала с ним единственный, последний танец. Мадам нисколько не задыхалась, танцуя. Мадам кричала: «Дышите! Не забывайте дышать! В танго главное – дышать! Иначе вы утонете!» Она говорила о танго, как о море. Об океане. Она ворковала голубкой: «А вы знаете историю аргентинского танго, деточка?.. О-о-о-о, вы не знаете!.. Ну конечно, откуда… в вашей снежной России… где по улицам, миль пардон, ходят медведи… Танго – это танец простонародья. Это танец тех, кто бороздил Атлантику взад-вперед, в поисках работы, из Аргентины в Париж, из Гавра в Бразилию, из Мексики в Лондон и обратно… в трюмах, во вшивых третьих и четвертых классах богатых, блестящих, золотых лайнеров!.. И они танцевали танго там, в душных табачных трюмах. И мужики лапали баб, миль пардон, и за зады, и за груди… этот танец в утонченной Европе был – нонсенс!.. хулиганский!.. непотребный!.. Он был, душечка, запрещен!.. И музыка, его музыка была запрещена, она вызывала рвоту, она отталкивала, потому что эта музыка была – голая, наглая, неприкрытая страсть… только страсть, и больше ничего!.. А простому народу не надо ведь притворяться. Люди навешали на себя побрякушек… а под мишурой они – голые!.. бесстыдные!.. мужчина и женщина!.. Голые, да, дикие, мокрые, потные… как в Раю… И они сплетались в танго, как в страсти! И стонали в углах трюмов, набитых мешками с табаком, с бананами, с зернами кофе! И, милочка, танец становился любовью, а любовь – танцем. Вот что такое танго! Извольте кушать! Если вы начали танцевать танго – вы не остановитесь уже!»
Прасковья старательно переводила. В крошево нервно мяла пальцами в кармане мятную сигарету. Елена видела, как ее внук толкается у дочери в животе.
Она танцевала в студии у мадам Мартэн. Она танцевала дома: в спальне, в гостиной, на кухне, когда готовила обед и ужин, на лестничной площадке, когда ждала старинный медленный, как кляча, лифт. Она танцевала в парке Монсо, в Люксембургском саду, куда ходила с внучками гулять, – прямо у коляски, и малютка Мари-Жанн таращила из коляски на танцующую grandmaman прозрачные рыбьи глазенки, а малютка Софи, сидя на лавке, кричала по-русски: «Бабуська! Давай!.. Бабуська! Давай!..» Елене было плевать на прохожих. В ней начинала звучать музыка, и она не могла противиться ей. Она разучивала новые па. Она отрабатывала те, что уже узнала. Ей аплодировали у фонтана в Тюильри: «Браво, мадам!.. Манифик!..» Пусть думают, что я сумасшедшая. Что я – старая русская выжившая из ума балерина из Сент-Женевьев-де-Буа. Голуби взвивались у нее из-под ног серыми, сизыми, вверх подброшенными розами, крылатым букетом.
Ближе к весне Елена улетела в Нижний.
Что она делала в Нижнем, как жила, она не запомнила.
Наползали грозовые тучи. Гремело и пылало пьяное французское лето.
В июне Прасковья родила мальчика, и его назвали Мишель, в честь отца Жюля. «Я прилечу и помогу тебе с ребенком», – заботливо сказала дочери в трубку Елена, и это прозвучало как: я устала от твоих котят, киска, но это мой долг, помочь. «Спасибо, маман, но может, я сама?» – вежливо спросила Прасковья, и это слышалось так: живи своей жизнью, мама, у меня-то своя.
Красными каштанами загорался и гас сентябрь.
В октябре маленького Мишеля окрестили по католическому обряду. «Вот мои внуки и французы, по-русски-то уж никогда балакать не будут», – морщила губы Елена, принимая поздравленья друзей на крестинах.
Когда гости уже порядком упились и красным, и белым вином, и коньяками из лучших парижских магазинов, и объелись жареным мясом, и жареной рыбой, и копчеными мидиями, и свежими персиками, и мороженым, и шоколадом, и среди зажженных на столе свечей лениво играли в карты, Елена ушла в свою спаленку, поставила выбранный наудачу диск с музыкой, это оказался Пьяццолла, ну пусть будет Пьяццолла, все равно. Она закинула голову. Закрыла глаза. Руки нащупали лишь пустой воздух. Ноги сами уже танцевали. Это было необоримо. Обжигающая слепая волна поднялась снизу, от пяток, прошла дикой молнией через хребет, хлеще арманьяка замутила хмельную голову.
Болео. Очос. Мах ногой…
Пустота под ногами. Пустота под руками. Пустота внизу живота. Пустота.
В ночное окно тысячью глаз глядел Париж. Он подсматривал. Он тысячью фонарных зубов хохотал над ней.
Над седой, пьяной танцоркой. Над сибирской шалавой.
Над сумасшедшей старухой, бульварной романисткой, что влюбилась в Париже без памяти на старости лет.
* * *Самолет компании «Люфтганза» прямым рейсом из Парижа доставил Елену в Нижний Новгород. Пока летела, она то и дело заказывала у стюардессы выпить: «Коньяк, пожалуйста!» Стюардесса, слащаво-заученно улыбаясь, прикатывала тележку с едой и питьем, и Елена безошибочно вырывала бокал с темно-коричневым коньяком из батареи бокалов с красным вином и желтым апельсиновым соком. Опускала нос в бокал. Правильно, пахнет клопами. А может, и правда на клопах? Хохотала, пила. На рейсах «Люфтганзы» всегда хорошо кормили. Она любила летать, когда она взмывала в самолете в воздух, понимала, что уже втянуты лапки-шасси и железный гусь режет ледяные небесные просторы хищным клювом, у нее замирало сердце, и она гордилась человеком, что выдумал такую быструю машину, гордилась собой.
Она пила коньяк и не пьянела. Пила и не пьянела.
Сосед по креслу, закрываясь вчерашней парижской газетой, опасливо поглядывал на красивую гордую мадам, что хлещет коньяк, как клошар лакает краденый абсент из горла в подворотне.
Париж там, за хвостом самолета. Вот опять Нижний, и вот аэропорт Стригино, и вот родная грязь, родной мат в автобусах и в трамваях, родные нужники в старых дворах. Россия. А может, Прасковья права, и ей надо перебираться в Париж насовсем?
Но, когда Елена катила в такси по набережной Волги, и слепящая синева родного простора опахнула лицо, дурацкие, чесночно-едкие слезы застлали ей глаза. «Старая и сентиментальная», – одернула она себя. Раньше она плакала не так часто. Она поглядела на счетчик, и слезы высохли мгновенно. Шофер обманывал модную богатую дамочку внаглую. Да что там, и в Париже таксисты обманывают. И в Нью-Йорке. И везде.
Она медленно поднялась в лифте на свой этаж. Открыла дверь. Пустотой, пылью и холодом пахнуло на нее из комнат. Она шла по комнатам и видела себя в полный рост в зеркалах. «Как в танцзале у мадам Мартэн», – подумала тоскливо. Хотелось выпить. Распахнула холодильник. Она забыла его выключить. В морозильнике за два месяца наросла толстая ледяная шуба. Выпить не было. В магазин бежать? С дороги-то? Она зло захлопнула дверцу. Сердце билось коротко и гулко, зло, коротко и гулко: раз-два. Раз-два. Раз-два. Раз.