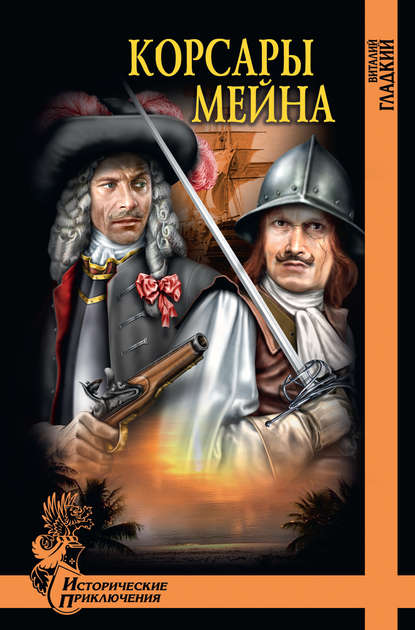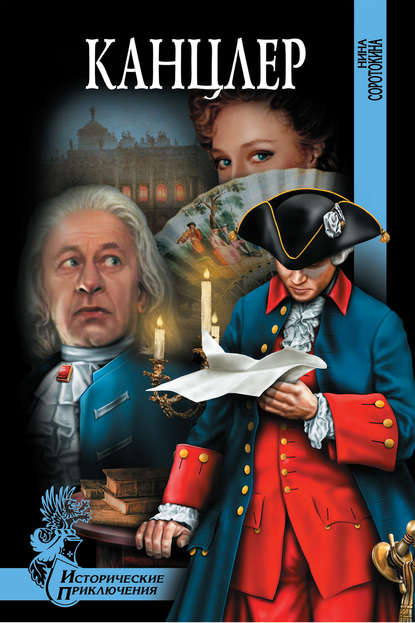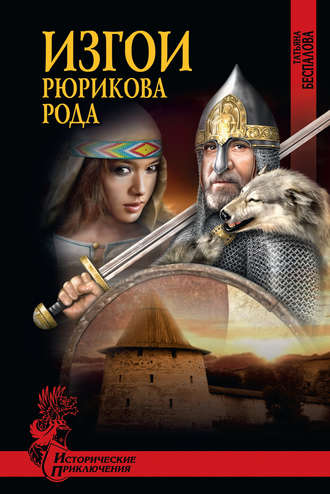
Полная версия
Изгои Рюрикова рода
Начальствующие над дружинами не поладили друг с другом с самого первого дня – с того момента, когда стремянной холоп черниговского воеводы Дорофея Брячиславича не подал новгородскому боярину Каменюке воду. Это случилось в жаркую пору на половине пути между Черниговом и Переславлем.
– Не хозяин ты мне, – буркнул подлый смерд. – Не начальствующий. У тебя вон челяди не считано. Посылай своих за надобой или сам с коня сходи.
С тем и убежал к недальней речке. Каменюка с коня сошёл, скинул на руки припоздавшим холопьям кольчугу, внимательным хозяйским оком проследил за тем, как коня его обиходили, как караванные телеги установили своим обычным порядком – в круг, и отправился к реке. Следом за ним шествовал с чистым исподним наготове его доверенный холоп Игнашка Виклина да Твердятин слуга, дальний родич покойной жены, Грошута. Оба вели в поводу двух хороших хозяйских коней: огромного гнедого Воя и златогривого буйного Колоса.
Хорошо вечерком, после утомительного дня, проведённого в седле, окунуть усталое тело в прохладные, осенённые зеленью ив воды. Хорошо посидеть на бережку в покое и тишине, посматривая, как снует по-над илистым дном мелкая рыбёшка. Хорошо и человеку, и коню приятно. Стоят Вой и Колос в реке. Гривы в воде полощут, всхрапывают, наслаждаются. Над гладью вод золотые стрекозы туда-сюда проносятся, соловьи трели выводят. Благодать!
Так сидел боярин Никодим на бережку, конями любовался, покой вкушал. Глядь, а из воды оскорбитель его, черниговский холоп мордку высовывает. Доволен, чист телом, беспечен, лыбится, на берег лезет настырная тварь, будто бес из преисподней. Знатного новгородца и не замечает вовсе.
– Ах, ти! – вскинулся воевода.
– Чего? – отозвался холоп. – Чего тебе, дядя? Отвороти рыло. Не хочу, чтобы купеческий конюший на наготу мою пялился. Стыдно мне!
– Это я-то конюший? Вот я сейчас тебя взнуздаю!
С этими словами Никодим подскочил и не убоялся же подол рубахи замочить, изловил черниговского холопа, ухватил за загривок и давай кунать башкой в воду, приговаривая:
– Чуешь? Сладка водичка! Холодна водичка! Пей, тварь божья! Упейся, хам!
Черниговский холоп поначалу сопротивлялся, пускал пузыри да дрыгал ногами, но быстро затих.
– Нешто утопил христианскую душу? – осторожно заметил преданный Игнашка. – Вынь его морду-то из воды. Пусть вдохнет, не то…
И Каменюка вынул голову наглеца из воды.
Дав подданному черниговского воеводы продышаться, Каменюка велел Игнашке принести прут потолще. На истошный вопль холопа сбежалось разомлевшее от жары воинство. Резво бежали, наскоро озлобились. Кто пустыми древками махал, кто оглоблей, а черниговский воевода Дорофей Брячиславич успел из торока боевую булаву выхватить. Драка, шум, вой! Впопыхах бока друг дружке намяли, а кое-кого отменно в воде выполоскали. Колос на славу порезвился: и копытами дерущихся пинал, и рвал зубами с плеч рубахи, и толкался крутыми боками. Особо, по случаю, досталось от коня боярину Дорофею Брячиславичу. Злая скотина загнала главу черниговского воинства в воду по самую шею да и не выпускала до той поры, пока сам Твердята на берег не явился, верного своего друга за узду не ухватил да к порядку не призвал. Долго и с немалыми хлопотами извлекало черниговское воинство своего воеводу из реки. Увяз Дорофей Брячиславич в придонной тине. Да так увяз, что боевую булаву потерял, а сам едва не потоп. Новгородцы черниговским уроженцам воеводу выручать помогали, но и глумиться не забывали. Так и вылез Дорофей Брячиславич на берег безвестной речки, в жару до костей продрогший, в жидкой грязи изгвазданный, багровый от злых насмешек новгородцев.
– Хорошо же черниговское воинство! – рычал Никодим Каменюка. – Один борзый конь едва всех не перетопил с воеводой во главе. Горе-вояки! Черниговские михрютки!
С того дня завелась между новгородцем Никодимом Каменюкой и черниговским воеводой Дорофеем Брячиславичем сильная нелюбовь, долгая, длиной до самой смерти.
* * *Караван двигался по полям и лесам, по окраинам Черниговской земли к окраинам земли Переславльской. Эх, темны в этих местах дубравы! Никак не одержат хлебопашцы окончательной победы над деревами. Сколько ни жги, сколько ни своди, ан пройдёт три зимы: глядь – и лес снова вырастает. Сначала бёрезки и осинки корешками за жизнь цепляются, а уж из-под их полога лезут ели да сосны. Стоит лишь немного зазеваться хлебопашцу, и вот он лес, снова вырос!
Караван идёт, оставляя назади деревеньки, сельца и придорожные корчмы. Изо дня в день слышит Твердята мелодии Тат, сложным узором вьются они по-над дорогой. Изо дня в день видит Твердята престарелого отрока Миронега, не взявшего с собой в дорогу никаких припасов, а набившего торокá одними лишь свитками. На границе Черниговской и Переславльской земель, в диких, поросших густым лесом местах пошел караван узкой лесной дорожной. И день идёт, и второй, и третий. Колёса телег о толстые корни запинаются, колючие кусты путников за одежды цепляют.
– Эх, не в ту сторону Владимир Мономах подался, – приговаривал Каменюка. – Вот они, глухие урочища, для волколачьего промысла пригодные. Вот, где хорошо прятаться, натворив злых дел!
Твердята смотрел по сторонам. Может статься, и прав Каменюка – старый караванщик! Темна вокруг дубрава. Стволы древесные частоколом, кроны в вышине смыкаются, свет дневной под себя не пропускают. Полумрак в лесу вечный, словно нет иного времени на свете, кроме смутных сумерек. А в сумерках какая жизнь? В густом подлеске, скрытые переплетением ветвей бузины и бересклета бродят странные существа. Неужто правду бают в Чернигове? Неужто волколаки снова завелись в этих местах? Странно в сумерках человеку, неспокойно. Мутится разум, слепнут очи. Чудятся человеку всякие напасти, и призывает он ангелов Господних на подмогу, а те будто и не слышат. Неужто сами сумеречным сном забылись? Уснуло доброе, дало дорогу злому. Шастает зло по дубраве, смотрит из кустов на проезжую дорогу, примечает беспечных или заносчивых в отваге, или тех, которые в подпитии. Выманивает, разлучает с товарищами-попутчиками и жрёт.
Идёт по лесной дороге Твердятин караван. Волы тянут гружёные телеги. По обоим сторонам воинский конвой: лучники, копейщики. Каждый верхом на хорошем коне, каждый в поводу заводного коня ведёт. Сняли с телег броню и оружие, в полную готовность к бою облеклись. Стерегутся! Утреннее солнце не шибко печет, можно и кольчугу на теле стерпеть. Можно и тяжкий шлем на лоб надвинуть. В середине каравана, верхом на пегом мерине, еле тащится Апполинарий Миронег, черниговский уроженец, родич князя, многие языки познавший ученый-богослов.
Скучно Миронегу, глазеет он по сторонам и ничего не зрит, кроме зелёных листов да коричневых ветвей. И ничего не слышит Миронег, кроме птичьего щебета да скрипа колесного, да конского храпа, да бряцанья сбруи. А Миронегу хочется картин живописных и звуков гармонических. Чтобы к заутрене и к вечере – звон колокольный, чтобы яркие девичьи платки и неистовые пляски. Бывало, на Чернигове сядет Миронег под забором. А внутри него уже полтора ковша зелена вина. А внутри него, как в хорошо истопленной бане, так жаром всё и пышет. А перед ним, в сполохах костра яркие подолы так и вертятся. Ленты, расписные кички, блестящие глаза – молодухи, девки! В такие вечера забывал Миронег и молитвы, и обыденную речь, и, тем более, брань. И бродил Миронег по узким уличкам черниговского посада до самой зари, предаваясь мечтам. Слушал милые голоса земляков, слёзно умолявшие его петь потише. Только под утро если не Мирониха, то Феоктиста уж непременно завлекала его к себе. Или, на худой конец, привратный страж, кланяясь в пояс, приглашал скоротать остаток ночи в коморке, под башней.
А ныне жёсткое село под задом. Купец тут – всему голова. И прозвище его Твердята, и сам он твёрдый, и десница его тяжела, будто палица. Как зыркнет ястребиным оком – так Миронегова душа в опорки прячется. Ни зелена вина, ни плясок тебе, ни игрищ, ни колокольного звона. Эвон сколько лишений, и всё ради того, чтобы купола Святой Софии царьгородской узреть. Да где они, те купола! За синем морем. А где стены родимого Чернигова? Бог весть! Кругом дремучий лес. Ни дороги уж не видать, ни колёсного скрипа не слыхать. Только ветер кронами шуршит. В жизни своей Миронегушка так далеко от дома не утекал. Спал либо у доброй бабы под боком, либо в собственной постели. А если и доводилось ночевать под звездами, то всегда тот забор наутро хорошо знакомым оказывался. А сны! Какие сны увидит путник, трясясь на спине непутёвой клячи! Эх, сейчас бы вина ковш! Но страшнее жажды тумаки сурового Твердяты. Утром чуть свет поднимает, сухой краюхой кормит, простой водой поит, в седло суёт. Сам рыбку только ввечеру вкушает, а зелена вина и вовсе ни-ни. Странное дело, как от столь скудной пищи сила в его плечах не иссякает? Как труды столь тяжкие выносит? И ведь весел! И ведь счастлив!
– Эх, с-с-сабака! – прошептал в досаде Миронег.
– Не собака, не лаюсь, – был ответ. – Лис моё имя. Лис Лисович, Пень Пенькович. А ты, паря, нешто от каравана отбился? Что там, в караване: кони, говяды, дружина?
Отверз Миронег глаза и узрел прямо перед собой лик страшный, бородатый, одноглазый, взрыкивающий.
– Кто ты? Человек или волк лесной?
– Лисица я, – отвечала борода, ехидно скалясь. – Слезай с кобылы, обормот. А ну!
Сильные руки выдернули Миронега из стремян. Упал Миронег, больно хребтом о шершавый ствол ударился. И потащило Миронега по земле, повлекло дальше в чащобу. Хотел Миронег на помощь призвать товарищей, но сунули ему в рот смоляную деревяшку. Ох, и горька ж древесная смола! Ох, и жёстки коренья вековых дерев! Ай, остры сучки!
– Молчи, руками не маши, телеух!
Глас это человечий или рык звериный? Ах, как больно сучья в бока вонзаются! А рожи-то у лесных жителей! А зипуны-то из звериных шкур пошиты! Хотел Миронег осенить себя крестным знамением, но и этого совершить не смог. Скрутили его, связали похитители. Примотали руци к бокам, влекут на смерть! Изловчился Миронег, напрягся, вытолкнул деревяшку изо рта языком, харкнул в небо криком истошным:
– Грабёж! Спасите! Режут! Тат!
* * *Караван идёт через земли обжитые, жизнь идёт от чрева матери к могильному чреву, солнечный диск идёт по небосклону с восхода на закат. Листья падубов шелестят над головами караванщиков, или солнце палит нещадно, когда тащится караван от одной опушки до другой, через широкие поля. Ах, как прекрасны пажити и рощи в начале лета! Свежая зелень дружно колосящейся озими радует глаз. Головные повозки каравана, послушно следуя за литым крупом Никодимова коня, уже втянулись под полог вековой дубравы, в то время как охвостье ещё пылит по полевой стезе. Пыль, воловий мык, колёсный скрип, пропитанные потом рубахи. За караваном следует черниговская дружина. Летний зной заставил латников сложить доспехи на обозные телеги. Размякло воинство, дремлет в седлах. Замыкает шествие воевода Дорофей. Златогривый Колос носит своего всадника из начала каравана в конец, а из конца снова в начало.
– Эй, Каменюка! Всё ли ладно, старинушка? – кричит Твердята в голове каравана.
– Всё ладно! – отвечает новгородский воевода.
– Эй, Дорофей Иоаннович! Всё ли ладно? – ревет Демьян Фомич, возвращаясь к последним телегам обоза.
– Ладно! Отставших нет! – откликается черниговский боярин.
И снова скачет Твердята к голове каравана. Жарко всаднику, жарко коню. Скучен путь по мирным пажитям и давно уж, с самого утра, не видел Твердята Тат. Чем занята? Где-то запропала? Почему отстала, вдруг ли? Ах, вот и она! Вот её шаль цвета сохлых трав мелькает в густой тени дерев. Но зачем дева спешилась? Зачем медленно идёт, зачем крадётся вдоль лесной опушки? Зачем взяла в руки лук? Нешто надеется оленёнка подстрелить? Или узрела в густом подлеске неосторожных птенцов перепёлки?
Внезапно Тат обернулась к нему, глянула пронзительно фиалковыми очами.
– Аппо! – проговорила она, указывая в лесную чащу. – Аппо сгинул в чаще. Его забрали злые люди.
Твердята окинул взглядом вереницу повозок. Заслышав грозные его окрик, затрепетали на дубах листочки:
– Апполинария не вижу. Где Миронег? Эй, паря!
Колос сам знает, куда нести своего всадника. Вот она, головная телега, крытая рогожами. Там в мешках пересыпаны полынным семенем связки отменно выделанных соболиных шкур. Вот смурной возница – уроженец муромы. Вот его пегие кони, тяжёлые на ногу, но выносливые. Здесь, неподалеку с утра трюхал пегий мерин, с родичем Владимира Всеволодовича на спине. С утра трюхал, а ныне – будто волки съели.
– Где Миронег? – сурово спросил Твердята.
– Да тут он! – отозвался Каменюка, оборачиваясь. – Был! Куда же делся? Эй, Грошутка! Не видал ли Апполинария?
– Останавливай караван! Гей, Голик! Чай заснул, мурома! Сто-о-ой! Тат!
Тат шла к ним от леса, держа в вытянутой руке, на отлёте клок рыжеватых, побитых сединой волос.
– Видать, кто-то сдёрнул со старцевой башки волосья, – уныло пробормотал муромчанин Голик.
Тат, ни слова ни говоря, достала из котомки гнутый, кованый обруч. Твердята поначалу принял находку половчанки за обычную гривну – девичье украшение. Однако вместо обычного медного диска с чеканным ликом солнца или птахи, или вскинувшего морду скакуна, на обруч было нанизано изваяние странного пузатого, кривомордого существа – неказистый кусок обожжённой глины, сатанинский амулет. Тат невозмутимо поднесла находки к самому лицу Твердяты.
– Смотри, Деян! Понюхай! Они пахнут кровью и человечьим пометом! – прошипела она. – Аппо пропал. Его унесли демоны леса.
Караванщики из-за спины Твердяты рассматривали странные находки.
– Гляди-ка, дядя! – бормотал Грошутка-новгородец, истово крестясь. – Не дьявольские ли плутни? Смотри!
– Нечего смотреть! – взревел подоспевший Дорофей, воевода черниговский. – Надо вызволять святого человека.
– Я поведу, – сказала Тат. – Идите след в след. Самбырэу, тынчэу, рэхьатэу. Пшы!
– Она просит ступать тихо, не шуметь. С нами пойдут десять человек, – перевёл Твердята. – Остальным – стеречь караван!
– Экий срам! – воевода Дорофей досадливо сплюнул. – Над нами начальствует половецкая баба, рабыня!
– А как же твой земляк, божий человек? – ехидно поинтересовался Твердята. – Нешто оставишь его на съедение нетопырям? Всем молчать! Вшей не гонять, носами не сопеть!
* * *Демьян осторожно раздвинул ветви густого подлеска. Жёлтая шаль Тат мелькала между стволов. Твердята поспешил следом. Под кронами дубов царила полная тишина – ни птичьего щебета, ни звериной возни. Твердята нагнал Тат, отстегнул от поясного ремня булаву. Половчанка обернулась, глянула на его оружие, шепнула с усмешкой:
– Лучше найди дубину подлиннее… Они там, впереди, прячутся, боятся нас…
Послышался едва различимый шелест, это воевода Дорофей извлёк меч из ножен.
Твердята прикидывал расстояние. Они прошли не менее тысячи саженей, углубляясь в лесную чащу. Подлесок вокруг них стал таким густым, что дружинникам воеводы Дорофея пришлось тупить мечи, иссекая ветви жимолости и орешника. Тат же шла впереди команды, неслышно ступая по бурелому. Колючие ветви были ей не помеха, она струилась, текла, подобно воде, пропуская лес через себя, будто вовсе не имела плоти. Она держала перед собой изготовленный для стрельбы лук. Твердята неотрывно смотрел на её грубые, сухие пальцы. Ах, как умело она наложила стрелу, как тверда была её осанка, как цепок взгляд опытной охотницы!
– Верно Тат хорошая охотница, – проговорил задумчиво Твердята.
– Однажды на привале она умыкнула у меня лук, – подтвердил один из обозных возниц, шедших позади Твердяты. – Ушла в лес и до ночи её нет как нет. Однако к полуночи вернулась с добычей. Другой раз, помнишь ли, хозяин, весь день пропадала? Так вернулась с полным кузовом грибов и кореньев… И как только караван нагнала? Много воли ей дали, и поделом…
Тут половчанка обернулась, глянула на болтливого возчика строго и приложила палец к губам.
Наконец отряд вышел на поляну. Косые лучи солнца освещали избушку, сложенную из поросших мхом брёвен. Дерновая кровля съехала на сторону, в открывшуюся дыру струился легкий дымок. Трава на поляне вокруг избушки оказалась примята, а местами вытоптана до земли. Возле кромки леса чернело округлое пятно. Твердята направился было туда, надеясь осмотреть кострище, но чуть не провалился в яму, до краёв заполненную хорошо обглоданными костями. Кости звякнули под его ногой, подались. Купец отпрянул, прислушался. Всё вокруг казалось пусто и тихо. Дорофей Брячиславич подал знак, и двое черниговских дружинников изготовились к стрельбе, навели острия стрел на подёрнутую мхом, дощатую дверь избушки. Тат приблизилась к яме. Останки, наполнявшие углубление в земле, были чисто обглоданы, выбелены солнцем и дождями.
– Кости-то старые… – пробормотал Твердята. – Только вот не разберу: волчьи, собачьи… Странно! Нешто хозяева хижины не нашли в этих местах лучшей пищи, нежели жилистая волчатина?
– Волчатину нельзя вкушать, не проварив её как следует, – проговорил всё тот же словоохотливый караванщик. – Да и не человечья эта еда. Волк – не дичь, он сам охотник и…
Тат, присев на корточки, принялась перебирать кости. Лук с наложенной на тетиву стрелой она положила рядом на траву. Тат быстро нашла искомое, извлекла из-под груды выбеленных солнцем костей одну, приложила к руке. Твердята следил за ней, а она снова принялась рыться в костях до тех пор, пока не извлекла ещё несколько косточек.
– …а головы они закапывают, – проговорила Тат поднимаясь на ноги.
– Ты утверждаешь, что это человечьи кости? – первым догадался воевода Дорофей.
Тат, не отвечая ни слова, снова наложила стрелу на тетиву и направилась к избушке. Дорофей, дружинники и караванщики последовали за ней.
– Надо разнести дьявольское гнездо на щепы и поджечь, чтобы неповадно стало… – распоряжался черниговский воевода, а дружинники, половчее перехватив секиры, принялись крушить ветхое сооружение.
Тат приоткрыла дверь и проскользнула под низкую притолоку. Твердята не последовал за ней, увлекся, помогая новгородцам стаскивать крышу со стен. Дорофей же Брячиславич отправился вдоль кромки леса высматривать следы в истоптанной траве. Он двигался медленно, ворчал неразборчиво себе под нос, прикидывал. Стрела угодила в его кожаный, обшитый металлическими бляхами нагрудник. Дорофей поначалу остолбенел, а потом, зычно взревев, выдернул стрелу. Ответом на его рёв стала туча стрел, большинство из которых угодила в занимающуюся пламенем кровлю избушки. Над поляной повисло дымное облако. Твердята видел, как за ним, на опушке, мечутся огромные тени. А дружинники уже бежали туда, разматывая веревки в надежде изловить невидимых стрелков. Им навстречу из дыма вылетали стрелы.
– Что за напасть! – зарычал Твердята. – Кому придёт на ум выпускать стрелы, не видя цели? Где же родич князя?! Где Миронег?!
Дверь хижины со стуком отворилась и Тат выволокла на свежий воздух Апполинария Миронега. Божий человек был едва жив. Он стонал, орошая поредевшую, слипшуюся кровавыми колтунами бороду потоками слез и растирая посиневшие запястья. Вооруженные секирами, караванщики Демьяна метались под кронами дерев, по краю поляны, пытаясь разыскать невидимых стрелков. Лучники черниговской дружины выпустили несколько стрел наугад, но остановились, повинуясь приказанию воеводы не тратить попусту стрелы. Тат прислонила обезумевшего от страха Миронега к бревенчатой стене. Половчанка зачем-то, так некстати, достала свою свирель, облизала губы и несколько раз дунула в неё, извлекая странный прерывистый звук, пронзительный, похожий на зов неведомой птицы.
– Уа-а! – отвечая зову дудки, заголосила опушка. – Не рвите бороду! Пощада! Пощада!
Твердята обернулся. На краю поляны завязалась нешуточная схватка. Воевода Дорофей со товарищи сумели отыскать и извлечь из зарослей бузины полуголое, до глаз заросшее бородой существо. Лесной житель был облачен в полуистлевший балахон, короткие штаны, пошитые из волчьих шкур и волчью же шапку. В руках он держал большой лук, за плечами его болтался колчан, изготовленный из дурно выделанной кожи.
– Вот он, волколак-то! – рычал Дорофей Брячиславич. – Напрасно Владимир Всеволодович на север от Чернигова подался! Тут они, волколаки-то!
Пленник вырывался, норовя покусать обидчиков, дрыгал тощими ногами, вертел головой, звонко клацал челюстями. Наверное, и вправду сродни он волкам, не иначе.
– Ую-ю-ю! – выл он. – Ар-р-рац! Ар-р-рац!
Тат продолжала извлекать отрывистые звуки из своей свирели, а Дорофей изловчился да и хряснул пленника по макушке кованою рукоятью кинжала. Тот обмяк, затих, подхваченный под мышки одним из дружинников.
– У-у-у! И дух от него звериный! – фыркнул черниговский воевода. – Словно из норы барсучьей смердит!
Поначалу птица парила, зависала в небе над поляной, бросая вытянутую крестообразную тень на траву. Потом, когда свирелька Тат издала особенно протяжный, жалостливый стон, птица стала медленно снижаться. Это был серо-крапчатый сокол. Большой, красивый, с жёлтым клювом и желтыми же когтистыми лапами. Он расселся на коньке тлеющей крыши. Казалось, и сизый дым ему нипочем, и вопли людей, и проносящиеся время от времени стрелы. Между тем Тат уже спрятала свирель в складках своей одежды, скрутила шаль жгутом и обмотала её вокруг талии. Оглушительно треща крылами, сокол поднялся в воздух и исчез в дымном облаке. Твердята насторожился: что замыслила половчанка? Тат же, подхватив на бегу брошенный кем-то из караванщиков топор и моток пеньковой веревки, поспешала к лесной опушке, к зарослям, где металась черниговская дружина, сволоча на чем свет стоит невидимых стрелков.
Сокол находил стрелков в чащобе и подзывал хозяйку громким клекотом. Твердята узнавал о месте нахождения Тат по бренчанию колокольцев, вплетённых в её косы, и по треску птичьих крыл. Эх, если б половчанка умела по-хорошему орудовать топором, так, как это принято на Новгородчине или в прочих местах, осенённых благодатью Богородичной милости! Тогда уж толку от их беготни стало бы куда как больше! Они извлекали из-под кустов кусачих бедолаг, вонючих, заросших спутанными, усыпанными гнидами волосами. Тат глушила их обухом топора, бросала на землю, ловко стреноживала по рукам и ногам, будто баранов. Потом она следовала дальше – шла на зов сокола в лесную чащу. Твердята поторапливался за ней, прислушиваясь к возне и крикам на опушке, куда его караванщики вместе с дружинниками Дорофея стаскивали пленённых Тат лесных жителей. Некоторые из лесников пытались сопротивляться, щетиниться дрекольем, но Тат перерубала древки всё тем же топором. Движения её были стремительны. А Твердята боролся со странной дремучей сонливостью. Разве он не ловкий всадник, не отважный воин – участник множества толковых и пустых схваток? Или он, поросший густым мхом, подточенный прелью лесной пень? Вот один из лесников замахнулся на Тат литой, усеянной шипами палицей. Как она успела уклониться? Мгновение тому стояла прямо между Твердятой и противником. Оба были совсем близко. Купец брезгливо сплюнул, приметив в кучерявых волосах лесника суетливое копошение мелких хлюстов. Ан сгинул миг – и Тат уж лежит на боку, на земле. Ещё миг – лесник валится ничком, проламывая жилистым туловом куст жимолости. Вой, рык, хлопанье крыл в вышине. Твердята застыл, рассматривая вшивого людоеда, поглядывал то на перепачканную кровью Тат, то на жалобно воющее чудище.
– Убей, – тихо молвила половчанка, поднимаясь на ноги. – Спроси только сначала, где прячут монеты. А потом – убей.
Тат скрылась в густом подлеске, оставив Твердяту наедине с искалеченным лесником. Вскоре к купцу присоединились его караванщики – шустрый, сообразительный Ваньша Огузок да каменнотелый Любослав, следом за ними притащился и присмиревший Миронег. Нестерпимо смешно стало Твердяте смотреть на ощипанную бороду и на изгвазданную в грязи одежду черниговского страстотерпца.
– Зачем ухмыляешься, Демьянка? – всхлипнул Миронег. – Нешто радуешься горю ближнего, а?
– Не радуюсь – дивуюсь!
– О-о-о! – стонал у них под ногами раненый лесник. – Посфади меня, боаин! Не дай поинуть!
Он шипел и корчился от боли, харкая на бороду кровавой слюной, ворочал глазами, изгибался, пытаясь зажать руками раны на ногах.
– Что-то не вижу я на нём честного креста, – заметил Ваньша Огузок. – Или половчанка срезала?
– Почти-ка «Верую», – ласково попросил лесника Твердята.
Тот умолк, беспокойно посматривая на зажатый в руке у Демьяна нож.
– Откуда знать нехристю честную молитву? – заныл Миронег. – Людоеды, кровопийцы, злобные алчные твари… Хотели меня позорной смерти предать, кровь высосать, а мясо хищным воронам скормить…
– Да не скормить, – усмехнулся Любослав-глыба. – А сожрать. Нанизать тебя, святоша, на вертел да и…
Но новгородцу не довелось закончить глумливую речь свою. Из лесной чащи неслышно вернулась Тат, окинула быстрым взглядом и изломанный куст жимолости, и ощипанного Миронега, и новгородцев. На мгновение Твердяте почудилось, будто гримаса досады исказила её иссечённое шрамами лицо, будто налились гневом фиалковые очи. Она раскрыла ладонь, высыпала на окровавленную траву горсть грязных монет.