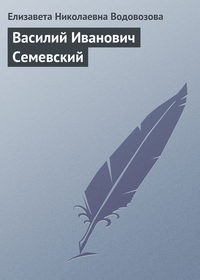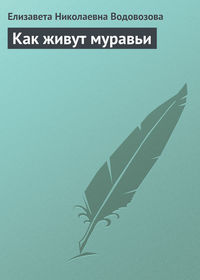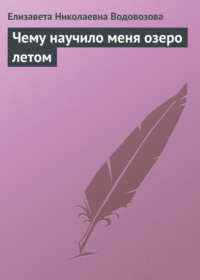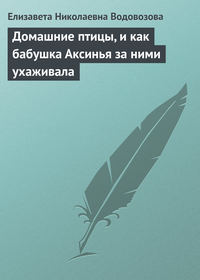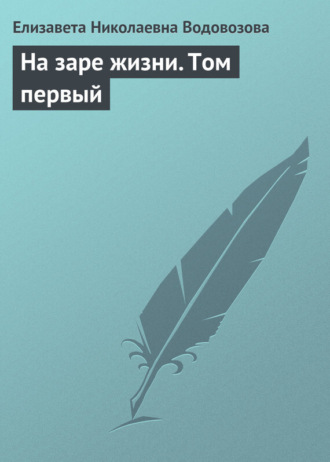 полная версия
полная версияНа заре жизни. Том первый
Тут уже вспыльчивая по натуре матушка не стерпела и, прервав разглагольствования начальницы, запальчиво заговорила о том, что только институтское начальство могло сделать что-то грязное из простого свидания ее сыновей с их родною сестрою. Что касается ее брата, то она, начальница Леонтьева, должна быть ему еще бесконечно признательна за то, что он не довел эту историю до сведения государя. Матушка прибавила еще, что она решительно не понимает, «зачем ее превосходительству понадобилось вспомнить об этой во всех отношениях выясненной истории, в которой кругом виновато было институтское начальство, поверившее клеветническому доносу классной дамы. Вероятно, ее превосходительство, – смело добавила матушка, – вспоминает эту историю потому, что она, ее превосходительство, привыкла говорить только с подчиненными, не смеющими возражать ей, что же касается ее, Александры Степановны Цевловской, то она не подчиненная ей, а потому и не желает выслушивать клевет, признанных за таковые даже институтским начальством, а что это было именно так, как она говорит, видно уже из того, что инспектриса просила ее брата не доводить эту историю до государя».
Такого потока горячей речи моей матери начальница не в силах была остановить. Величественно поднявшись с дивана, она протянутой рукой гневно указала моей матери на дверь. Но та повернулась к ней спиной только тогда, когда договорила последнее слово.
Мы спускались уже по лестнице, когда, вся запыхавшись, нас нагнала Оленкина (dame de compagnie[93] Леонтьевой). Она протягивала мне какую-то книгу и с ужасом лепетала: «Какие неслыханные дерзости вы осмелились наговорить начальнице! И все-таки ее превосходительство так ангельски добра, так бесконечно снисходительна, что приказала передать вам Евангелие. Она надеется, что эта священная книга…» Но я заметила, что моя мать еще не остыла, порывается что-то возражать, и, схватив книгу, потянула матушку за собой.
Мы быстро спустились вниз, тронулись в путь, и я навсегда оставила стены «alma mater», чтобы вступить на новую, совсем неизвестную мне дорогу жизни, к которой я была совершенно не подготовлена институтским воспитанием.
Сноски
1
По Венскому конгрессу 1815 года Польша была разделена между Россией, Австрией и Пруссией. 8 июня 1815 года Александр I издал манифест о создании Польского королевства. В декабре была обнародована конституция русской части Польши, которая объявлялась навсегда соединенной с Россией династической унией. Русский император одновременно являлся и польским королем. Законодательная власть принадлежала королю и народному представительству – сейму, который имел право решать лишь те вопросы, которые будут ему предложены на рассмотрение королем.
2
Речь идет об Александре Николаевне Цевловской (Саше, Шуре), с конца 1861 года занимавшей должность помощницы начальницы Мариинского женского училища в Смоленске.
3
В частности, можно указать на книгу проф. И. И. Игнатович «Помещичьи крестьяне накануне освобождения» (М. 1910), в которой автор неоднократно ссылается на воспоминания Е. Н. Водовозовой.
4
Многие действующие лица в моих «Воспоминаниях» названы вымышленными именами; изменены и названия местностей. (Прим. Е. Н. Водовозовой.)
5
дорогой маменькой (франц.).
6
Возможно, речь идет о князе Н. Б. Голицыне, дилетанте-литераторе и музыканте, одном из основателей петербургского Общества любителей музыки. Он же, по-видимому, имеется в виду в главе III.
7
фотографии (от франц. Daguerre и греч. typos).
8
В районе Аустерлица (старое австрийское наименование города Славко в Чехословакии) 20 ноября 1805 года на Праценских высотах произошло сражение между армией Наполеона I и союзными войсками России и Австрии под командованием Кутузова и фактическим руководством Александра I.
9
У Прейсиш-Эйлау (ныне город Багратионовск Калининградской области) 26–27 января 1807 года произошло кровопролитное сражение между войсками Наполеона I и русской армией. Все атаки французских войск были отражены. Под Фридландом (Восточная Пруссия) 2 июня 1807 года русская армия под командованием ген. Л. Л. Беннигсена была разбита французской – под командованием Наполеона I, что сделало возможным выход французов к русской границе.
10
Речь идет о русско-турецкой войне, начатой в 1805 году Турцией, подстрекаемой французской и английской дипломатией. Войну эту Турция вела в союзе с Персией. В 1810 году русские войска одержали победу над турками близ Рущука и на левом берегу Дуная уничтожили всю армию великого визиря.
11
Под Лейпцигом (Саксония) произошло 4–7 октября 1813 года сражение между войсками союзных европейских государств и армией Наполеона I, известное под названием «Битвы народов». Поражение Наполеона в этом сражении привело к потере Францией всех завоеванных в Европе территорий.
12
Имеется в виду «дарованная» Людовиком XVIII после первой реставрации (1814) цензовая конституция, делавшая возможным приход к власти, наряду с дворянством, верхушки финансовой и торговой буржуазии.
13
В данном случае «маетностями» автор называет помещичьи имения.
14
одобрением (от лат. approbatio).
15
Здесь: размышление (от франц. resignation).
16
доверенности (от лат. confidential).
17
доход (от франц. profit).
18
Венцом здесь назван ряд бревен в срубе избы.
19
В то время вместо керосина крестьяне по вечерам жгли лучину, защемленную в светец. Он представлял собою высокую толстую деревянную палку с широкой подножкой; на верху ее была прикреплена железная полоса, раздвоенная в концах. В раздвоенную часть железной полосы всовывали зажженную лучину. Палка светца была очень высока, а потому горящая лучина освещала всю избу. Это опоэтизированное многими освещение с его треском и внезапным блеском в действительности было отвратительно и легко могло причинить пожар: лучина трещала, отбрасывала на деревянный пол горящие искры, быстро сгорала, и ее то и дело приходилось заменять новою. (Прим. Е. Н. Водовозовой.)
20
Эти прелестные, грациозные зверьки из породы грызунов с огненными глазами напоминали в одно и то же время и зайца и кролика. В зоологии песцами называют животных из породы лисиц, но маленькие зверьки, о которых я говорю, ничего общего не имели с лисицами (Песцами автор называет длинношерстных кроликов.). Очень возможно, что их называли совершенно неправильно в научном отношении, но этих зверьков в то время держали в очень многих помещичьих усадьбах то под печкою в людской, то в какой-нибудь полуразвалившейся постройке. Содержание их ничего не стоило: им бросали капустные листья, стручки гороха и бобов, дети рвали для них траву. Между тем из их прелестного легкого мягкого пуха помещицы вязали себе тамбурною иглой и вязальными спицами красивые платки, косынки, одеяла, перчатки, кофточки и т. п. (Прим. Е. Н. Водовозовой.)
21
То есть со всеми регалиями царской власти.
22
не Согласие, а Ссора (от лат. concordia и discordia).
23
Сонетка – старинное название комнатного звонка, приводимого в действие шнурком или плотной лентой.
24
Мессалина (убита в 48 году н. э.), жена римского консула Клавдия, была известна своим распутством.
25
Разверстка рекрутов, начиная с 1822 года, делалась по числу населения (душ). От рекрутского набора были освобождены дворяне, а также семьи церковнослужителей и купечества. Законом допускалась замена рекрута другим лицом, что давало возможность богатым нанимать за себя бедняков.
26
Поэма К. И. Фоломеева «Счастье» вышла отдельным изданием в Петербурге в 1905 году.
27
В годы детства Е. Н. Водовозовой грамоте обучали по так называемому буквослагательному методу, при котором главным считалось знание букв алфавита и их названий, умение сочетать их в прямых слогах («ба», «ва», и т. п.) и в слогах со стечением согласных («бра», «вра» и т. п.). На смену буквослагательному методу пришел звуковой метод. При обучении по этому методу все внимание обращается на слуховое восприятие. Не буквы, а звуки слов являются главными объектами изучения.
28
О «Священной истории» А, Зонтаг см, в прим. к стр. 496.
29
О времена, о нравы! (лат.)
30
Имеется в виду ходатайство дворянского собрания, производившего отбор кандидаток для обучения на казенный счет в дворянских учебных заведениях.
31
салонные игры (франц.).
32
условия (от лат. conditio).
33
наблюдательный (от лат. observatio).
34
выпад, оскорбление (от. франц. affront).
35
Смольный институт (основан в 1764 году) до начала в нем нововведений, то есть до 1860 года, состоял из двух учебных заведений: Общества благородных девиц, или Николаевской половины, и Александровского училища, или Александровской половины. На Николаевскую половину принимали дочерей лиц, имеющих чин не ниже полковника или статского советника, и потомственных дворян; на Александровскую половину – дочерей лиц с чином штабс-капитана или титулярного советника до полковника или коллежского советника, а также детей протоиереев, священников, евангелических пасторов и дочерей дворян, внесенных в третью часть дворянской книги (В каждой губернии велась дворянским депутатским собранием родословная книга. В третью часть ее вносились лица, получившие дворянское звание на гражданской службе или с пожалованием орденом.). Оба эти огромные заведения состояли под главенством одной начальницы и одного инспектора. Лишь через сто лет после основания Смольного состоялось отделение Александровской половины от Николаевской, то есть полное обособление одного института от другого. С этого времени Александровская половина Смольного получила особую начальницу и своего инспектора. Это разделение произошло по желанию императрицы Марии Александровны, обратившей внимание на неудобства совместного существования двух огромных институтов. Я описываю преимущественно воспитание на Александровской половине Смольного перед эпохой реформ и во время ее. (Прим. Е. Н. Водовозовой.)
36
Воспитанницы педагогического класса назывались пепиньерками. Кроме слушания лекций в институте, они должны были дежурить в кофейном, то есть младшем, классе во время болезни классных дам и спрашивать в это время уроки у маленьких. Пепиньерки одевались лучше и красивее всех остальных воспитанниц: их Форменное платье – серое с черным передником, с кисейною, а по праздникам и с кружевною пелеринкою. В праздничные дни они пользовались правом уезжать по очереди домой. (Прим. Е. Н. Водовозовой.)
37
Урожденная Шилова, Мария Павловна получила образование в Смольном. Вскоре после окончания ею курса императрица Мария Федоровна назначила ее фрейлиной к своей дочери, великой княгине Екатерине Павловне, вышедшей впоследствии замуж за принца Георгия Ольденбургского. Затем Мария Павловна Шилова вышла замуж за генерала Леонтьева, но когда ей было 45 лет, она овдовела и была пожалована императрицей Александрой Федоровной гофмейстериной ко двору своей дочери, великой княгини Марии Николаевны, бывшей замужем за герцогом Лейхтенбергским. В 1839 году Леонтьеву назначили начальницею в Смольный, где она прослужила тридцать шесть лет и умерла на своем посту восьмидесятидвухлетней старухою. Таким образом, сорок пять лет своей жизни Леонтьева провела в институте, из них девять лет как воспитанница, а тридцать шесть лет как его начальница. (Прим. Е. Н. Водовозовой.)
38
Это подтверждают и другие мемуаристы. А. Лазарева в своих «Воспоминаниях воспитанницы Патриотического института дореформенного времени» пишет: «Не говоря о г-же Леонтьевой, поставившей себя в исключительное положение, но и последующие начальницы продолжали держать себя с высокомерною неприступностию и считались в институте какими-то недосягаемыми божествами. Нужно думать, что благодаря этому и некоторые порядки, описанные г-жой Водовозовой, продолжали еще долго царствовать в Смольном» («Русская старина», 1914, № 8, стр. 230).
39
О духе раболепства и угодничества, царившем в Смольном, сохранились и другие свидетельства современников, например, запись в дневнике одной из классных дам института (в прошлом его воспитанницы) – Варвары Петровны Быковой, сделанная ею накануне вступления в должность, 22 апреля 1846 года: «…Меня пугает начальство… лишение свободы, раболепный тон, вечная тревога… мелкие неизбежные столкновения». Спустя несколько лет она записывает: «…Нужда и горе приучили переносить унижения… большею частью смиренно стою пред начальством и жду, когда отпустят или пригласят сесть» (В. П. Быкова, Записки старой смолянки (1833–1878), ч. I, СПб. 4898, стр. 152 и 268).
40
Речь идет об А. П. Олонкиной, приемной дочери О. П. Шишкиной, институтской подруги М. П. Леонтьевой. После смерти Шишкиной Леонтьева поселила Олонкину у себя в Смольном в качестве компаньонки (см. З. Е. Мордвинова, Статс-дама Мария Павловна Леонтьева, СПб. 1902, стр. 50).
41
А. К. Сент-Илер, бывшая воспитанница Смольного, получила место инспектрисы Александровской половины после смерти мужа, преподавателя французского языка. Она «была прекрасно образованна, отлично знала французский и немецкий языки и преподавала нам (своим детям) все учебные предметы», – писал впоследствии ее сын, известный педагог К. К. Сент-Илер («Воспоминания казенного пансионера о третьей СПб. гимназии», «Русская школа», 1898, № 4, стр. 31)
42
В дореформенное время воспитанницы Александровской половины делились на два класса: на младший (кофейный) и старший (белый) в зеленых платьях. В том и другом из них они оставались по три года. Каждый класс делился на два отделения, а каждое отделение – на два дортуара; один из них находился под руководством одной, другой – под руководством другой классной дамы. Воспитанницы одного дортуара спали в одной спальне и были связаны между собою теснее, чем с подругами другого дортуара, хотя они и были с ними в одном отделении, сидели в одной общей классной комнате, – учились у одних и тех же учителей. Так как в каждом отделении было по два дортуара, а следовательно, и по две классных дамы, то они дежурили в классе по очереди и одна из них в свободное время могла уезжать из института. (Прим. Е. Н. Водовозовой.)
43
«Девичьей кожей» называлась пастила из корня просвирняка, употреблявшаяся как средство от кашля.
44
Подобные случаи не были в Смольном институте редкостью. А. Лазарева, например, рассказывает о драматической судьбе своей дочери, поступившей в институт в 80-х годах. Из этих воспоминаний видно, что порядки там остались те же, что в 60-х годах. Дочь Лазаревой, «13-тилетняя, хорошо приготовленная девочка была принята в 3-й класс, где большинство подруг ее были 15–17 лет. Тихая, застенчивая, впечатлительная и нервная, она терялась при каждом окрике. А с поступления в институт она ничего, кроме крика, брани, толчков, не слыхала и не видела. Никто не сказал ей доброго слова, никто же не принял участия, никто не помог ей. Все, на себе испытавшие, знают, какое тяжелое время переживают вновь поступающие, особенно если они попадают в класс, прошедший уже несколько лет институтской жизни. Ежедневные крики, брань, издевательства над новенькой, вроде обливания холодной водой, когда она засыпала… крики классной дамы за все и про все… крики инспектрисы, чуть не каждый день отчитывавшей класс, и т. д. – все это не могло не подействовать на девочку. Она не выдержала, и я через три месяца вынуждена была взять ее совсем из института по совету профессора Мержеевского, предупредившего меня, что девочку ожидает столбняк, если я ее не возьму немедленно. И долго потом я ничем не могла вызвать улыбки на ее лице» (А. Лазарева, Воспоминания воспитанницы Патриотического института дореформенного времени, «Русская старина», 1914, № 8, стр. 230–231).
45
перемена (от лат. recreatio).
46
О казарменном распорядке жизни в Смольном институте оставили свидетельства как педагоги, пришедшие с Ушинским, так и постоянно служившие там. В. И. Водовозов писал в «Секретных воспоминаниях пансионерки», что жизнь институток «напоминала правильность солдатского строя или шахматной доски, по которой, сколько бы вы ни двигали пальцем, все очутитесь в одинаковом четвероугольнике» («Отечественные записки», 1863, № 8, стр. 511). Стены Смольного «давят нынешних наших молоденьких девиц», читаем мы запись 1850 года в дневнике классной дамы Смольного В. П. Быковой (В. П. Быкова, Записки старой смолянки (1833–1878), ч. I, СПб. 1898, стр. 197).
47
овсяный суп (от нем. Haber).
48
Смольный был тюрьмой не только для воспитанниц, но, хотя в меньшей степени, и для классных дам. Им разрешалось лишь изредка отлучаться из института. «…Мы не дежурные и считаемся свободны, – читаем в дневнике классной дамы Смольного В. П. Быковой (запись относится к ней и ее сестре А. П. Быковой, также служившей в Смольном в качестве классной дамы), – но все-таки являйся к детскому столу в 12 часов утра и в 8 часов вечера. Никуда выехать нельзя» (В. П. Быкова, Записки старой смолянки (1833–1878), ч. I, СПб. 1898, стр. 249).
49
многокрасочные печатные копии (от лат. oleum и греч. grapho).
50
«восхитительная», «прелестная», «божественная», «небесная» (франц.).
51
Эти мысли о положении девушек-гувернанток Е. Н. Водовозова более широко развила в статье «Что мешает женщине быть самостоятельною?», написанной по поводу романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» («Библиотека для чтения», 1863, № 9)
52
Терпите ваше наказание, терпите (франц.).
53
Речь идет о генерале И. С. Гонецком.
54
Е. Н. Водовозова говорит здесь о доброте своего дядюшки с родственным пристрастием. Более справедливую оценку его мы встречаем в главе XIV, где автор характеризует генерала И. С. Гонецкого как «дикого консерватора» и монархиста. На совести генерала – активное участие в жестоком подавлении польского восстания 1863 года. Именно Гонецкий взял в плен одного из руководителей восстания, тяжело раненного Сигизмунда Сераковского, которого казнил затем Муравьев-«вешатель». В книге П. Е. Щеголева «Алексеевский равелин» (М. 1929) приводится письмо С. Г. Нечаева о бесчеловечном режиме, созданном для политических заключенных комендантом Петропавловской крепости генералом И. С. Гонецким в 80-х годах. «Судя по тому, – писал Нечаев, – что он посещал равелин только затем, чтобы по часу стоять у дверей каземата и любоваться в щель на отягченное им положение узников, судя по этому, следует думать, что созерцание чужих страданий доставляет ему удовольствие, которое человеческим назвать нельзя» (стр. 288). Возможно, что, живя отдельно от своих знатных родственников, Е. Н. Водовозова не располагала достаточными сведениями о служебной карьере генерала Гонецкого. Правдивый и искренний характер воспоминаний Е. Н. Водовозовой исключает какую бы то ни было преднамеренность с ее стороны при обрисовке личности Гонецкого.
55
Н. Д. Старов, преподававший в Смольном с 1854 по 1860 год русскую словесность, был, до прихода Ушинского и плеяды молодых учителей, одним из наиболее передовых педагогов института (подробно Е. Н. Водовозова пишет о нем в главе XI, где дает объективно правильную оценку его личности). Е. Ф. Юнге, урожд. графиня Толстая, ученица Старова, говорит о нем как о поклоннике Грановского, Белинского, Герцена, большом идеалисте и мечтателе. «Несмотря на свой ум и начитанность, – писала Е. Ф. Юнге, – он был настолько необуздан, что заносился в своих речах иногда до абсурдов, но всегда был вполне искренен и потому имел влияние на окружающих, в особенности на молодые умы, и влияние, во всяком случае, хорошее». И далее: «Старов читал мне все: Белинского, Шекспира и Гервинуса, Домострой, Тредьяковского и Герцена, все с собственными комментариями, с горячими дифирамбами и филиппиками… Он широкой струей вливал в мою душу и идеализм сороковых годов и либерализм пятидесятых» (Е. Ф. Юнге, Воспоминания (1843–1860 годы), СПб. 1913, стр. 146–147). О том же свидетельствует В. И. Семевский: «Преподавателем словесности был Старов, крайне восторженный и добрейший человек…Либерализм шестидесятых годов до такой степени отразился на его преподавании, что он решался читать в классе, правда „специальном“, даже запрещенные сочинения» («Автобиографические наброски В. И. Семевского», «Голос минувшего», 1917, № 9-10, стр. 12).
56
высокомерной личности (франц.).
57
Здесь: жгут из марли в ране (от франц. fontanelle).
58
как это сказать по-французски? (франц.)
59
матери-кормилицы (лат.), то есть Смольного института.
60
Слова Е. Н. Водовозовой о полной неподготовленности выпускниц института к практической жизни и особенно к трудовой деятельности находят подтверждение также в «Секретных воспоминаниях пансионерки» В. И. Водовозова («Отечественные записки», 1863, No№ 3, 8, 9), воспоминаниях смолянки С. И. Лаврентьевой («Пережитое. Из воспоминаний», СПб. 1914), в книге Е. Лихачевой «Материалы для истории женского образования в России, 1856–1880» (СПб. 1901)
61
К. Д. Ушинский был утвержден инспектором классов «Воспитательного общества благородных девиц» 16 января 1859 года, приступил к исполнению своих обязанностей 10 февраля того же года.
62
фи (франц.).
63
с листа, без подготовки (франц.).
64
О судьбе воспитанницы Ивановской по выходе из института Е. Н. Водовозова рассказывает в мемуарном очерке «К свету» (см. том II наст. изд.).
65
после совершившегося (лат).
66
Строка «Песни разбойников» из поэмы «Муромские леса» (1831) А. Ф. Вельтмана. Текст положен на музыку А. Е. Варламовым.
67
По-видимому, это произошло в начале 1858 года на первых гастролях негритянского актера-трагика Аиры Олдриджа. Он приезжал в Россию и в первой половине 60-х годов. Несколько иначе излагает эпизод другая ученица Старова, Юнге (урожд. графиня Толстая), сама присутствовавшая на спектакле: «После спектакля все поехали в гостиницу, где он (Олдридж) остановился. Старое поцеловал ему руки, „его благородные черные руки“…» (Е. Ф. Юнге, Воспоминания (1843–1860 годы), СПб. 1913, стр. 107).
68
Книги детской писательницы А. П. Зонтаг были популярны до середины XIX века, «Священная история для детей» (1837) выдержала девять изданий. Она испытала влияние В. А. Жуковского, ее произведения отличались сентиментальностью и религиозным морализированием. Зонтаг переводила также Диккенса, сказки Гауфа и Перро.
69
Стихотворению «Чернь» (1828) А. С. Пушкин при подготовке в 1836 году издания своих стихотворений дал название «Поэт и толпа». Но смерть поэта прервала работу над этим изданием.