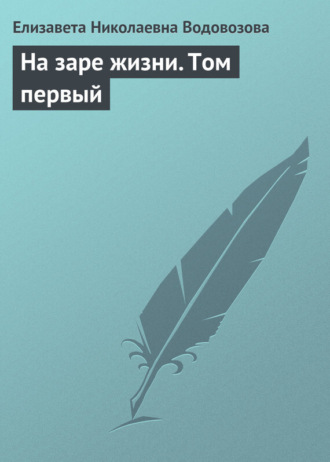 полная версия
полная версияНа заре жизни. Том первый
В субботу вечером, перед тем как воспитанницам приходилось идти в церковь, ко мне забежала Ратманова с известием, что инспектриса продолжает каждый день ходить к начальнице и что, несмотря на это, никто из них не вспоминал о нас. Но я все-таки опасалась, что инспектриса вспомнит свою угрозу насчет церкви, и, чтобы избежать этого наказания, слегла в постель. Это оказалось совершенно лишним: прошло более недели, а между тем никто не напоминал мне о моем исключении из института, и я отправилась в класс как ни в чем не бывало. Ушинский после отсутствия своего вследствие болезни опять начал читать лекции. В первый же раз после своего прихода он долго сидел у инспектрисы, но о чем они толковали между собой, для нас осталось неизвестным.
Я несколько раз после этого встречалась с Ушинским и одна, и в обществе подруг, но он ни разу не дал мне заметить, что получил мое письмо. По внешнему виду он становился все более угрюмым и болезненным: его и без того бледные, исхудалые щеки осунулись еще более, лоб пожелтел, глаза горели лихорадочным огнем. Мы не решались подходить ни к нему, ни к учителям, и никто из них не разговаривал с нами более.
Г-жа З. Е. Мордвинова в своем биографическом очерке «Статс-дама М. П. Леонтьева» возмущается тем, что биографы Ушинского приписывают расстройство его здоровья неприятностям, клеветам и доносам, испытанным им в Смольном. Хотя биографы, говорит она, не называют фамилии Леонтьевой, но прежде всего имеют в виду именно ее, как особу, облеченную наибольшею властью в Смольном. Желая опровергнуть это и показать, что Леонтьева сочувствовала всему благородному и прекрасному, а следовательно, и реформам Ушинского, она старается доказать это, поместив в своей книге два подлинных письма (Леонтьевой и Ушинского), извлеченных из архивов, из которых видно, что в 1858 году Леонтьева через Делянова (бывшего тогда членом совета женских учебных заведений и попечителем Петербургского учебного округа) предлагала Ушинскому занять должность инспектора в Смольном и что он на это согласился. Но эти письма не доказывают того, что желает доказать г-жа Мордвинова. Очень возможно, что Леонтьева предложила Ушинскому инспекторство уже тогда, когда узнала об этом мнение императрицы и Норова, которым биографы и приписывают назначение Ушинского, ссылаясь при этом на его собственные слова. Но если бы даже Леонтьева и совершенно самостоятельно выразила желание иметь инспектором Ушинского, то это еще совсем не говорит о ее сочувствии к нему, тем более что в то время она ни разу не видала его.
Нужно заметить, что за несколько месяцев до приглашения Ушинского умер инспектор Смольного Тимаев, а на его место члены совета[86] предложили принять на испытание Полевого, сына писателя, очень молодого человека, который весьма не понравился Леонтьевой. Желая как можно скорее избавиться от него, она предлагала нескольким лицам занять должность инспектора, но дело не налаживалось, и уже тогда она через Делянова обратилась к Ушинскому, который в то время был инспектором Гатчинского института[87]. Что же касается утверждения г-жи Мордвиновой, что Леонтьева не мешала проведению реформ в учебном деле, то это верно лишь в известной степени. Конечно, довольно мудрено было начальнице препятствовать их введению, когда они официально были утверждены свыше. Но, будучи особой до мозга костей дико консервативной, Леонтьева не могла индифферентно смотреть на какие бы то ни было перемены, а особенно когда заметила, что они в корне подтачивают нравы и обычаи института. Правда, она допустила беседы учениц с учителями во время уроков, но как только они приняли живой характер, этому был положен конец. Точно так же и в остальных реформах она старалась вытравить все живое.
Что же касается личности Ушинского, то как только Леонтьева поняла его характер, она начала делать все, чтобы отравить ему существование. Как она, так и классные дамы не могли сразу проявить ненависть, которую они почувствовали к нему: благосклонное отношение к нему императрицы заставляло их до поры до времени весьма дипломатично обращаться с ним. Да и сам Ушинский был не из тех, которых можно было легко и просто затереть. И вот потому-то, желая досаждать и мстить ему, они пока травили учителей. Да и могли ли не только сочувствовать друг другу, но мало-мальски переваривать один другого эти две личности – Леонтьева и Ушинский, столь различные между собой по своему характеру, понятиям и воззрениям! Леонтьева – осколок старины глубокой, особа с допотопными традициями и взглядами, с манерами, до комизма чопорными, с придворным высокомерием, с ханжеской моралью, требующая от каждого полного подчинения своему авторитету и подобострастного поклонения перед каждым своим словом, и он, Ушинский, – представитель новой жизни, носитель новых, прогрессивных идей, с Энергией страстной натуры проводящий их в жизнь, до мозга костей демократ по своим убеждениям, считавший пошлостью и фокусами всякий этикет, всем сердцем ненавидящий формализм и рутину, в чем бы они ни проявлялись! Такие же диаметрально противоположные цели преследовали обе эти личности и в воспитании: она, упорно стремившаяся к тому, чтобы воспитанниц двух огромных институтов привести к одному знаменателю, он – горячий защитник свободной мысли и индивидуального развития. У них была только одна черта, общая друг другу, – властолюбие, но, конечно, она лишь усиливала их взаимную ненависть и вражду. Нервный и болезненно-раздражительный, Ушинский, человек во всеоружии знаний, прекрасно знавший себе цену, не мог вынести препятствий при своем быстром шествии вперед по пути прогресса и новшеств и наносил удары своим врагам, не обращая ни малейшего внимания на их служебное положение. Властолюбивая Леонтьева, от которой до сих пор исходило все, что делалось в институте, которой всегда и во всем принадлежала власть и инициатива, не смела более вмешиваться в учебное дело. И прежде оно находилось в ведении инспектора, но, несмотря на это, она по своему произволу выбрасывала из заведения каждого учителя, который ей не нравился. Теперь же в выбор учителей она совсем не могла вмешиваться. Уже одним этим она была уязвлена в своем самовластии и самодержавии. К тому же Ушинский отличался еще одною чертой характера, совершенно непереносной для институтского начальства: наблюдательный, остроумный, находчивый, резкий и прямой, с презрением относившийся к пошлости, он решительно не мог удержаться от сарказмов, а институтское начальство, по своему совершенному невежеству, представляло для этого широкое поле.
В то время, о котором я говорю, Ушинский уже пользовался большою известностью в обществе: его остроумные замечания, меткие выражения и характерные эпитеты о женском персонале Смольного ходили по городу и нередко оттуда переносились через наши стены. Как отравленные стрелы, вонзались они в сердца нашего высшего и низшего начальства и все большую ненависть возбуждали к Ушинскому. Преданные ему друзья-учителя предостерегали его, говоря, что этим он создает себе особенно много врагов, которых и без того у него достаточно вследствие его реформаторской деятельности.
Наконец начальство почувствовало, что настало время не только косвенно задевать Ушинского, нападая на учителей, и начало распускать лично о нем всевозможные клеветы. Мы, воспитанницы, слышали об обвинениях, сыпавшихся на него, но они доходили до нас в такой неопределенной форме, что мы не могли составить себе ни малейшего представления о борьбе, которую ему пришлось вынести.
Уже после выпуска, когда он однажды посетил меня, я в присутствии нескольких его знакомых просила рассказать нам, в чем обвиняло его институтское начальство и почему ему так скоро пришлось оставить институт[88]. Константин Дмитриевич начал свой рассказ довольно спокойно, но скоро пришел в крайне нервное возбуждение, а через несколько минут бросал уже отрывочные фразы и, наконец, со словами: «Не могу!» совсем умолк. С тех пор я боялась беспокоить его тою же просьбою.
Вот что я могла узнать по этому поводу отчасти от него самого, а также и от близких к нему учителей, которым он тоже кое-что сообщал об этом.
Когда он понял, что классные дамы стараются своими «фокусами и мелочною пошлостью» раздражать учителей, он убедительно просил их не обращать на это ни малейшего внимания. И они действительно твердо держались данного ему слова. Но вот однажды М. И. Семевский пришел рассказать ему об описанном выше инциденте с ним. Ушинский взглянул на это как на простое недоразумение. Он смотрел на инспектрису как на единственную образованную, умную и порядочную женщину в нашем институте; к тому же она всегда выражала сочувствие его реформам. Правда, в беседах с ним она соглашалась далеко не со всеми его взглядами на воспитание, но тем более Ушинский верил в искренность ее сочувствия. Когда он узнал о скандале, устроенном ею М. И. Семевскому, он не мог допустить, чтобы инспектриса без всякой причины могла ошельмовать человека, и решил, что, вероятно, она вынуждена была спешно увести куда-нибудь воспитанниц. Но когда через несколько дней получено было мое письмо, он понял, что ошибся. Он отправился к инспектрисе и заявил ей, что если она еще раз, не проверив надлежащим образом обвинений классных дам относительно учителей, найдет необходимым нанести кому-нибудь из них оскорбление и тем лишит воспитанниц лекции, он немедленно же оставит институт.
Вероятно, инспектриса, переговорив об этом с начальницею, не нашла возможным тотчас же довести свое дело до конца; вследствие этого и меня с Ратмановой решено было оставить в покое, но свою борьбу с Ушинским они не прекратили. Хотя в одном из писем к императрице, скоро после введения учебной реформы[89], Леонтьева хорошо аттестует ей Ушинского и новых учителей, но, вероятно, это нужно было по ее соображениям, тем более что высшие власти находили тогда реформы Ушинского необходимыми; а затем настали другие времена. В наиболее острый период раздоров между начальницей и Ушинским, что происходило в конце третьего и последнего года его инспекторства, начальница все чаще намекала ему на то, что избранные им учителя оказались людьми невоспитанными. Но этим она не ограничилась и начала задавать ему вопросы, то под личиною добродушия, то не скрывая иронии, что учителя, может быть, и введены были им с целью пропагандировать опасные и вредные идеи. Еще чаще она упрекала его за то, что он, по ее словам, подкапывается под устои морального институтского воспитания, стараясь выбросить за борт, как ненужный хлам, всю женственность, скромность и другие особенности, составляющие главный фундамент воспитания молодой девушки. Она не говорила прямо, что она подразумевала под этим обвинением, и Ушинский объяснял его только тем, что лекции учителей после реформы приняли характер дружеских бесед между ними и ученицами, – других преступлений он за собою не знал. Раздражало начальницу и то, что Ушинский открыто стремился к уничтожению власти классных дам. По этому поводу она объяснялась более определенно и говорила ему, что святое значение классной дамы как воспитательницы он решил свести на роль простого сторожа и привратника. Этих «уважаемых» наставниц, по ее словам, он, Ушинский, обрывал, обращался с ними надменно и тем ронял их авторитет перед воспитанницами. Ушинский отрицал надменность в обращении с ними, но настаивал на том, что их педагогическая система приносит воспитанницам огромный вред, и указывал на злоупотребления ими своею властью. Сильно уязвляло самолюбие Леонтьевой также и то, что Ушинский осмелился ломать и переделывать на свой лад не только учебные программы, для чего он, по ее словам, был призван, но и обычаи и нравы, установившиеся в институте, забывая, что нравственное воспитание поручено ей, одной только ей, как члену совета и как начальнице, утвержденной императрицею.
Были и недоразумения, начавшиеся с момента введения реформ, но тогда они смягчались уступчивостью с той или с другой стороны, впоследствии же они сильно обострились. Когда учебные программы были утверждены, учениц пришлось распределять по классам: лучшие из них были назначены в седьмой, высший класс, а следующих за ними, весьма значительную группу воспитанниц, Ушинский не находил возможным оставить в институте, так как они оказывались не только совершенно невежественными по всем предметам пройденного курса, но между ними находилось не мало безграмотных, даже плохо читавших по-русски. Начальница настаивала на том, чтобы Ушинский все-таки оставил их в институте, а он находил, что им волею-неволею приходится явиться жертвами до невероятности неудовлетворительной системы прежнего преподавания. Он доказывал, что эти девушки, несомненно, могли бы еще многому научиться, но только в том случае, если бы их образование и умственное развитие начато было с обучения первоначальной грамоте и предметам элементарного курса младшего класса. Между тем вследствие их возраста он не имеет права посадить их в младший класс, а может устроить для них лишь особую параллель седьмого класса. Если в ней будут читать даже сокращенный курс и, насколько возможно, популярный, то, по мнению Ушинского, и из этого для этих воспитанниц не будет никакой пользы. Они не только ничего не усвоили за все время своего воспитания, но, не работая головой в продолжение всего юного возраста, притупили свои способности и не будут в состоянии воспользоваться даже упрощенным курсом. Однако Леонтьева настояла на том, чтобы для них был устроен параллельный класс.
Предсказание Ушинского сбылось: воспитанницы этого класса плохо учились (как это ни странно, их называли «вдовами», и эта кличка так и осталась за ними). Перед их выпуском опять возникли пререкания между Леонтьевой и Ушинским, но теперь уже более острого характера, так как к этому времени их отношения ухудшились. Леонтьева настаивала на том, чтобы воспитанницам, учившимся в параллельном отделении, были выданы аттестаты; Ушинский наотрез отказался это сделать. Он находил, что аттестаты могут вводить в заблуждение родителей, которые часто только на основании их приглашают девушек в качестве преподавательниц. И воспитанницам параллельного отделения были выданы лишь свидетельства с обозначением успехов по каждому предмету, большею частью весьма плохих.
Последним моментом борьбы между этими двумя лицами было следующее: после окончания выпускных экзаменов в начале марта 1862 года императрица Мария Александровна приехала в Смольный на Николаевскую половину раздавать награды. Ушинский по списку вызывал каждую воспитанницу, которой государыня вручала награду. Когда это торжество окончилось, Ушинский, по институтскому этикету, должен был моментально раскланяться с государыней и быстро отойти в сторону, уступив свое место начальнице. Но он не имел об этом ни малейшего понятия и продолжал стоять на своем месте. Государыня заговорила с ним и в то же время отправилась приветствовать воспитанниц, выстроенных по классам. Ушинский следовал за ней, отвечая на ее вопросы. Для людей, не посвященных в нравы института, в этом не было ничего особенного: императрица подходит к воспитанницам то одной, то другой группы, произносит слова приветствия, а когда идет далее, продолжает разговор с инспектором. Но институтское начальство находило, что честь сопровождать императрицу принадлежит только начальнице: Леонтьева дрожала от волнения, а классные дамы, усматривая в поведении Ушинского величайшее оскорбление, нагло нанесенное их начальнице, подошли к членам совета, присутствовавшим здесь, и просили их довести до сведения императрицы о «наглой проделке» Ушинского. Выпускные воспитанницы Николаевской половины, стоявшие поблизости и слышавшие весь разговор, были им возмущены, толпой двинулись к любимому инспектору и при государыне выразили ему свою благодарность за его труды и заботы о них. Государыня обратила на это внимание и сказала, что ее трогают добрые чувства воспитанниц к людям, потрудившимся на их пользу[90].
После этого положение Ушинского в институте сделалось невыносимым: на него не только посыпались клеветнические обвинения, но полетели даже доносы, на которые ему пришлось давать официальные объяснения. Пунктов обвинения оказалось так много, что на составление оправдания потребовалось почти двое суток, которые Ушинский провел, лишь изредка вставая с места. Когда он кончил работу, кровь хлынула у него горлом, а на следующий день он встал с постели страшно поседевшим. В конце того же марта месяца 1862 года, ровно через три года после своего вступления в должность инспектора, Ушинский подал прошение об увольнении его от службы в Смольном. Вместе с ним, кроме двух-трех, вышли и все преподаватели, введенные им[91].
Несправедливо было бы утверждать, что вечные дрязги, недоразумения, бессмысленные клеветы и доносы институтского начальства были единственными причинами, погубившими здоровье Ушинского: оно было слабо у него с юных лет, но несомненно, что из ряда вон тяжелая борьба, которую ему пришлось вести во все три года его инспекторства в связи с необыкновенно напряженною деятельностью, дала сильный толчок развитию болезни легких, которою он страдал во все время своей последующей короткой жизни. Тяжелая утрата Ушинским сына в 1870 году была другим роковым ударом в его жизни, и он умер в том же году от воспаления легких, всего лишь сорока семи лет от роду.
Моя задача состояла в том, чтобы показать, какой переворот произвел Ушинский в Смольном, в этом в то время совершенно отжившем учебно-воспитательном учреждении, и выяснить его влияние на учениц. Я хотела представить эту сторону деятельности великого русского педагога, потому что она была лишь намечена его биографами, но совсем не описана, а я могла это сделать как одна из его учениц, испытавшая на себе всю силу его влияния, и как свидетельница его преобразований в институте. Я не пишу биографии Ушинского, не останавливаюсь и на той стороне его деятельности, которою он преимущественно стяжал громкую славу, то есть на его замечательных литературных трудах на пользу семьи и школы, но буду указывать и в некоторых последующих очерках на те стороны его характера, которые выяснились для меня еще более при дальнейшем моем знакомстве с ним уже вне институтских стен.
Глава XIII. Выход из института
В первых числах февраля 1862 года я должна была сдать в институте последний экзамен. За неделю до него приехала в Петербург моя мать. Я умоляла ее взять меня из института в тот день и час, когда окончится мой последний экзамен, не ожидая официального выпуска. От последнего экзамена до формального выпуска должно было пройти более месяца, и, сидя в институтских стенах без всякого дела, я бы напрасно потеряла много времени. Должна сознаться, что хотя я действительно рвалась к занятиям, но все же на первом плане тут умысел был другой. Мне казалось, что если меня возьмут домой тотчас после последнего экзамена, это будет блистательным протестом против начальства и наглядно покажет ему, что я сидела последние полтора года в ненавистном для меня институте только ради нового преподавания. О желании сделать из моего ускоренного выхода протест и тем уязвить моих врагов в самое сердце я не говорила матери.
Экзамен окончился в двенадцать часов утра. Воспитанницы отправились завтракать, а я бросилась в дортуар, где меня уже поджидала матушка со свертками и картонками. Возвратившись из столовой, несколько подруг прибежали к нам и начали помогать мне одеваться, сопровождая свои услуги болтовней, шутками, звонким смехом, примеривая на себя то одно, то другое из моего туалета. Окруженная толпою молодых девушек, моя мать с восторгом наблюдала их оживленные лица и обнимала то одну, то другую из них.
Прежде всего мы отправились прощаться к инспектрисе. После инцидента на лекции истории Сент-Илер, кроме официальных замечаний, ни разу не разговаривала со мной, и я делала все, чтобы не попадаться ей на глаза. И вот после долгого промежутка холодных отношений нам пришлось наконец столкнуться с нею, чтобы распрощаться навсегда. Радушно поздоровавшись с матушкою, она прижала меня к своей груди со словами: «Конец всем недоразумениям. Я всех вас горячо любила! И ты когда-нибудь вспомнишь меня с добрым чувством!» При этом она высказала мне самые лучшие пожелания, просила навещать ее и сама обещала посетить нас. Мою мать, видевшую нашу maman в первый раз, но знавшую ее не только по моим, но. и по дядюшкиным рассказам, она просто очаровала. Когда мы вышли от нее, она все повторяла: «Нет человека без греха! А все-таки она обворожительная женщина!»
Как только мы спустились вниз, швейцар доложил нам, что инспектор просит нас зайти к нему в приемный зал. Последние дни я обдумывала все, о чем хотела говорить с ним в этот знаменательный для меня день. Я собиралась сказать ему, что буду с благоговением вспоминать о нем, укажу ему, какое громадное значение он имел для нас, его учениц. Но меня охватил ужас при мысли, что если я сию минуту и не прощаюсь с ним окончательно, то через месяца два-три, когда мне придется уехать из Петербурга, навсегда потеряю его, и я мысленно повторяла себе, что вместе с ним потухнет для меня весь свет, что я останусь навсегда без руководителя и поддержки. У меня так забилось сердце, когда я вошла в залу, где расхаживал Ушинский, что я забыла все, что собиралась ему сказать, да у меня и не хватило бы смелости произнести перед ним такую речь. Увидев его, я так сконфузилась, что забыла даже отрекомендовать мою мать и стояла посреди комнаты с опущенной головой, делая усилия, чтобы не разрыдаться, а слезы градом катились из моих глаз.
Ушинский молча остановился передо мною, положил руку на мое плечо и с отеческою ласкою заговорил:
– Ну вот, ну вот… (Его всегда смущали слезы.) А я ведь приказал скорее позвать вас сюда, думал, что вы носитесь теперь всюду с видом победительницы! Боялся, что устроите скандал, какой-нибудь протест! Ну что же, еще не успели?
Слезы душили меня, и, не будучи в силах отвечать, я лишь отрицательно покачала головой.
– И прекрасно! Какие там счеты! – И, видя, что я все еще взволнованна, он обратился к матушке, которая начала горячо благодарить его за все, что он сделал для меня.
– Вы знаете, – говорил он мне, – что я никого из моих учениц не оставлю теперь в покое. На какой конец света вы бы ни заехали, вы должны давать мне отчет о своем времяпрепровождении, о своих занятиях. Ведь вас нужно держать в ежовых рукавицах!
Моя мать тоже шутливо возразила ему, что со мною можно теперь обойтись и без этого, что я сама только и рвусь к занятиям.
– Вы не очень-то полагайтесь на ее слова: она особа увлекающаяся! Правда, в последнее время она серьезно занималась, ну, а услышит звон шпор (он знал, что до отъезда в провинцию я буду жить в военной среде), и вся уйдет в звуки вальса!.. Жаль, очень жаль, что она не может жить среди людей трудящихся! Тогда я не боялся бы за нее! Ну, да я вам не дам погрузиться с головой в ваши оборочки и фалборочки! Через недельки две-три непременно нагряну к вам, узнаю, что вы путного сделали за это время. Вы не думайте, что я враг веселья, напротив даже, но развлечения могут быть только после труда!
И он, по-прежнему обращаясь то ко мне, то к моей матери, говорил о том, как необходимо развивать в себе вкус к здоровым удовольствиям: советовал ходить в театр на пьесы Островского, но перед каждым представлением прочитывать пьесу, которую придется смотреть, а если есть возможность, и критический ее разбор, указывал на необходимость посещать публичные лекции[92], особенно лекции Костомарова, с тем же условием, то есть чтобы до нее подготовиться к ее слушанию.
– Видите ли, я все толкую о развлечениях, но ведь кроме них, должны же вы подумать и о каком-нибудь серьезном умственном труде. Когда я к вам приеду, я привезу вам список книг, и мы сообща решим, над чем вам следует поработать во время вашего пребывания в Петербурге. Но рука об руку с серьезной умственной работой и здоровыми развлечениями вы должны выбрать еще какую-нибудь воскресную школу, чтобы обучать детей грамоте и посещать лучшие элементарные школы, прислушиваться к преподаванию хороших учителей. Я вам привезу рекомендательные письма и укажу, в какие из школ вам полезнее проникнуть. Вы со всеми уже простились здесь? – вдруг спросил он, протягивая мне руку на прощанье.
Я отвечала, что мы должны явиться еще к начальнице, которая дала нам знать об этом через инспектрису. Ушинский пристально посмотрел на меня своими проницательными глазами и строго добавил:
– Надеюсь, вы не унизите себя на прощанье какою-нибудь неуместною выходкой?
Каждое слово Ушинского было для всех нас, его учениц, законом, нарушить который никто бы не решился. Но если бы он и не предупредил меня о том, что я должна держать себя с начальницей в границах предписанного почтения, я сама уже решила, что не пророню у нее ни звука.
Однако, несмотря на то что я строго выдержала обет молчания и была нема как рыба, визит наш к ней окончился весьма печально. Как только мы были введены в приемный покой начальницы, мы подошли с матерью к столу, за которым она сидела. Чуть-чуть кивнув нам головой в знак официального приветствия, она тотчас начала говорить о том, как радо институтское начальство, что оно на месяца полтора раньше положенного срока избавляется от присутствия в институте моей особы. Все это она произносила, обращаясь к моей матери и, по своему обыкновению, медленно отчеканивая слова, желая точно молотом вбить их в ее голову, но та все выслушивала молча. Я уже начинала надеяться, что все сойдет благополучно, как вдруг Леонтьева, по-прежнему обращаясь только к моей матери, начала припоминать, как она выразилась, «грязную историю с братьями вашей дочери, в которой такую недостойную роль играл ваш брат, а ее дядюшка, с виду почтенный генерал, наделавший всем нам массу неприятностей».









