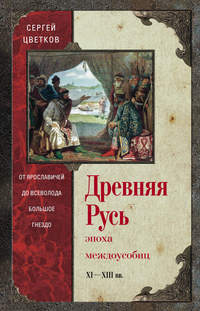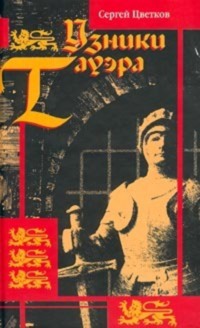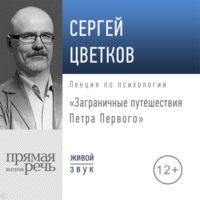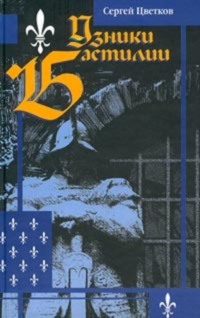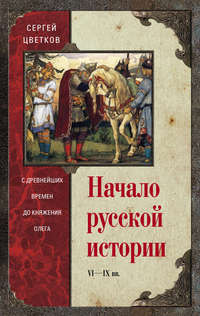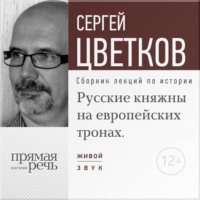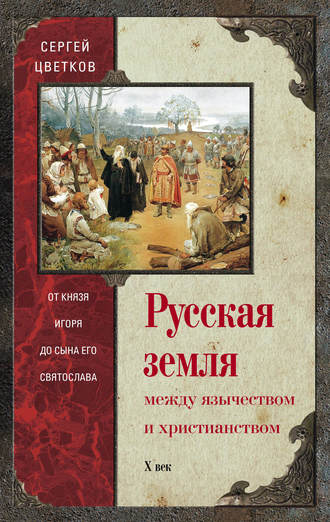
Полная версия
Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава
33
Гавлик Л. Государство и держава мораван: (К вопросу о месте Великой Моравии в политическом и социальном развитии Европы) // Великая Моравия: Ее историческое и культурное значение. М., 1985. С. 103.
34
См.: Фризе Хр. Ф. История польской церкви. С. 41.
35
Или, возможно, Предслава (женское имя; в Повести временных лет упоминается Предслава, дочь Владимира I). Неясность чтения происходит оттого, что члены княжеского рода представлены в договоре послами, из-за чего их имена даются не в именительном, а в родительном падеже: «мы от рода русского послы: великого князя Игоря, именем Ивор… Вуефаст – Святославль, сын Игорев… Каницар – Предславин» и т. д. Поскольку мужские имена с окончанием «слав» пишутся в родительном падеже Святославль, Володиславль, то и мужское имя Предслав вроде бы должно тогда приобрести форму «Предславль» («Каницар [посол] Предславль»). Но с другой стороны, имена женщин в договоре обязательно снабжены сопроводительным замечанием об их социальном статусе: «Искусеви [посол] Ольги княгини», «Шихберн [посол] Сфандры, жены Улебовой». Последнее обстоятельство все-таки склоняет меня к тому, что «Предславин» следует читать в мужском роде, так как на летописное правописание вообще полагаться нельзя.
36
По мнению СМ. Соловьева, Улеб, не представленный послом лично, к этому времени уже умер (см.: Соловьев СМ. Сочинения. История России с древнейших времен. Кн. I. Т. 1. М., 1993. С. 299. Примеч. 193). Однако этому предположению противоречит наименование Сфандры женой, а не вдовой Улеба. Непонятно также, к чему упоминать в международном договоре умершего человека.
37
Сильный аргумент СМ. Соловьева (см.: Соловьев СМ. Сочинения. История России с древнейших времен. С. 299. Примеч. 193).
38
Раткош П. Великая Моравия – территория и общество // Великая Моравия и ее историческое и культурное значение. М., 1985. С. 90.
39
См.: Пресняков A. C. Княжое право в Древней Руси. СПб., 1909. С. 29.
40
Имена Игорь, Аминод, Туад, Акун, Алдан, Турд, Тудко – кельтского происхождения; по всей вероятности, они были усвоены рутенами/ ругами в период их проживания в Галлии и к середине X в. сделались уже собственно «русскими» именами, наряду с именем Гуды, известным у галльских рутенов и иллирийских венетов. Володислав, Предслав, Воик, Ут – имена общеславянские, напоминающие о последующей славянизации античных рутенов/ругов и превращении их в русов. Имя Удо носил один из ободритских князей; в вендском Поморье также находился город Утин. Фасты в VIII–X вв. во множестве встречались среди фризов, Улебы – среди эстонской «чуди». О браках членов «русского рода» с представительницами знатных аланских родов Киевской земли свидетельствует имя Улебовой жены Сфандры – от иран. Сфанд – название последнего месяца года (см.: Королев A. C. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е–70-е годы X века. М., 2000. С. 33; Кузьмин А. Г. Об этнической природе варягов // Вопросы истории. 1974. № 3; Кузьмин А. Г. Древнерусские имена и их параллели // «Откуда есть пошла Русская земля». Кн. 1. М., 1986. С. 643–654).
41
См.: Королев A. C. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е–70-е годы X века. С. 33, 34.
42
Гедеонов CA. Варяги и Русь. Ч. 2. СПб., 1876. С. XXXIV; Рапов О. М. «Знаки Рюриковичей» и символ сокола // Советская археология. 1968. № 3. С. 66–69.
43
См.: Сотникова М. П., Спасский И. Г. Тысячелетие древнейших монет России. Сводный каталог русских монет X–XI веков. Л., 1983. С. 199–201.
44
Никитин A. A. Основания русской истории. С. 308.
45
См.: Королев A. C. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е–70-е годы X века. С. 52–53.
46
Для исторической критики этот вывод очевиден. Если В. О. Ключевский еще колебался, относя призвание князей-варягов к «темным преданиям» нашей летописи (см.: Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1989. Т. I. С. 145), то Д. И. Иловайский уже начисто отвергал в летописном сказании о призвании Рюрика какую-либо историческую основу (см.: Иловайский Д. И. История России. Часть I. М., 1876. С. 19–25). Историки XX в. выражались еще более определенно. Е. Ф. Шмурло называл летописную родословную «сказкой-легендой» (Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Возникновение и образование Русского государства (862–1462). Изд. 2-е, испр. Т. 1. СПб., 1999. С. 73). СП. Толстов и М. Н. Тихомиров были уверены в том, «что перед нами, бесспорно, сознательно фальсифицированная родословная» (Толстов СП. Древнейшая история СССР в освещении Вернадского // Вопросы истории. 1946. № 4. С. 122). Б. А. Рыбакову летописная генеалогия представлялась «примитивно искусственной» (Рыбаков Б. А. Мир истории. Начальные века русской истории. М., 1987. С. 65). Для А. Л. Никитина Рюрик – «всего только легенда и, подобно поручику Киже, на Руси „фигуры не имеет“» (Никитин А. Л. Основания русской истории. С. 164).
47
Предположение о том, что автор Слова в данном фрагменте имеет в виду каких-то конкретных личностей своего времени, сталкивается с рядом трудностей. Так, невозможно персонифицировать «Ярослава». Черниговский князь Ярослав Всеволодович – кандидатура неподходящая, потому что в «наведении поганых» на Русскую землю он стал повинен, согласно летописи, только в 1195 и 1196 гг., то есть спустя десять – одиннадцать лет после похода Игоря Святославича. К тому же он упоминается в «златом слове» Святослава Всеволодовича («А уже не вижду власти [силы] сильнаго и богатаго и многовоя брата моего Ярослава с черниговскими былями [боярами]…»), а не в числе князей, к которым обращен авторский призыв отомстить «за раны Игоревы». Среди последних, впрочем, есть галицкий князь Ярослав Владимирович (Осмомысл), однако летопись не знает за ним никаких черных дел, в том числе предательских сношений с половцами.
Крайне спорно выглядит и отождествление «внуцей Всеславовых» с внуками полоцкого князя Всеслава Брячиславича. Замечено, в частности, что слова «внук», «внуки» встречаются в Слове шесть раз, «и только единожды („Игоря… внука Ольгова“) безусловно в значении „сын сына“», из чего следует обоснованный вывод, что «эти речения («внуци Всеславли» и «жизнь Всеславля». – С. Ц.) к Всеславу Брячиславичу не имеют отношения» (Энциклопедия Слова о полку Игореве. Т. 1. А – В. СПб., 1995. С. 216, 261).
«Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю» – странный упрек. Негодующее обращение автора Слова совершенно не вписывается в историческую ситуацию конца XII в., когда семейная вражда Ярославичей и Всеславичей уже перестала быть живым нервом княжих усобиц вследствие разделения Ярославичей на два враждующих клана – Мономашичей и Ольговичей, которые, собственно, и «наводили поганых» на Русскую землю при жизни автора Слова. Но почин в использовании половецкой силы для улаживания княжеских распрей принадлежал, конечно, не Мономашичам, не Ольговичам, и уж тем более не внукам Всеслава Полоцкого, которым летопись вообще отводит весьма скромное место в братоубийственных войнах того времени. Фраза «вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую» по отношению к князьям второй половины XII в. выглядит очевидным анахронизмом.
Еще более удивительным представляется посмертный патронаж Всеслава Полоцкого над Русской землей, которая оказывается вдруг «Всеславовым достоянием». Между тем этот князь сидел на киевском столе очень недолго, всего около года (с 1068 по 1069 г.), и, строго говоря, отнюдь не на легитимных основаниях, будучи, по сути, ставленником мятежных киевлян. За исключением этого кратковременного эпизода, его реальная власть над Русской землей никогда не выходила за пределы Полоцкого княжества.
48
Летописец как будто иллюстрирует этот тезис историческими сводками. 1065 год. «В се же лето Всеслав [Полоцкий] рать почал… по сем же быша усобица многа, и нашествие поганых на землю Русскую…» 1067 год. Новая распря: «Заратися Всеслав, сын Брячиславль, Полотцкий, и зая Новгород до Неревьского конца и пожьже… Ярославиче же трие, Изяслав, Святослав, Всеволод, совокупивше многы вой, идоша на Всеслава Полотцкого… И поидоша к Немизи [река Немига, приток Свислочи], и Всеслав поиде противу, и совокупишася обои на Немизи… и одоле Изяслав, и Святослав и Всеволод, а Всеслав бежа». Бедственные последствия кровопролитной сечи на реке Немиге – первой крупной междоусобной резни после смерти Ярослава I – отмечены и в Слове, как раз в следующей за нашим фрагментом песне о Всеславе Полоцком, который «скочи волком до Немиги с Дудуток»: «На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужные [цепями булатными], на тоце [на току] живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави брезе [берега] не бологом бяхуть посеяни [не хлебом были засеяны], посеяни костьми русских сынов». Как результат: «В лето 6576 [1068 г.]. Приидоша иноплеменницы на Русскую землю, половци мнози, Изяслав же, и Святослав и Всеволод изыдоша противу им на Алто [река Альта]… грех ради наших пусти Бог на ны [нас] половец поганых, и побегоша Русьстии князи», а половцы «разсыпалися по земли».
Год 1069: «Изяслав… прогна Всеслава из Полотьска». На следующее лето «воеваша половци у Ростовца, у Неятина» и т. д. Наконец дошло и до целенаправленного «наведения поганых на землю Русскую» самими же князьями. По летописи, первыми (в 1078 г.) пригласили половцев под русские стяги черниговский князь Олег Святославич и смоленский князь Борис Вячеславич – оба «Ярославли», внуки Ярослава I.
49
«Люба девица» Всеслава – это Киев, как явствует из последующей фразы: «Тъй клюками подпръся, окони и скочи к граду Кыеву и дотчеся стружим злата стола киевского…», то есть: полагаясь на свои «клюки» («хитрость», вещую мудрость), вскочил на коня и помчался к Киеву, коснулся копьем золотого стола киевского.
50
Пленяясь соблазнительным созвучием, большинство комментаторов совершают ошибку, усматривая в «веках Трояних» намек на войны римского императора Траяна в Дакии или даже смутное воспоминание о Троянской войне. Нет нужды доказывать, что ни то ни другое событие не сделало эпохи в славянской истории и потому не могло остаться в древнерусском фольклоре.
51
См.: Афанасьев А. Н. Мифы, поверья и суеверия славян. Т. 2. М., 2002. С. 497, 607–609.
52
См.: Вернадский Г. В. Киевская Русь. Тверь; Москва, 2001. С. 62.
53
А. Л. Никитин видел во Всеславе персонаж «совершенно неизвестного нам общеславянского эпоса», «мифического общеславянского героя или прародителя („Все-слав“)», который в сознании поэта конца XII в. «слился с образом современного ему полоцкого князя Всеслава Брячиславича, благодаря чему последний и оказался окутан покровом тайны и волшебства» (Никитин A.A. Основания русской истории. С. 454; Он же. Слово о полку Игореве: Тексты. События. Люди. Исследования и статьи. М., 1998. С. 185).
54
См.: Веселовский А. Н. Былины о Волхе Всеславиче и поэмы об Ортните // Русский фольклор. СПб., 1993. Т. 27.
55
См.: Азбелев С. Н. Предания о древнейших князьях Руси по записям XI–XX вв. // Славянская традиционная культура и современный мир. М, 1997. Вып. 1.
56
Впоследствии отчество Всеславич закрепилось в былинах и некоторых летописях за одним Владимиром I (см.: Моисеева Г. Н. Кто они – «внуци Всеславли» в Слове о полку Игореве // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 158) – вероятно, по его исключительной роли в русской истории и по исторической ассоциации с достославным Владимиром Всеславичем V столетия.
57
Другие варианты этого имени: Свенельд, Свенальд, Свенд(т)ельд. Правильнее, по-видимому, все же Свенгельд, так как эта транскрипция корректируется сообщением Льва Диакона о находившемся в войске Святослава Игоревича знатном русе по имени Сфенкел.
58
Другие летописные формы этого этнонима – «уличи» и «улучи», по мнению О. Н. Трубачева, закономерно отражают тюркскую передачу древнерусского слова «угличи» (Трубачев О. Н. О племенном названии уличи // Вопросы славянского языкознания. М., 1961. С. 186, 187).
59
Татищев В. Н. Собрание сочинений: В 8 т.: История Российская. Репринт с изд. 1963, 1964 гг. М, 1994. Т. II–III. С. 216.
60
Соболевский А. И. Русские местные названия и язык скифов и сарматов // Русский филологический вестник. LXIV. 1910. С. 186.
61
Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М, 1982. С. 132.
62
Сторонники мнения об исконном проживании угличей в Нижнем Поднестровье склонны помещать древний Пересечен на месте современной деревни Пересечина (в 26 км от города Оргеев в Молдавии). Но археологи не нашли здесь следов существования древнерусского города. В то же время город Пересечен, расположенный где-то в низовьях Днепра, упоминается летописью в связи с событиями 1154 г., а также в перечне древнерусских городов конца XIV в. «А се имена всем градам рускым, далним и ближним» (Рыбаков Б. А. Уличи (историко-географические заметки) // Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии наук СССР. XXXV. 1950. С. 5–7; Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. С. 131).
63
См.: Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. С. 132.
64
Принято считать, что племенное название тиверцев происходит от скифо-сарматского названия Днестра – Тирас, Тира (иран. turas – «быстрый») и буквально означает «днестровцы» (Фасмер М. Этимологический словарь. В 4-х тт. Изд. 2-е. М., 1986. Т. IV. С. 55; Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. С. 129). Однако вряд ли это так, ибо при славянской интерпретации иранского «Тирас» можно было бы ожидать скорее формы «тирасцы». Память о тиверцах сохранилась в названии древнерусского поселения XIV в. – Тивров (южнее современной Винницы), которое, однако же, находилось не на Днестре/Тирасе, а на Южном Буге.
65
Федоров Г. Б. Тиверцы // Вестник древней истории. № 2. 1952. С. 250–259.
66
Археологи обнаружили в Поднестровье около 40 славянских городищ (Князъкий И. О. Славяне, волохи и кочевники Днестровско-Карпатских земель (конец IX – сер. XIII в.). Коломна, 1997. С. 40).
67
См.: Державин Н. С. Славяне в древности. М., 1946. С. 29.
68
Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. С. 102.
69
Для ее создания наиболее надежным материалом в настоящее время признаны курганные находки. Характерной особенностью древлянских курганов современная археология считает скопления золы и угольков в насыпях, всегда находящиеся выше захоронений. Обыкновенно это тонкая зольно-угольная прослойка в центре кургана (см.: Русанова И. П. Территория древлян по археологическим данным // Советская археология. 1960. № 1. С. 63–69). Однако и с этим определяющим признаком не все обстоит благополучно. Курганы со «специфически древлянскими особенностями» на правобережье Днепра, к западу от Киева, довольно редки и буквально тонут в массе окружающих их курганных погребений, не имеющих указанных отличий. Получается, что древляне не были основным населением «Деревьской земли»? «Курганная» методика вынуждена дать утвердительный ответ, который, разумеется, немедленно заводит историка в тупик. К тому же все исследованные «специфически древлянские» курганы насыпаны в XI–XII вв. Отсюда с необходимостью должен следовать вывод, что в предыдущий период (IX–X вв.) древлянский этнос выработал и закрепил присущие только ему этнографические особенности. Но обобщение археологического материала с территории Припятско-Ужского бассейна приводит к совершенно противоположному заключению: «История древлянского племени кратковременна… Ранняя потеря племенной самостоятельности привела к стиранию этнографических черт. Современная диалектология и этнография уже совсем не обнаруживает каких-либо особенностей, оставшихся от племенного периода древлян» (Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. С. 106). Действительно, этноним «древляне» исчезает со страниц Повести временных лет сразу же после завершения карательной экспедиции Ольги, и только их племенная территория изредка упоминается в дальнейшем (последний раз в статье под 1136 г.: «Паки же Олговичи с половци переидоша Днепр, декабря в 29, и почаша воевати от Трьполя около Красна и Васильева и до Белогорода, оли же до Киева, и по Желани и до Вышьгорода, и до Дерев, и чрес Лыбедь стреляхуся»). Но ведь тогда и погребальная обрядность древлян, вместе с другими племенными особенностями, под влиянием более сильных соседей должна была постепенно утратить этнографическую индивидуальность, а не приобрести ее.
70
См.: Демин A.C. О некоторых особенностях архаического литературного творчества (постановка вопроса на материале Повести временных лет) // Культура славян и Русь. М., 1998. С. 65.
71
См. сообщение Ибн Фадлана о гузах (огузах): «Они не знают блуда, но если относительно кого-либо они узнают какое-либо дело, то они разрывают его на две половины, а именно: они соединяют вместе промежуток веток двух деревьев, потом привязывают его к веткам и пускают оба дерева, и находящийся при выпрямлении их [деревьев] разрывается».
72
Петру хин В.Я. Из древнейшей истории русского права. Игорь Старый – князь-«волк» // Philologia slavica. M., 1993. С. 127.
73
См.: Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия IX–XIV вв. М, 1978. С. 194.
74
См.: Никитин А. Л. Основания русской истории. С. 326.
75
Термин «Климаты», встречающийся в средневековой византийской литературе, связан с позднеантичной географической традицией, согласно которой поверхность земли делилась на несколько (обыкновенно семь или девять) «климатических» поясов. У Константина Багрянородного «Климаты» – это область горного Крыма между Херсоном и Боспором: «От Херсона до Боспора расположены крепости Климатов, а расстояние – 300 миль» (впрочем, в другом месте он пишет и о «девяти «Климатах» Хазарии», прилегающих к Алании). Крымские «Климаты» (вероятно, не все, но значительная их часть) входили в Херсонскую фему (военно-административный округ), и Константин неоднократно выражает озабоченность их безопасностью.
76
См.: Никитин А. Л. Основания русской истории. С. 112.
77
Там же. С. 113–114.
78
См.: Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. 1. Пг., 1920. С. 59.
79
«Имаша по черне куне», – говорит Повесть временных лет. Согласно А. Л. Никитину, «термин „черная куна"… означает не „шкурку куницы", как по обычаю полагают, а именно „двойную дань"…». Вне летописного текста термин этот встречается только в новгородских документах XV в., где он «является синонимом понятия „черный бор", обозначая экстремальный, целевой побор с тяглового населения определенной территории» (Никитин А. Л. Основания русской истории. С. 200, 233).
80
По мнению А. Л. Никитина, «на протяжении X в. „русь" контролировала в Причерноморье по меньшей мере два ключевых региона – Поднепровье с обитающими там славянскими племенами, и два района Крымского полуострова – Тарханкут, обращенный к устью Днепра идеальной гаванью нынешнего пос. Черноморский (быв. Акмечеть), получивший в последующее время название „Варанголимен", и берега Боспора Киммерийского, по которому проходил торговый путь в Хазарию, Булгар, Итиль и далее, к берегам Каспия и на мусульманский Восток» (Никитин А. Л. Основания русской истории. С. 326).
81
См.: Васильевский В. Г. Житие Стефана Сурожского // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1889. Июнь. С. 448–450.
82
См.: Плетнева С. А. Печенеги // Исчезнувшие народы. М., 1988. С. 35.
83
В государственное объединение Кангюй/Кангар (II в. до н. э. – IV в. н. э.) входили кочевые и оседлые племена на землях Хорезма, в районе среднего и нижнего течения Сырдарьи.
84
Ср. финноугорский гидроним «Печенга».
85
См.: Археология СССР. Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 217, 221.
86
См.: Плетнева С. А. Печенеги. С. 35–36.
87
В 890 г., когда венгерская орда отправилась в очередной набег (по-видимому, на моравских славян), печенеги обрушились на их кочевья и вырезали оставшихся дома немногочисленных мужчин и беззащитные семьи. Это заставило венгров откочевать на запад – в Паннонию.
88
Тогда как, например, в ряде поселений славянской Буковины конца IX – начала X в. доля костей домашних животных превышает 90 % (см.: История крестьянства в Европе. В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 43).
89
H.M. Карамзин, называя историю со сватовством баснословием, все же уверял читателей своей «Истории», что императора, верно, очаровала мудрость Ольги.
90
Первые упоминания об Ольге в древнерусских источниках встречаются у Иакова Мниха и митрополита Илариона – авторов второй трети XI столетия. В их весьма кратких характеристиках святой княгини еще отсутствуют многие подробности, вошедшие позднее в Повесть временных лет и Ольгины жития.
91
См.: Никитин А. Л. Основания русской истории. С. 202; Рыбаков Б. А. Мир истории. Начальные века русской истории. М., 1987. С. 113.
92
A.A. Шахматов полагал, что этот летописный свод содержит «более древнюю, полную и более исправленную редакцию Начального свода» {Шахматов A.A. О начальном Киевском летописном своде. М., 1897. С. 56).
93
На 920-е гг. указывает и Б. А. Рыбаков (см.: Рыбаков Б. А. Мир истории. С. ИЗ).
94
Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей IX – начала XI в. М., 2001. С. 129.