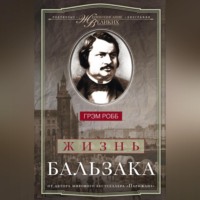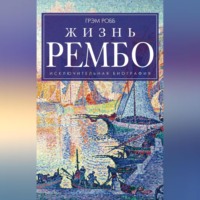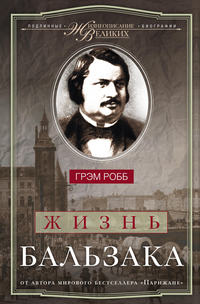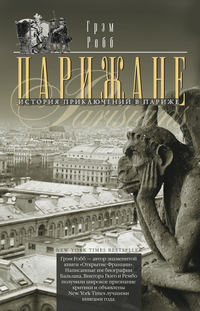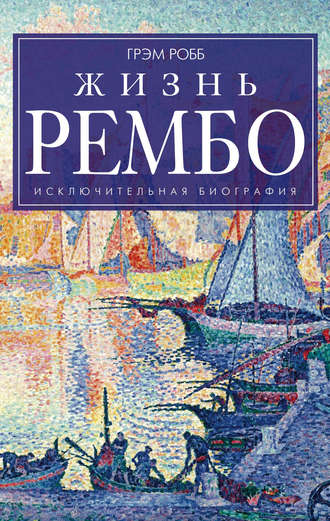
Полная версия
Жизнь Рембо
В возрасте пятнадцати лет у Рембо было больше поклонников, чем друзей. Его мастерство писателя сделало его ценным членом учреждения, зеницей ока директора, который вынужден был смириться с тем, что удостоенный наград ученик пренебрегал математикой, читал неподходящие книги, отращивал волосы или, как случилось однажды, бросал свой словарь в одноклассника. Фредерика, уличенного в «преступлении» – создании карикатуры на учителя истории, принимающего ванну «без фигового листка», не выгнали из коллежа лишь благодаря заслугам младшего брата. Его считали «ленивым и с плохим характером», но директор был «склонен к снисходительности», как докладывал школьный инспектор: «Брат этого приходящего школьника – лучший ученик в школе, молодой Raimbaud [sic], один из наших призеров. Его изгнание, несомненно, повлечет уход его брата и будет самой печальной потерей для школы»[84].
Первые признаки открытого ниспровержения в произведениях Рембо фактически выдают желание утвердить свое место в школьном сообществе. В попытке убедить императорскую власть в своем бесстрашном консерватизме и, возможно, сэкономить на зарплате учителей шарлевильского коллежа, был заключен альянс с соседней семинарией. Старшие мальчики, которые учились на священников, теперь посещали уроки вместе со «сбродом» из города. Каждый класс стал маленькой моделью французского парламента: напряженное сожительство репрессивных клириков и реформаторов-либералов[85].
Этот опыт совместного обучения указывает, насколько незначительными были различия в программах. Соученичество привело к тому, что семинаристы стали более пафосными и елейными, они пристрастились к нюхательному табаку и анализировали уроки своих учителей в поисках идеологических неточностей. Светские ученики стали более вульгарными, курили сигареты и высказывали атеистические и либеральные идеи. Эти отношения («менее святой, чем ты») нашли отражение в ранних стихах Рембо: Les Premières communions («Первые причастия»), где девочка жалуется, что «Христос мое дыханье / Навеки осквернил», «Душа моя и плоть, что так к тебе прильнула, / Несут тлетворное лобзание Христа», или застигнутый врасплох аббат из Le Châtiment de Tartufe («Возмездие Тартюфу») «…бредет, / Из рта беззубого пуская слюни веры».
Как единственный мальчик, который мог побороть семинаристов в учебном бою, Рембо становится чемпионом коллежа. Без него церемония награждения была бы ежегодным унижением для «светских». В 1869 году он получил восемь первых наград, в том числе и за религиозные дисциплины. Он также покрыл себя славой, поставив в неловкое положение учителя истории, аббата из семинарии. Он терзал его вопросами по поводу позиции современной церкви о религиозных войнах, резни в день Святого Варфоломея и инквизиции[86]. Первая награда Артюра по истории была, очевидно, вполне заслуженной. Пожалуй, неудивительно, что в 1870 году список его наград (семь первых) был «запятнан» четвертым местом по истории. Рембо быстро вырастает из учебного плана. Фраза в одном из его сочинений распространила небольшую ударную волну по школе: «Марат и Робеспьер, молодость ждет вас!»[87]
Молодости не придется ждать долго.
Глава 4. «Безумное честолюбие»
Я чувствую, что есть во мне нечто… что хочет подняться…
Рембо Теодору де Банвилю, 24 мая 1870 г.Через две недели после того, как стихотворение Рембо появилось в Revue pour tous («Журнал для всех»), в шарлевильский коллеж прибыл новый учитель. Жоржу Изамбару было всего двадцать два года. До этого он преподавал в школе в старом доме Виктора Гюго в Париже, и у него были странные идеи по поводу обучения: он полагал, что мальчики могли бы учиться и без скуки. По прибытии директор проинформировал его о том, что ему будет доверен непростой, но очень ценный для школы ученик по имени Артюр Рембо. В исключительном порядке Рембо следует позволять читать все, что ему понравится[88].
В ученике с наградами, как оказалось, уживались две совершенно разные личности. В классе он был «закрытым и сдержанным» маленьким джентльменом, который никогда не пачкал своих тетрадей. Вне школы он был «истинным интеллектуалом», «трепещущим от лирической страсти» и двух дополняющих друг друга амбиций: стать поэтом и освободиться от своей матери[89].
Каждый день Изамбар находил, что Рембо ждет его после уроков со своими аккуратно переписанными стихами. Первым стихотворением была «Офелия». Удивительное произведение для пятнадцатилетнего демонстрировало редкую способность создавать удивительные эффекты из однообразия и вливать в обычные фразы настоящие чувства.
По глади черных вод, где звезды задремали,Плывет Офелия, как лилия бела,Плывет медлительно в прозрачном покрывале…В охотничьи рога трубит лесная мгла.Уже столетия, как белым привиденьемСкользит Офелия над черной глубиной,Уже столетия, как приглушенным пеньемЕе безумия наполнен мрак ночной.Целует ветер в грудь ее неторопливо,Вода баюкает, раскрыв, как лепестки,Одежды белые, и тихо плачут ивы,Грустя, склоняются над нею тростники.Кувшинки смятые вокруг нее вздыхают;Порою на ольхе гнездо проснется вдруг,И крылья трепетом своим ее встречают…От звезд таинственный на землю льется звук.«Офелию» обычно включают в антологии как одно из немногочисленных лучших стихотворений Рембо. Критики восхищались ею не как типичным стихом Рембо, а как результатом тщательно продуманной торговой экспедиции, одой потребителя, который платит тяжелую дань культуре своего времени. Вдохновлено оно было скорее стихотворением Банвиля и живописным полотном Милле, чем «Гамлетом», заданным для самостоятельного изучения. Неловкая высокопарность последних строф делает зловещую мысль относительно безобидной: идея, что спящую погубили ее видения.
Как снег прекрасная Офелия! О фея!Ты умерла, дитя! Поток тебя умчал!Затем что ветра вздох, с норвежских гор повеяв,Тебе про терпкую свободу нашептал;Затем что занесло то ветра дуновеньеКакой-то странный гул в твой разум и мечты,И сердце слушало ночной Природы пеньеСредь шорохов листвы и вздохов темноты;Затем что голоса морей разбили властноГрудь детскую твою, чей стон был слишком тих;Затем что кавалер, безумный и прекрасный,Пришел апрельским днем и сел у ног твоих.Свобода! Взлет! Любовь! Мечты безумны были!И ты от их огня растаяла, как снег:Виденья странные рассудок твой сгубили,Вид Бесконечности взор погасил навек.Изамбар был в восторге, что обнаружил «первоклассный мозговой механизм»[90], но никогда не притворялся, что признавал в Рембо будущего поэта. Стихотворчество было обычным подростковым занятием и не могло стать основой разумной профессии. Мозг Артюра Рембо был нацелен на академическую славу – мозг, который требовал пищи. Изамбар одалживал ему книги из личной библиотеки, Рембо возвращал их почти сразу же, прочитав и переварив. Его первое известное письмо-просьба Изамбару одолжить ему три книги: Curiosités Historiques («Исторические курьезы»), Curiosités Bibliographiques («Библиографические курьезы») и Curiosités de l’Histoire de France («Курьезы истории Франции») – альтернативная учебная программа. «Я приду и возьму их завтра, примерно в 10 или 10:30. Буду вам очень обязан. Они были бы очень полезны для меня».
Отчасти список прочитанных Рембо книг можно реконструировать, изучая его ранние тексты. Вдохновленный «Собором Парижской Богоматери» Гюго, стихами Вийона и «средневековой» пьесой Банвиля, Рембо создал модную старосветскую балладу о скелетах, танцующих на виселице Bal des pendus («Бал повешенных») и длинный пассаж на поддельном старофранцузском Lettre de Charles d’Orléans à Louis XI («Письмо Карла Орлеанского Людовику XI»), что свидетельствует о его интересе к лексике различных исторических периодов и свободном владении ею, как если бы он просто подбирал мелодию.
За «Офелией» последовало Sensation («Предчувствие») – еще одно произведение, включаемое в антологии: стихотворение о прогулках летними вечерами, написанное ранней весной, схожее по духу и стилю со стихотворением Виктора Гюго о прогулках на рассвете к могиле дочери. В отличие от Гюго Рембо позволял себе отвлекаться на свое тело:
В сапфире сумерек пойду я вдоль межи,Ступая по траве подошвою босою.Лицо исколют мне колосья спелой ржи,И придорожный куст обдаст меня росою.Не буду говорить и думать ни о чем –Пусть бесконечная любовь владеет мною, –И побреду куда глаза глядят путемПрироды – счастлив с ней, как с женщиной земною[91].Это крошечное стихотворение, которое разрастается, словно мираж в море молчания, является значительным достижением французской поэзии середины XIX века, необычный побег от глухого стука риторической техники. Тема блаженного беспамятства, кажется, подтверждает утверждение Изамбара о том, что Рембо писал стихи, чтобы отдохнуть от ежедневного рутинного школьного однообразия[92], но самое удивительное в этих ранних стихах – их автобиографичность. Рембо относился к французской поэзии как к личному будуару, облачаясь в разные жанры, отслеживая свое развитие в зеркалах других поэтов.
Главным источником моделей Рембо была престижная антология под названием Le Parnasse contemporain («Современный Парнас»), которая впервые появилась в 1866 году. Она публиковалась частями, некоторые из которых Рембо удалось контрабандой пронести в секретное хранилище на чердаке.
В истории литературы поэты-парнасцы представляли собой рассеянное созвездие звезд низшей величины, с которыми короткое время были связаны растрепанные кометы и ослепительные сверхновые – Гюго, Бодлер и Малларме. Его можно рассматривать как реакцию на провал романтического социализма в июне 1848 года и последующее торжество буржуазной Второй империи. Его девизом было «бесстрастность» – в противоположность «вдохновению». Строгое совершенство формы считалось гарантией эстетического превосходства. Темы, как правило, бывали экзотическими и удобно аполитичными. Отчасти именно это неприятие современности придает выверенным красотой стихам признанного лидера школьной литературы Леконта де Лиля навязчивую скуку. Но как только появились хитрые подделки Рембо, суровые склоны «Парнаса» резко выступили из загадочного болота подавляемых эмоций.
Привязанность к правильности формы имела очевидную привлекательность, как для школьника, который пользовался школьными упражнениями, так и для поэта, который хотел попробовать себя в различных ипостасях. К тому же это был случай, когда все, кто хотел увидеть свои работы опубликованными в известном литературном обозрении, должны приложить все старания, чтобы по возможности звучать как парнасец. Точно так же, как Les Étrennes des orphelins («Подарки сирот к Новому году») были подготовлены в качестве приманки для «Журнала для всех», Credo in unam («Верую в единую…») было создано, чтобы войти во второй том Le Parnasse contemporain, в настоящее время приближающегося к публикации своей последней части.
Credo in unam (в дальнейшем переименованное в «Солнце и плоть») было длинной, восторженной одой на популярную тему языческого золотого века, когда «был счастлив Человек», «блаженно припадая» к «святой груди» Природы:
И, лежа на лугу, вы чувствуете вновь,Что расцвела земля и что бурлит в ней кровь,Что дышит грудь ее, когда вы к ней прильнете;Она, как женщина, сотворена из плоти,Как бог, полна любви; и соками полна,Таит кишение зародышей она.Этот дохристианский рай противопоставляется современному веку с его «рабством грязным»:
Уродлив человек, и дни его печальны,Одежду носит он, поскольку изначальнойЛишился чистоты. Себя он запятнал,И рабству грязному надеть оковы далНа гордое свое, божественное тело.На тьму грядущую взирая оробело,Он хочет одного: и после смерти жить…Рембо послал свое стихотворение не возвышенному Леконту де Лилю, а благодушному представителю «Парнаса», Теодору де Банвилю, который любил молодых поэтов, публикуемых в либеральной прессе, и был близким другом Бодлера. Рембо утверждал, что ему семнадцать лет (ему было лишь пятнадцать с половиной), и приложил свою «Офелию» и стихотворение о летних вечерах. Письмо, искрящееся подростковым энтузиазмом и типично журналистскими недомолвками, датировано 24 мая 1870 года. Почерк ровный, но с изящными завитушками:
«Через два года или, возможно, через год я буду в Париже. Anch’io, господа из прессы, я буду парнасцем![93] Я чувствую, что есть во мне нечто… что хочет подняться. Я клянусь, дорогой мэтр, что всегда буду поклоняться двум богиням – Музе и Свободе.
Пожалуйста, не воротите нос от этих строк… Вы доставили бы мне невероятную радость и дали надежду, если бы, дорогой мэтр, вы смогли найти Credo in unam небольшое местечко среди парнасцев… Появись я в последнем выпуске «Парнаса», это стало бы Credo поэтов!.. О, безумное честолюбие!»
Затем он переписал свои стихи и, прибегнув к олимпийскому стилю Виктора Гюго, сделал последнее обращение в постскриптуме:
«Я неизвестен, какое это имеет значение? Все поэты – братья. Эти строчки верят, любят, надеются, – и этим все сказано.
Дорогой мэтр, помогите мне. Поддержите меня немного. Я молод. Протяните мне руку!»
Банвиль сохранил стихи и, наверное, послал вежливую записку ободрения, но для неизвестного провинциального школьника в «Современном Парнасе» места не нашлось.
Рембо был неустрашим. В любом случае его стихотворчество показало, что он уже перерос парнасцев. Строки в духе: «Из материнских недр, подобно обезьянам / Мы вырвались на свет…»[94] совсем не те, которых ждут от румяного молодого поэта. Изамбар был почти встревожен своим восхищением. «Школа парнасцев забавляла его какое-то время, но – фью! – три месяца спустя он говорил о ней с горечью разочарованного любовника»[95].
Улучшив собственную технику, подражая парнасцам, Рембо теперь отправился по пути умышленного разрушения, которое повлекло удивительные открытия. Первым признаком его новой манеры в начале лета 1870 года был неправильный, кособокий сонет, в котором идеал парнасцев языческой красоты подвергся отвратительной трансформации. Вместо Афродиты, выходящей из пены, огромная тяжелая женщина «из ржавой ванны, как из гроба жестяного, / Неторопливо появляется… Все тело движется, являя круп в конце, / Где язва ануса чудовищно прекрасна».
Как усы Марселя Дюшана у Моны Лизы, язва Рембо у богини Красоты олицетворяет отход от классического прошлого и конец невинности[96]. Рембо прошел через поэтическое половое созревание с угрожающей скоростью. В июле он представил своему учителю короткий рассказ, который, казалось, принадлежит совсем к другой традиции – традиции, которая бытует не в книгах, а на стенах общественных туалетов. Изамбар нашел ее «детской, глупой и грязной»[97]. Многие издания произведений Рембо опускают его совсем или низводят до приложений.
Un Cœur sous une soutane («Сердце (или, на сленге, «пенис») под сутаной») – это повествование о малодушном молодом священнике, который влюбляется в некую Тимотину – волосатую, плоскогрудую личность, которая подозрительно неженственна. «Я искал вашу грудь напрасно, – пишет рассказчик. – У вас ее нет. Вы презрели эти мирские украшения».
Как и большинство сатирических произведений Рембо, Un Cœur sous une soutane («Сердце под сутаной») занимает неоднозначное место. Оно может быть прочитано как легкомысленный фарс, политическая сатира или расценено как саркастическое лечение подростковой сексуальности: «Я уселся на мягкий стул, подумав, что некая часть меня готова впечататься в вышивку, которую Тимотина, наверное, сделала своими руками». «Эти носки, которые я ношу в течение месяца, – говорил я себе, – дар ее любви». Оно также может быть прочитано как префрейдистский анализ языковой группы – псевдорелигиозный жаргон шарлевильских семинаристов и ранних французских романтиков: баб и педерастов, по мнению Рембо, чьи «таинственные испарения» и «нежные зефиры» – симптомы того, что сейчас называют анальнонавязчивая идея.
Рембо проверял пределы широты взглядов Изамбара. До сих пор новый учитель казался идеальным старшим братом – тем, кто дарит критику и любовь, не ожидая многого взамен. Будет ли он продолжать быть ему другом, когда заглянет вглубь мозга своего ученика?
Но Рембо размышлял и о своей личности в детские годы: «мелкий ханжа такой-растакой». Стихотворчество дает уму возможность воздействовать на себя. Он уже пересматривает свои первые стихи, подвергая себя лечению пародией. Его аннотированная копия «Современного Парнаса» (которую позже он подарил другу)[98], показывает, что, вместо того чтобы подражать стихам, которые его восхитили, он был склонен переделывать стихотворения, которые показались ему неуклюжими или бессмысленными. В отрывке ныне забытой мадам Бланшекот строчка «Моя последняя печаль (фр. chagrin) лежит на мне тяжким бременем…» была заменена на «Мой последний шиньон…».
Когда этот прием был применен к его собственным стихам, тот же прием вызвал своего рода мгновенную оригинальность: даже самая слабая строфа обрела звучание, похожее на внезапное озарение. «Прекрасные летние вечера» становятся «сапфиром сумерек», в то время как «цветущий лотос» в Credo in unam («Верую в единую») превратился в таинственный «болтливый лотос». Эти маленькие уловки являются серьезными предвестниками новой эстетической эры, когда финальное произведение возникает из уничтожения предыдущих черновиков, нелепых и пробуждающих воспоминания.
В школе Рембо тоже становится почти опасным знатоком. Апрельский выпуск «Вестника среднего, специального и классического образования» 1870 года был практически целиком посвящен Артюру Рембо. В нем содержатся четыре его произведения. Одним из них был дерзкий перевод на французский отрывка из Лукреция – дерзкий, потому что Рембо взял новый перевод De natura rerum («О природе вещей»), выполненный парнасцем Сюлли-Прюдомом, скопировал соответствующий пассаж, улучшил его несколькими сделанными со вкусом изменениями и вручил в качестве собственной работы, тем самым насмехаясь над своими учителями, заслужив тем не менее их похвалу. Плагиат оставался незамеченным до 1932 года.
Другая заметная работа была криминальной в ином смысле: латинская адаптация французского текста об Иисусе в мастерской отца. Указанный отрывок с напускной скромностью сравнивает кровь от тривиальной раны в столярной мастерской с кровью Страстей. Версия Рембо была названа «благочестивой», «безупречной» и «поучительной»[99]. На самом деле, как показал Джордж Такер, она демонстрирует поразительное чутье сексуального подтекста на латыни. Иисус Христос работает тяжелым рубанком до тех пор, пока не забрызгивает себя кровью, и получает любящее внимание своей матери[100].
Здесь, как и в «Сердце под сутаной», существует тонкая грань между пародией и самоанализом. Даже если Рембо забавлялся, представляя страстные кровосмесительные отношения между Девой Марией и ее сыном, он также экспериментировал с хаотической силой языка: несколько неясностей – и вся картина может измениться, как пейзаж, который заволокло туманом. Возможно, он начал размышлять о тайной любви своей матери. Очень жаль, что Эрнест Делаэ вспомнил только первую и последнюю строки биографического стихотворения Рембо, которое тот показал ему в 1870 году:
Брюнетка, ей было 16 лет, когда она вышла замуж.……………Ибо она страстно любит своего 17-летнего сына[101].Теперь мадам Рембо поняла (цитируя «Семилетних поэтов»), «что в голубых глазах и подо лбом с буграми / Ребенок, сын ее, скрыл отвращенья пламя». Однажды его подвели меры безопасности, и обнаружился компрометирующий предмет. 4 мая 1870 года она написала письмо к месье Изамбару:
«Месье.
Я чрезвычайно признательна вам за все, что вы делаете для Артюра. Вы даете ему щедрые советы и дополнительные внеклассные задания. На подобное внимание мы не имеем никакого права.
Но есть нечто, чего я не могу одобрить, например, чтение книг, вроде той, что вы дали ему несколько дней назад («Отверженные» V. Hugot [sic! – Гюгота]). Вы должны знать лучше меня, месье, что следует проявлять большую осторожность в выборе книг, которые должны быть предложены детям. По этой причине я полагаю, что Артюр, должно быть, взял эту книгу без вашего ведома. Было бы, конечно, опасно разрешать ему подобное чтение».
«Отверженные» были «опасны», поскольку, как мадам Рембо напомнила Изамбару на встрече, организованной директором, Виктор Гюго был врагом церкви и государства, которое, как и положено, выдворило его из Франции[102]. Поскольку «Отверженные» были в списке запрещенных книг, она, наверное, не читала эту книгу, иначе бы знала, что главный герой был беглым каторжником, ничем не отличающимся от бродяги дяди Шарля.
Но останавливать разложение стало слишком поздно. У Артюра уже вошло в привычку разговаривать с незнакомыми людьми, которых он встречал по дороге, – землекопами, рабочими каменоломен и бродягами. Даже когда они были пьяны, говорил он Делаэ, они ближе к природе и, поистине, более интеллектуальны, чем образованные лицемеры его собственного класса[103]. Это были люди, которые, как капитан Рембо, могли отправиться в путь и больше не вернуться.
Как видно из отрывков «Одного лета в аду», эти западные кочевники стали для Рембо ролевыми моделями и настойчиво занимали его фантазии.
Его мать была, очевидно, права в своих опасениях.
«Еще ребенком я восхищался несговорчивым каторжником, – пишет Рембо, – которого всегда ожидали оковы; меня тянуло к постоялым дворам и трактирам, где он побывал: для меня они стали священны. Его глазами я смотрел на небо и на расцветающую в полях работу; в городах я искал следы его рока. У него было больше силы, чем у святого, и больше здравого смысла, чем у странствующих по белу свету, – и он, он один, был свидетелем славы своей и ума».
Мадам Рембо была не одинока в опасениях губительных влияний. 19 июля 1870 года правительство Наполеона III воспользовалось незначительным предлогом и объявило войну Германии. Победа, как предполагалось, будет стремительной и всеобщей. Вся страна, в том числе и недовольные республиканцы, мысленно объединятся в состоянии войны, уверенные в своей правоте. Империя будет спасена.
В то лето жители города Шарлевиля стояли на порогах, подбадривая храбрых солдат, когда те отправлялись на фронт за победой с криками: «На Берлин!» Брат Фред вдохновился пойти и выпить пива за счет врага. Он двинулся в путь не попрощавшись. Несмотря на несовершеннолетие, Фредерик умудрился поступить в полк и провел следующие несколько месяцев, попав в ловушку прусской армии в Меце[104].
Артюр облил своего милитаристского брата презрением. Он уже отказывался носить новую военизированную школьную форму, и, когда его товарищи-соученики пафосно заявили о своем намерении пожертвовать деньги от продажи призовых книг на военные нужды, отказался участвовать в этой затее[105]. Это был серьезный удар, поскольку Рембо был единственным учеником в своем классе, который завоевывал награды. Он тем не менее согласился продать свои книги предложившему наивысшую цену.
Для Рембо этот простодушный шовинизм был общенациональной эпидемией ограниченной провинциальности. Любой поэт, казалось ему, должен быть против империи. Поэтому Делаэ удалось завоевать его доверие, когда тот пересек бельгийскую границу, вошел в кафе и заучил наизусть отрывки из последних La Lanterne («Фонарь»)[106] – карманного журнала с кроваво-красной обложкой, который был запрещен во Франции из-за подстрекательства к мятежу и изображения Наполеона III карикатурным идиотом. «Фонарь» издавал Анри Рошфор, который жил в Брюсселе в доме Виктора Гюго: доказательство того, что романтическая литература может по-прежнему бросать бомбы в правящую элиту.
Книжные лавки Шарлевиля были плохим источником подрывной литературы. Рембо вооружился своим талантом и написал дерзкое песенное стихотворение о ласках мальчика и девочки Trois baisers («Три поцелуя»), которое он послал в беспощадный сатирический журнал La Charge. Стихотворение было напечатано 13 августа 1870 года и принесло ему бесплатную подписку[107].
Когда объявили войну, он добавил тупой жаргонной риторики республиканской пропаганды в свой литературный арсенал и посвятил два стихотворения Le Forgeron («Кузнец») и Morts de Quatrevingt-douze («Французы, вспомните, как в девяносто третьем…») героям Французской революции, этим «ста тысячам мертвецов с глазами Иисуса»[108].
Поскольку, казалось, было предрешено, что Франция разгромит врага в течение нескольких недель и консолидирует империю, эти стихи вряд ли были кратчайшим путем к литературной карьере. Но когда он в конце концов добрался до Парижа, – первое, что он намеревался сделать, как он говорил Изамбару, даже если это означало «умереть под грудой камней» по дороге, – войти в идеальное общество «братьев» поэтов. Оно, несомненно, примет его за того, кем он был.
Учебный 1869/70 год закончился в блеске и нищете. Рембо снова был первым в региональном экзамене на этот раз с произведением под названием «Санчо Панса оплакивает своего мертвого осла» (не опубликованным из-за войны и ныне утраченным). Награждение 6 августа было в значительной степени делом местной буржуазии, приветствующей Артюра Рембо овациями. Но Изамбара не было там, чтобы увидеть, как его ученик усмехается этим аплодисментам. Он уехал 24 июля в дом своих тетушек в Дуэ. Рембо был в предвкушении долгого и иссушающего лета.