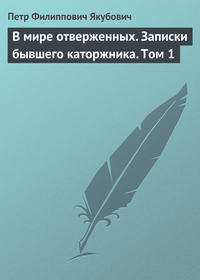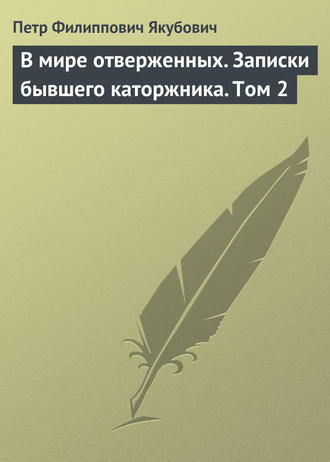 полная версия
полная версияВ мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
– Ну, что ж вы теперь, Ногайцев, делать станете? На родину вернетесь?
– Возворочусь, беспременно возворочусь. Дедушка у меня там… Шибко любил меня дедушка.
– Как же вы жить там станете, чем?
– Чудной ты, право, о чем спрашиваешь… Что ж, рук у меня, что ль, нету? Аль думаешь, коли я раз в жизни одну аль две сволочи убил, так скучать опять по остроге стану? Сам знаешь, Миколаич, я и в каторге лодырем не жил. Ну, ежели я жиром заплыл, так разве это от себя? Это болезнь. Это нездоровый жир; больной я человек стал в каторге… А дай-ка мне волю да вольную пищу, я опять настоящим человеком стану!
Чирок внимательно вслушивается в эти речи Ногайцева, и лицо его делается все серьезнее и важнее.
– Правду это истинную говорит Ногайцев, – заявляет он убежденным тоном, – в тюрьме разве может человек человеком быть?
–: А вы, Чирок, уж не будете больше черемисов давить? – невольно спрашиваю я, припоминая, что до тюрьмы этот человек был несравненно меньше человеком, нежели в тюрьме, спрашиваю – и почти тотчас же раскаиваюсь в своем вопросе.
Лицо Чирка принимает в высшей степени огорченный вид.
– Эх, Миколаич! – Он снимает шапку и энергично чешет затылок, и это "эх!" звучит чем-то вроде горького упрека.
Сами собой вспоминаются мне рассуждения Валерьяна о благоприятном для нравственного перерождения моменте: уж и в самом деле, нет ли в этих рассуждениях доли правды?
– Строй-ся! – раздался вдруг оглушительный возглас надзирателя, и все зашевелились. Арестанты почти моментально построились в ряды. Ворота распахнулись, и стройным шагом вошла в них целая рота местных казаков с молодым хорунжим впереди. Послышались и для них слова команды, и казаки выстроились направо от арестантов точь-в-точь такими же шеренгами. Очевидно, ожидалась внушительная и величественная церемония.
Едва надзиратель замолк, как в ворота вошли приехавший из завода старик священник с рослым, представительным дьяконом, казацкий есаул, толпа надзирателей и конторских писарей и во главе их Шестиглазый с бумагой в руках, при одном виде которой сердца в груди у всех дрогнули и сладко замерли. В заключение ввели вольнокомандцев-арестантов и построили на левом крыле отдельным взводом. Все это произошло быстро, с необыкновенной помпой и в величайшем порядке.
– Благослови, вла-ды-ко! – рявкнул дородный, плечистый дьякон, нарушая внезапно благоговейную тишину, и богослужение началось. Все, как один человек, шумно перекрестились широким крестом. Истово крестились даже те из арестантов, которые на словах не верили, что называется, ни в чох, ни в сон, походя богохульствовали и заявляли себя самыми крайними атеистами. Было ли это искреннее умиление, серьезная готовность возродиться? Влияло ли отчасти присутствие многочисленного начальства?..
Перед провозглашением многолетия к столу торжественно приблизился бравый капитан, медленно развернул таинственную бумагу, которую все время держал в руках, окинул ликующим взором строй бритых арестантских голов и громко произнес:
– Так вот что, братцы, дождались вы великой милости!.. Слушайте бумагу, полученную мной от военного губернатора.
Если бы муха пролетела в это время по тюремному двору, то, вероятно, и ее шелест был бы всеми услышан. Где-то далеко, за тюремными воротами, кто-то кашлянул; высоко в небе прощебетала ласточка…
Читал Лучезаров громко, необыкновенно отчетливо и выразительно, не только голосом, но взором и жестом руки подчеркивая следующие слова: "При условии хорошего поведения, искреннего раскаяния и доброго мнения начальства сроки наказания арестантов, назначенные им по суду, могут быть уменьшаемы до двух третей!!!"
У всех точно тяжелый камень свалился с плеч: теперь уже все собственными ушами слышали то, чему раньше приходилось верить лишь на основании только слухов, хотя бы и самых достоверных. Кобылка глубоко завздыхала, закрестилась и радостно заколыхалась…
– Слава тебе господи! – послышались возгласы старичков.
Лучезаров между тем продолжал чтение губернаторской бумаги по пунктам, хотя его никто уже не слушал и никто не понимал.
– Ну, так вот что: до двух третей скидывается вам! – торжественно возгласил он еще раз, окончив чтение и высоко подняв в воздухе бумагу.
Видимо, бравый капитан сам искренно ликовал. Багрово-красное лицо с длинными желтыми усами казалось на этот раз не грозным, а сияло умилением… Да и вся внушительная фигура Лучезарова приняла, казалось, меньшие против обыкновенного размеры, превратившись в фигуру обыкновенного смертного… Внимательно поглядев затем в обе стороны арестантских рядов, Шестиглазый быстрыми шагами подошел ко мне и, протянув бумагу, любезно сказал:
– Посмотрите еще раз и объясните им в камерах, если чего, быть может, не поняли.
Это было в первый раз, что он говорил мне без всяких обиняков вы при столь официальной обстановке.
Между тем священник, благообразный старик с длинными белыми волосами, тоже умиленно заговорил:
– Так вот, ребятушки, какая милость вам вышла! Может быть, некоторые из вас и не заслужили ее, а и тем будет сброшено две трети срока. Ну, помолимся же еще раз покрепче и потеплее.
И снова началось жаркое моление.
– Лебята, кто хочет сведи купить, белите! – кинулся толстый и красный, как кирпич, эконом к рядам арестантов с пучком восковых свечей в руках. Их живо расхватали у него (он отлично запомнил, кто именно). Брали не только благочестивые старички, но и равнодушный к религии "молодяжник", не только состоятельные люди, но и такие, за кем в конторе числилось не больше десяти копеек. Дьякон, зараженный общим энтузиазмом, просто надрывался, провозглашая многолетие, и когда могучий бас его загремел "многая лета" плененным, заключенным, а затем и их начальникам, то арестантский хор рявкнул в ответ ему так искренно, так громоподобно, что, вероятно, на дальних сопках было слышно его: по крайней мере паривший в небесной синеве в виде маленькой точки коршун тотчас же скрылся из моих глаз…
Бурной волной текла ликующая кобылка в коридор тюрьмы, окружая меня и громко требуя, чтобы еще раз прочитана была драгоценная бумага.
– По гуковкам, по гуковкам заучим! Читай, Миколаич, читай!
Мы с Штейнгартом теперь только переглянулись, и я увидал, что одна и та же мысль лежит у нас в глубине души.
– Стойте, братцы, – обратился я к толпе, едва подавляя собственное волнение, – тут ведь крупная ошибка выходит, недоразумение… Никаких двух третей нам не скидывается, а всего только одна треть, да и та не непременно целиком и каждому. Могут скинуть меньше, могут и совсем ничего не скинуть.{18}
– Что ты говоришь?! Смеешься, что ли, над нами?!!
– Нисколько не смеюсь; но и начальник, и священник, и вы все поняли бумагу не так, как следует.
За минутой ошеломленного молчания поднялся невообразимый гвалт. Раздались взбешенные голоса:
– Чего он плетет? Отуманить нас хочет!
– Не слухайте его, братцы! Мы ведь сами, своими ушами-то слышали!
– Возьмите у него бумагу, сами читайте. Кто грамотный?
– Эти люди всегда смуту сеют, всегда начальство замарать норовят! – уловил я в задних рядах звонкий голос Богодарова, каторжного из дворян, вышедшего когда-то из шестого класса Иркутской гимназии, за подлог угодившего в Среднеколымск, а оттуда за убийство в пьяном виде – в Шелайский рудник. Это был чахоточный, против всего на свете озлобленный и страшно самолюбивый человек, мнивший себя высоко образованным (а на самом деле не умевший писать грамотно) и глубоко ненавидевший меня, тоже бывшего дворянина, обладавшего подлинным образованием.
– Им неприятно, что правительство человеколюбие такое выказало! – громко, не стесняясь нас, продолжал кричать Богодаров, и можно было уловить там и сям сочувственное мычанье. Вслед за тем Богодаров куда-то скрылся. Оказалось потом, что он побежал докладывать Шестиглазому, что я с товарищами бунтую арестантов, объясняя им, что никаких двух третей нет и не будет, что это один обман. Он рассказывал потом кобылке, будто Шестиглазый, страшно рассердившись, закричал:
– Скажи ему (то есть мне), что я до сих пор просвещенным человеком его считал, а он оказался просто напросто… ослом!
Не знаю, выразился ли бравый капитан так энергично, но что он был сильно раздражен моим противоречием общему (и в том числе его, лучезаровскому) мнению – это мне достоверно известно.
Арестанты между тем продолжали волноваться и шуметь. Чем больше читали им бумагу собственные их грамотеи, тем сильней укоренялась в них уверенность насчет двух третей. Едва только чтение доходило до строк: "При условии и пр… сроки наказания арестантов, назначенные им по суду, могут быть уменьшаемы до двух третей", – как слушатели приходили тотчас же в неистовый восторг и, размахивая руками, с азартом кричали:
– Ну чего же он спорит? Ведь написано тут? Мы не глухие тоже… Аль уж дураками нас вовсе считают? Вот они, высокоумные… Учились, учились, да и ум-то уж за разум зачал заходить!
Многие из арестантов совсем даже перестали в эти дни разговаривать со мной и проходили мимо не здороваясь, как всегда прежде, и отворачивая в сторону голову, а некоторые, напротив, глядели нахально в глаза с нескрываемым выражением ненависти и презрения. И только сравнительно немногие сохраняли все время прежнюю теплоту отношений. Так, Кузьма Чирок говорил мне с добродушной укоризной:
– Посередь чурок лесных вырос я, Миколаич, и сам не более как пень пермяцкий… Что люди говорят, тому и верю. Ну, а все же, надо полагать, маху ты на этот раз дал! Уж очень знатко написано в гумаге-то – я даже понимаю, что две трети, а ты толкуешь – одна треть!
– Послушайте, Чирок. Если у меня, положим, не будет хлеба, а у вас я увижу целую краюху, подойду и скажу вам по-приятельски: "Кузьма, дайте мне хлеба, уменьшите свою порцию до двух третей". Вы сколько же оставите себе и сколько мне дадите?
– Ну… я и дам тебе третью часть, а себе две оставлю! – не задумываясь, решает Чирок.
– Так. Ну, а почему же там, где вам невыгодно оставить себе две трети, вы оставляете только одну?
В сильном волнении заскреб себе Чирок и голову и даже брюхо.
– Ах, Миколаич, Миколаич! Не раздражай ты моего сердца, замолчи!
В числе немногих других "сурьезных" и бывалых арестантов Юхорев также ни на йоту не изменил своего отношения ко мне с товарищами. Он, как всегда, рисовался своим каторжным презрением ко всякого рода милостям.
– А наплевать мне, – говорил он, тряся, как лев, своей могучей головой. – Дадут треть – возьму и треть, с лихой собаки шерсти клок… А впрочем, на себя самого всего лучше надеяться!
И, загнув крепкое словцо, он торопливо, по обыкновению, убегал легкой походкой по своим делам. Что касается, однако, смысла бумаги, то я не сомневался, что в глубине души он понимал его так же, как все.
По окончании одного из горячих споров моих с арестантами, в котором принимал участие и дежуривший в тот день надзиратель, Луньков таинственно отозвал меня в сторону и сказал:
– Иван Николаевич, я вполне готов верить вам. Конечно, куда же супротив вас не только нам, а и самому Шестиглазому. Но только одно я вам посоветую: держите про себя что думаете… Ну, вдруг до высшего начальства донесется? Спохватится оно и не даст нам двух третей… Нам же ведь лучше, ежели они неверно понимают…
И он так трогательно-умоляюще глядел на меня, произнося это, что я не в силах был даже засмеяться. Между тем Лучезаров, рассерженный в первых попыхах, начал, должно быть, размышлять. Когда на одной из вечерних поверок кто-то из арестантов спросил его, точно ли две трети прощаются каторжным, бравый капитан отвечал уже с некоторым смущением, бросив косвенный взгляд в мою. сторону:
– Я послал запрос заведующему каторгой… В губернаторской бумаге действительно несколько неясны на этот счет выражения… Во всяком случае, вопрос очень скоро будет разъяснен.
Петушков тоже не раз затевал со мной споры в руднике. Он понимал бумагу, как все, в пользу арестантов и полушутя, полусерьезно упрекал меня в самомнении, в желании во всем быть не таким, как другие.
– Я хорошо знаю, что вы ученые люди, а мы пни таежные, ну, а все-таки, ежели не мы, так ведь Монахов-то с Лучезаровым не меньше могут понимать?.. Они тоже чему-нибудь учились… Да, чего! Сам заведующий, слышно, объяснял, что скидывается две трети… Неужто ж никто, халудора, так-таки никто, кроме вас одних, во всей нашей Сибири читать не умеет?
– Не читать не умеют, Ильич, а настроились все в пользу двух третей – вот так и понимают. А вы вот что скажите мне: положим, вы бы девяносто рублей жалованья в месяц получали.
– Ох, ловко бы это, халудора, было!
– Положим теперь, что за какую-нибудь провинность вам уменьшили б это жалованье до двух третей. Сколько б вы тогда получать стали?
– Раньше, говоришь, было девяносто? Ну, понятно, осталось бы шестьдесят рублей.
– Ну вот сами видите, что по-моему и выходит.
– Как так? Что такое? Где по-твоему, халудора тебя заешь? – срывался с места Петушков и, продолжал спор, соглашался прозакладывать своего любимого коня Воронка против пятидесяти рублей с моей стороны…
Молва о том, что трое образованных арестантов заумничались, катилась, точно снежный ком, по шелайским окрестностям, и скоро об этом знали и говорили даже в заводе. Общественное мнение было не на нашей стороне, и все с явным злорадством поджидали решения высшего начальства, решения, которое должно было вконец пристыдить и опозорить нас!
– А что, Иван Николаевич, – шутливо говорил иногда Штейнгарт, – ведь самая большая неприятность будет теперь для нас, если начальство возьмет да и применит к нам две трети? Уж лучше, пожалуй, в тюрьме остаться, но зато в качестве победителей?
– Ну нет, я не согласен, – отвечал я, тоже шутя, – по-моему, лучше осрамиться, но две трети получить!
Время между тем шло. Большинство арестантов ждало, что выпускать из тюрьмы станут – самое позднее – несколько дней спустя, а некоторые были разочарованы, когда их не выпустили тотчас же после молебна и вечером надзиратели, как всегда, сделали поверку, прочитали наряд на работы и заперли камеры на замок. На другой день кто-то пустил слух, что из богадельни в Александровском заводе все арестанты давно уже выпущены и семидесятилетние богодулы, гуляя по кабакам, хвастливо шамкают беззубыми ртами:
– Мы еще загремим, братцы!..
Но слух этот был вскоре опровергнут. Дни шли за днями. Поверки, работы, весь строй каторжной жизни продолжался (своим чередом; умиленное настроение надзирателей и самого Шестиглазого сменилось прежней важностью и суровостью, и кобылка быстро начала падать духом. Втайне она продолжала верить в две трети, но явно все чаще и чаще слышались голоса:.
– Прав Иван Николаевич, прав: и одной трети понюхать не дадут! Какой тут может быть закон в Сибири? Одно слово – Шемякин суд!
В середине лета никто даже и не заговаривал больше о манифесте. О применении его не было ни слуху ни духу. Наконец, уже в сентябре месяце, разнеслась молва, что в Зерентуйском руднике двоим заключенным объявлена сбавка в две трети.
– В две трети?
– Да, – говорили с уверенностью вестники.
– Да как же так?.. Если это тот Малышев, которого я знаю, так ему и оставалось-то всего несколько месяцев, потому судился он на двенадцать лет.
– А я Сухопятова знаю, – подхватил другой из слушателей, – он в один день со мной судился, только мне одним годом больше дали… Значит, он и так уж пересидел, потому и мне на днях, почесть, срок выйдет!
– Какие же это две трети?
– Ну да, может, не тот Сухопятов – другой.
Но вот в один прекрасный вечер Лучезаров прочитал на поверке, что трое арестантов, находящихся в Шелаевской вольной команде, тоже выходят по манифесту на поселение. Про этих все уже отлично знали, что одному оставался до поселения месяц, двоим по два месяца! Каждая почта стали приносить после того подобные же скидки арестантам, большею частью из вольнокомандцев, сроки которых и без того, оканчивались в самом близком будущем, а один раз пришел приказ о годовой скидке арестанту, который накануне совсем окончил свою каторгу!..
Разочарование было полнейшее. Каторга громко негодовала. "Иваны" больше чем когда-либо бравировали, заявляя, что они все равно ни в каких милостях не нуждаются, а мелкая шпана ворчала, что сибирское начальство "украло" у нее две трети.
– Да уж одну б то хоть дали полняком, а то и одной ведь не выходит!
Решили обратиться за разъяснениями к Шестиглазому. Бравый капитан, как ни в чем не бывало, с превеликим апломбом отвечал:
– Мальчишеством было думать, что скинут целых две трети! Я тогда же предупреждал вас: не возлагайте слишком больших надежд, ждите разъяснения.
– Да хоть треть-то будет ли скинута, господин начальник?
– Треть непременно. Надо только очереди дождаться. Сразу ко всем применить манифест невозможно, вас ведь тысячи целые…
О той же физической невозможности говорил впоследствии шелайским арестантам и сам заведующий каторгой. Но я никогда не понимал ее, как не понимаю и до сих пор. В управлении Нерчинской каторги работают целые десятки чиновников всевозможных названий и окладов жалованья; между тем, я думаю, два-три хорошо грамотных и добросовестных писарька без особого труда могли бы в один какой-нибудь месяц подсчитать по статейным спискам сроки и сбросить с них треть всем трем тысячам человек, находившимся в Нерчинской каторге. Канцелярская же волокита умудряется употреблять на это довольно немудрое дело от одного до двух лет…
Жизнь вошла окончательно в обычную колею. Розовые иллюзии рассеялись. В течение целого года, "через час по столовой ложке", как острили арестанты, объявлялись скидки малосрочным. О долгосрочных, казалось, позабыли совсем. Конечно, при сбрасывании одной трети на их плечах оставалось все еще достаточное число лет каторги, и торопиться с объявлением им "милости" не было, пожалуй, особенной нужды, но недовольство долгосрочных имело и свою небезосновательную причину. Именно они надеялись (и мне самому надежда эта казалась законной), что не только весь срок уменьшен будет на одну треть, но в такой же мере сократится и срок "испытуемый", подлежащий отсидке в стенах тюрьмы и составляющий поэтому самую тяжелую часть каторги. Надежда эта, однако, рушилась, как и многие другие надежды, и по прошествии года Лучезаров объявил нам о полученном откуда-то разъяснении, что испытуемые сроки должны остаться точь-в-точь такими же, какими были и до манифеста.[8]
Это было одно из самых горьких разочарований для долгосрочных… Вечный, к которому применили манифест, становился двадцатилетним каторжным, двадцатилетний-тринадцатилетним, но малоутешительно было это сокращение в далеком будущем, когда в данный момент первому из них предстояло по-прежнему отсиживать в тюрьме одиннадцать, второму – семь лет с ошельмованной бритьем головой и закованными в кандалы ногами.
Но были еще и другие черты в применении к каторге манифеста, дававшие ей повод думать, что местное начальство "украло" у нее царскую милость. В манифесте было, правда, оговорено доброе поведение, раскаяние и другие условия его применения, и оговорку эту слышали все собственными ушами, но каждый понимал дело так, что во внимание принято будет его поведение лишь в ближайшее к изданию манифеста время, а отнюдь не все те провинности, какие были замечены и внесены в книгу живота{19} три, четыре и даже десять лет тому назад. Каково же было общее изумление, когда на деле все такие арестанты оказались изъятыми из манифеста, и прежде всего так называемые беглецы, то есть когда-либо делавшие попытку бежать с каторги. Суровость этого последнего изъятия особенно резко бросается в глаза, так как мне не раз уже приходилось указывать, насколько строго и подчас несправедливо караются нашим законодательством побеги и как бывает мрачна по своей полной безнадежности участь бегунов в каторге.
– Украло у нас манифест сибирское начальство! Шемякин суд! – говорила кобылка, в отчаянии махая рукой. – Эх, где наше не пропадало!..
Много забористой брани рассыпалось в эти дни по адресу начальства, но чуть ли не больше всех досталось старику священнику, на которого почему-то всю вину свалили.
– Долговолосый дьявол!.. "Ну, теперь, говорит, ребятушки, помолимся покрепче, – передразнивали его, кипя непонятной злобой, – потому и те из вас, которые того не заслуживают, и те получат две трети!.." О, грива твоя нечесаная, чтоб тебе пусто было! Получили!.. Две трети!.. У, жеребячья порода!
Беспощадно осмеивались также те из арестантов, которых видели ставившими свечи во время молебна. Уличаемые отпирались и, в свою очередь, указывали на других. Одни краснели конфузливо, другие свирепо огрызались.
Немало происходило по этому поводу забавных и вместе печальных сцен.
VI. На очной ставке
Население нерчинских рудников в последнее время сильно таяло независимо от манифеста благодаря частым выборкам здоровых арестантов на Сахалин и главным образом потому, что из России временно почти прекратился приток свежих партий (вероятно, также благодаря усиленному требованию их на Сахалин). Население Шелайского рудника редело не по дням, а по часам; не хватало здоровых арестантов для исполнения даже тех несложных функций, какие имелись в его повседневной жизни. Особенный недостаток чувствовался в мастеровых всякого рода. В гору наряжали совсем мало народа, и Монахов прекратил действие одной из шахт. Между тем из маленьких партий, время от времени продолжавших все-таки прибывать в Нерчинскую каторгу, в Шелай не назначили почему-то ни одного человека: арестанты объясняли это "варварской" славой бравого капитана и дурными отношениями к нему заведующего каторгой. Предполагалось, что Шестиглазый жить не может, "спать спокойно не может без нашего брата" и что этим игнорированием его тюрьмы ему можно насолить всего сильнее. Говорили, что он то и дело посылал "затребование" новых людей, и временами к нам присылали, действительно будто на смех, двух-трех старичков, которых давно уже следовало бы поселить в богадельню, кривых, хромых, не способных ни к какой работе и не знающих никакого ремесла. Лучезаров тогда рвал и метал и немедленно отсылал новую "партию" обратно, отзываясь, что у него нет свободных мест в лазарете.
С уменьшением числа сильных и здоровых элементов в тюрьме на места так называемых "домашних" рабочих, камерных старост, парашников, больничных и других служителей, тяжести работ которых Лучезаров не верил, все чаще и чаще ставились слабосильные старики и заведомые больные, сифилитики, чахоточные. Один только гигант Юхорев сумел как-то и в это время сохранить за собой место общего старосты, позволявшее ему целый день лежать на боку или слоняться без дела по тюрьме. Шестиглазый, очевидно, был чрезвычайно к нему расположен и, по рассказу самого Юхорева, говорил ему:
– На должности старосты непременно должен быть такой человек, как ты, – с хорошей глоткой и здоровым кулаком, чтобы живо можно было унять недовольных! Не допускай, чтобы в тюрьме слышалась воркотня на пищу или тяжесть работ. Чуть что, не докладывая мне, расправляйся сам с буянами.
– А по мне, пускай что хочет брешет, собачий сын! – прибавил от себя Юхорев, передавая такие поучения бравого капитана. – Я слушаю, да молчу. Что мне мешает вытянуться по-солдатски да гаркнуть: "Слу-шаю-с, господин начальник!" Душа из него вон.
И Юхорев продолжал быть тюремным царьком и все больше и больше забирать в свои руки власть над артелью. Это была вообще деспотическая натура. Ради соблюдения одной формы ходил он иногда по камерам и спрашивал: "Ребята, желаете ли того-то и того-то?" Но из самого тона, каким он задавал вопрос, сейчас же было видно, что ему самому кажется желательным, и ответ шпанки всегда был обеспечен. Случалось, что за глаза Юхорева не одобряли, поговаривали даже, что он заважничал и что нашлось бы, мол, из кого и другого старосту выбрать, но говорилось это несерьезно, так как отлично все понимали, что никто другой в тюрьме не в состоянии тягаться с Юхоревым ни в уме, ни даже во внешней представительности. Стоило только появиться в толпе арестантов могучей фигуре Юхорева, как все они начинали казаться перед ним мелкими мухами, самой заурядной шпанкой. Существовала также преувеличенная уверенность в том, что общий староста пользуется огромным влиянием на эконома, обдувает его в пользу артели и вообще держит в ежовых рукавицах. Мне самому действительно приходилось слыхивать в кухне, как Юхорев в глаза называл эконома шепелявым чертом, и тот только добродушно ежился да отшучивался. Но "шепелявый черт", со своей стороны, был достаточно пронырливая бестия, чтобы в чем-нибудь уступать самому хитрому и ловкому арестанту; восхищение кобылки умом своего старосты было чисто платоническим, никаких видимых благотворных для себя плодов от его победоносной политики тюрьма не видела; напротив, баланда в котле становилась с каждым месяцем все водянистее и безвкуснее, мяса все меньше и меньше; сало для каши то под тем, то под другим предлогом не выдавалось целыми неделями. Все это кобылка отлично видела и чувствовала, но личность Юхорева была слишком обаятельна и слишком подавляла всех, чтобы раздались наконец против него громкие протесты.